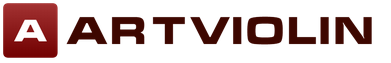Проблема художественности.
Художественность – это особое качество искусства, связанное с воздействием художественного образа. Художественность отличает искусство от других видов общественного сознания, форм культуры. Прежде всего такими формами является наука, философия, мифология и публицистика. Литература и наука различаются предметом познания: науку интересуют природные, общественные явления, имеющие универсальное значение. Наука стремится сформулировать объективные законы и главной формой научного познания является научный факт – это такая информация о мире, которая не зависит от субъекта восприятия. Художественный образ выражается не в законах и фактах, а в созданиях художественной фантазии. При этом художественный образ не универсален, а конкретен и не
повторим. Всякий другой художественный образ будет новым. Художественный образ отличается от философского познания: 1)философское познание сближается с художественным, поскольку формулирует непосредственный жизненный опыт.
В своем крайнем проявлении это выражается в экзистенциолизме и персонализме. Общими категориями для философии и искусства является судьба, смерть, смысл жизни, счастье, любовь и дружба как ее форма и т.д. А.Ф.Лосев говорил, что в России не существовало теоретической философии, зато существовала художественная литература, которая и была философией, т.к. разрабатывала эти вечные проблемы. Философия персонализма исходит из того, что все общие знания имеют смысл, знание только тогда, когда переживаются конкретной личностью: мир таков, каким мы его знаем, т.к. объективного образа мира не существует, и всякое новое знание меняет личность, а вместе с этим меняется и картина мира.
Художественный текст также формулирует персоналистический образ действительности.
Основная проблема художественности связана с критериями ее оценки. Самым общим критерием художественности принято считать образность. Второй, более узкий, связан со степенью художественного совершенства. При этом художественное совершенство исторически понималось либо как категория содержательная, либо как формальная. В 1-ом случае, художественность сближается с идейной значимостью произведения. В дидактических формах искусства идейная значимость связана с публицистической остротой или с воспитательным представлением о функции литературы, т.е. художественно ценно то, что воспитывает либо нравственный облик, либо гражданственность. Спорность такого представления связана с тем, что, передавая, продуктивная идея может развиваться напрямую, не в художественном образе. С другой стороны, художественность не тождественна художественной форме, т.к.
идея может обладать большой духовной силой и мысль в искусстве является разновидностью поэтики. Напр., это происходит в поэтике Достоевского, где полифонизм и строится на столкновении различных идей, т.е. жизнь идеи становится своеобразным героем художественного пространства; и Достоевского как художника интересует ее окончательное проявление. Бердяев называл романы Достоевского антропологическими экспериментами, в том смысле, что писатель искусственно создает ситуации и характеры, которые позволяют вскрыть сторону жизни, в том жизнь идеи, т.к. персонажи у Достоевского направляются определенной идеей. Художественный диалог как составная часть поэтики предполагает обмен идеями, обмен мыслями. И читатель в этот диалог включается также - – результате, возникает эстетическое взаимодействие, переживание. На самом общем уровне художественность связана с тем, что автор захватывает вечные проблемы, но раскрывает на конкретном, современном жизненном материале. Мастерство и проявляется в соединении конкретного и актуального с вечным и общечеловеческим. Критерий формы является 2-ой составляющей художественности и отношение к форме в истории искусства было различным. Нормативная поэтика воспринимает художественную форму как систему художественных средств – форма воспринимается как вспомогательная единица либо для иллюстрации идеи, либо для ее украшения. Нормативные поэтики содержали перечень в себе художественных средств, которые рекомендовалась использовать для построения художественного текста: напр., в «Риторике» Ломоносова есть раздел «Украшения». В реализме установился принцип соответствия содержания и формы. Форма, как таковая, была важна тем, что позволяла выполнять общеидейное воздействие на читателя. Критерий художественности (со времен Пушкина) связан с представлением о гармонии между содержанием и формой. Причем Пушкин гениально
осуществил принцип вкуса, который до него предложил Карамзин. Принцип вкуса предполагал наличие эстетического чувства, интуиции, и вкус противопоставлялся рациональному своду правил. Пушкин сформулировал вкус как «чувство соразмерности и сообразности». Критерий вкуса был связан с другим важным критерием – талантом. В нормативных поэтиках эта категория вообще не затрагивалась и не обсуждалась: считалось, что любой грамотный человек, овладев системой правил, может написать художественное произведение. Риторика была одной из основных дисциплин. Кроме нее в элитарных учреждениях преподавалось стихосложение. Критерий талантливости является одним из самых сложных и неоднозначных, потому что талантливость обычно связана с открытием чего-либо нового. Часто бывает, что современниками она оценивается позже. Талантливость принято противопоставлять гениальности. талант обычно связывают со способностью художественного воплощения, создания художественной формы, а гениальность – с открытием принципиально нового. При этом в искусстве существует понятие «непонятный, не осуществившийся гений»: открывая что-то новое, необычное, художник не смог подобрать соотвествующую художественную форму. В 18в. таким человеком был Тредиаковский, а в 20в. – В.Хлебников. В истории литературы обычно остаются те авторы, которые соединяются в своем типе творчества гениальность и талантливость. Оценка художественной ценности предполагает, с одной стороны, открытие чего-нибудь нового, а с другой стороны, передача этого нового соответствующим художественным языком, т.е. связь с традицией. Критерием художественности становится гармония между новаторством и традицией. При этом, в истории искусства наблюдается повторение и абсолютного новаторства практически никогда не бывает. По мнению психологов, человек не может в принципе создать ничего абсолютно нового; самое крайняя
фантазия, воображение – в конечном счете, комбинирование того, что уже существует. Это касается, в первую очередь, художественного новаторства. В эпоху модернизма форма из средства становятся художественной целью. Для модернизма важным становится не проблемно – тематический уровень, а то, как он эстетически осуществляется, воплощается. А.Ф.Лосев определяет модернизм как «искусство искусства», когда сама художественная техника становится предметом творчества. По-гречески, искусство говорилось как «технэ», т.е. техника. Модернизм стремился создать особый мир, который бы не ограничивался бы реалистическим жизнеподобием. В модернизме искусство стало мыслиться как самостоятельная, особая реальность, которая существует по эстетическим принципам, законам. Модернизм абсолютизировал форму, которая стала тождественна содержанию, т.е. образный язык – это и есть содержание произведения искусства, т.к. все остальное автор заимствует из действительности, а не создает. В этом смысле, все художественное произведение есть форма, т.к. художник ее и творим, создает. Критерий формы в таком ключе поднимает критерий языка (система слов, лексика), т.к. литературное произведение – это система слов, это текст и поэтому языковой критерий становится универсальным; абсолютным. Абсолютизация языка характерна для творчества Набокова, броского, которые утверждали, что искусство – это есть творчество языка (Бродский: «Я – это часть речи»). Языковой критерий наиболее последовательно осуществляет присутствие автора и в конечном счете определяет критерий стиля, а стиль охватывает и систему идей, и тип художественного мышления, и принадлежность к художественному направлению, и построение языка. По афоризму Бюфона – «стиль есть личность». Критерий художественности имеет историческую природу, подчиняется принципу историзма, поскольку каждая литературная эпоха вырабатывает свою систему оце
нок и произведение искусства должно рассматриваться в рамках той системы, в которой оно было создано. В отличие от науки, произведение искусства имеет непреходящую научную ценность: и новое произведение не отменяет собой предыдущее, т.е. в искусстве отсутствует прогресс в том смысле, что новейшее произведение искусства не лучше древнейшего. Критерий современности не определяет значимости искусства.
Художественность — сочетание качеств, определяющих совершенство произведений искусства. В 1860—70-е гг. понятие художественности часто трактовалось в связи с вопросом о правде в искусстве — . При этом критерии художественности понимались по-разному даже тогда, когда главным признаком ее полагалось единство идеи и формы. «Чем познается художественность в произведении искусства?» — спрашивал Достоевский. — «Тем, если мы видим согласие, по возможности полное, художественной идеи с той формой, в которую она воплощена» (18; 80). Аналогичное толкование давал и Добролюбов (например, в рецензии на сб. «Утро», 1859). Но, по Добролюбову, это согласие определялось исключительно верностью художника действительности, объективной правде жизни.
Достоевский полагал, что никакая невозможна без самобытной авторской мысли о мире. «...Художественность, например, хоть бы в романисте, есть способность до того ясно выразить в лицах и образах романа свою мысль, что читатель, прочтя роман, совершенно так же понимает мысль писателя, как сам писатель понимал ее, создавая свое произведение» (18; 80). Только тождественность смысла произведения замыслу художника сообщает произведению тот эмоциональный заряд, который обеспечивает ему долгосрочный эстетический эффект. Поэтому важнейшими условиями художественности, по Достоевскому, являются оригинальность замысла, складывающегося под сильными впечатлениями, пережитыми сердцем автора, и затем мастерство художника, его умение хорошо писать, означающее, по Достоевскому, не просто яркость, образность, поэтичность, а прежде всего точность и достоверность деталей — правдоподобие, делающее запечатленную автором картину самоочевидной, убедительной. В статьях начала 60-х г. ( , и др.) Достоевский все больше укрепляется в понимании того, что должны сойтись в диалектическом единстве два аспекта художественности: поэтическая мысль, ценность которой определяется заключенным в ней идеалом, и убедительность жизненного самопроявления. Последнее зависит от мастерства художника.
Достоевский страстно оспаривает мысль Добролюбова, будто бы иное произведение, не отвечающее строгим требованиям художественности, может быть все же полезным по идее, по направлению — «по делу»: «То-то и есть, что художественность есть самый лучший, самый убедительный, самый бесспорный и наиболее понятный для массы способ представления в образах именно того самого дела, о котором вы хлопочете, самый деловой, если хотите вы, деловой человек» (18; 93 — курсив Достоевского. — Прим. ред. ). Достоевский не просто декларирует эту мысль, а доказывает ее неоднократно разбором художнических неудач разных сочинителей и живописцев («Народных рассказов» М. Вовчка, картины Якоби «Партия арестантов на привале» и др.). По Достоевскому, в творческом процессе художественность созидается соединением непосредственной художественной интуиции и сознательной работы творца, причем отношения непосредственного и сознательного рассматриваются им как две последовательные стадии творчества: «первое дело поэта» — когда в душе создателя и творца рождается замысел — поэма, подобно драгоценному алмазу в недрах рудника (рождается не без воли и участия бога живого и сущего). «Затем уже следует второе дело поэта, уже не так глубокое и таинственное, а только как художника: это, получив алмаз, отделать и оправить его. (Тут поэт почти только что ювелир)» (29 1 ; 39 — курсив Достоевского. — Прим. ред. ).
Вопрос о художественном совершенстве произведений самого Достоевского долгое время оставался дискуссионным. Некоторые крупные писатели (И. Тургенев, Л. Толстой) и критики (Н. Добролюбов, Н. Михайловский) отрицали это совершенство, упрекали Достоевского в небрежности языка, неряшливости формы, искусственности изображений, словом, в нехудожественности, а ученые обычно обходили этот вопрос. Глубокое и оригинальное решение его дает Р.Г. Назиров: Достоевский сознательно отступает от классических канонов законченности, ясности, детерминированности ради большей художественной выразительности. Его искусство слова основано на диссонансах: например, на сочетании библейской риторики и вульгарной небрежности речи; он оформляет важные мысли средствами уличной экспрессии; он использует «затрепанный», штампованный фон: «словесную руду», фабульное «сырье» — для выражения могучего пафоса; он увеличивает степень неупорядоченности, непредсказуемости сюжета; его герои «манерны», потому что их поступки и жесты складываются в систему символических высказываний, он презирает средне-статистическое, являясь поэтом исключительных случаев и т.п. В итоге ученый приходит к выводу: «Достоевский враждебен всякому эстетизму. Разрушая прежнюю эстетическую систему, он конструирует эстетику режущей правды , т.е. основанный на болевом эффекте и диссонансах синтез эстетического удовольствия и неудовольствия, который повышает активность читательского восприятия, равно как и риск неприятия...» (Назиров Р.Г. Проблема художественности Ф.М. Достоевского // Творчество Ф.М. Достоевского: искусство синтеза. Екатеринбург, 1991. С. 152 — курсив Р.Н. ). «Достоевский принес правильность, законченность и детерминизм в жертву экспрессии и символу, чтобы заставить читателя смотреть в глаза ужасному и необъяснимому, и заменил флоберовы муки слова, вечную каторгу формального совершенства — муками мысли и совести, этим Освенцимом нашей «бессмысленной и ненормальной жизни», против которой он так яростно бунтовал» (Там же. С. 155).
Щенников Г.К.
Расстановка ударений: ХУДО`ЖЕСТВЕННОСТЬ
ХУДОЖЕСТВЕННОСТЬ - специфическое качество произведений иск-ва, форма прекрасного в иск-ве, высший вид эстетического. Понятие "X." не отождествляется с понятием "эстетическое", ибо йервое относится только к иск-ву, тогда как второе соотносится с представлением о прекрасном как качестве объективного мира. В широком смысле слова X. - искусствоведческая категория, обозначающая общий родовой признак иск-ва, к-рое, в отличие от других видов общественного сознания, является образным, т. е. художественным отражением жизни. Вне художественности нет иск-ва. Основа и источник такой X. - способность автора выражать мысли и чувства и вообще воспроизводить действительность в образной форме. В более узком (и специфическом с т. з. научного употребления) смысле слова X. - степень эстетического совершенства произведения, такая особенность изображения жизни, когда автором достигнуто определенное соответствие элементов художественной формы, обусловленной содержанием произведения. Вопрос о X. нельзя решить, исследуя лишь форму, ибо X. не сводится к последней, его решение вытекает из общего теоретического понимания проблемы содержания и формы. Но X. - это не вообще единство содержания и формы произведения, это именно соответствие, внутренний организация всех основных средств художественного изображения, мотивированная данным содержанием. Качество этой внутренней организации зависит от многих причин: от степени талантливости и творческой опытности, от мастерства автора, а главное от значимости идейной правдивости содержания художественного произведения, к-рая и является основным критерием X. Даже в произведениях талантливых художников нарушается логика повествования и элементы формы теряют свою художественную целесообразность, если авторы отходят от идейной правдивости в изображении жизни. Известен анализ Плехановым пьесы норвежского драматурга Кнута Гамсуна "У врат царства". Поскольку Гамсун руководствуется ложной идеей - в буржуазном об-ве классом, эксплуатирующим другие классы, будто бы оказывается пролетариат, - постольку попытки драматурга насытить трагическим пафосом переживания и жизненные ситуации интеллигента-индивидуалиста Ивара Карено лишены жизненной, а стало быть, и художественной убедительности. Понимание жизненной правды как главного критерия X. служит основой для определения существенных признаков, или "законов художественности" (Чернышевский). Главным законом следует считать соответствие формы содержанию. В этом смысле представляют интерес слова Гегеля: "Если же мы обратимся к вопросу, по какому праву вообще та или иная деталь, в частности, может быть введена в произведение искусства, то мы исходили из того, что к произведению искусства вообще приступают в связи с единой основной идеей, изображаемой этим произведением искусства" (Соч., т. XIV, 1958, с. 178). Этот тезис подчеркивает своеобразие "законов красоты" в иск-ве - в данном случае идейно-художественную целесообразность всех элементов повествования, к-рая и является основным признаком X. Произведение, созданное по такому "закону", отличается художественным единством, цельностью, внутренней связью всех компонентов. Из подобного произведения нельзя без ущерба его эстетическому достоинству изъять ни сцены, ни персонажа. Указанная целесообразность в произведении проявляется по-разному и очень сложно: в ее анализе недопустима прямолинейность. Одни сюжетные или, напр., предметные детали могут непосредственно выражать идеи произведения или выступать символическим обозначением психологического содержания изображаемого характера (знаменитый серебряный лапоть на столе у Павла Петровича Кирсанова из тургеневских "Отцов и детей", подчеркивающий лицемерный, показной характер народолюбия "человека с душистыми усами"), но, с другой стороны, столь же знаменитые "торчащие уши" Алексея Александровича ("Анна Каренина" Л. Толстого) в указанном смысле ничего не выражают, - эта портретная деталь, конечно, не характеризует сущности Каренина, она выполняет свою художественную функцию по-иному. Но в любом случае аналогичные детали только тогда свидетельствуют о X., когда они мотивированы какими-то сторонами содержания произведения. Важнейшим признаком X. лит-ры является совершенство поэтического языка. Оно не сводится к определенным речевым "нормам": простота или сложность поэтического синтаксиса, метафоричность или ее отсутствие, преимущество одних лексических средств перед другими и т. п. Многообразные особенности художественной речи приобретают эстетическую значимость только тогда, когда они осуществляют высокие идейно-художественные цели автора.
Степени X. различны и исторически относительны. Высшая степень ее - в единстве народности содержания и демократичности художественной формы со всей гармоничностью ее элементов. Форма имеет свои специфические свойства и закономерности (законы перспективы в живописи, законы мелодии в музыке и т. д.), она относительно самостоятельна и активна. Это, в частности, объясняет те редкие случаи, когда произведения, слабые в идейно-познавательном смысле, отличаются нек-рой относительной X. Далее представители упадочных течений в иск-ве достигают в своих произведениях ограниченной эстетической выразительности, если они умело владеют т. н. техническими средствами данного вида иск-ва, хотя эта выразительность не отличается особой силой и самодовлеющий культ формы, характерный для таких течений, в конечном счете ведет к разрушению и самой художественной формы.
Относительная самостоятельность и ценность формы объясняет, почему художнику, мыслящему прогрессивно и глубоко, необходимо в совершенстве овладеть многообразными и сложными образными средствами иск-ва. Как и для всех видов человеческой деятельности, профессиональное мастерство является непременным условием художественного творчества. Даже высокое идейное содержание, если оно выражено в примитивной форме, не доставит эстетического наслаждения. Но при этом жизненная правда в иск-ве всегда остается основой и источником подлинной X. "Прекрасное прекрасней во сто крат, увенчанное правдой драгоценной" (Шекспир). Не только прямое отступление от правды, но и неглубокое понимание автором жизненных проблем и характеров мстит эстетически и, может быть, не проявляясь в частных элементах формы, в главном вредит X. произведения.
Внутреннее единство глубокого осознания художником действительности и совершенство образной системы, передающей это осознание, - это и есть "законы красоты" в пск-ве, называемые X.
Лит.: Чернышевский Н. Г., Заметки о журналах, Поли. собр. соч., т. 3, М., 1947, с. 663; Лессинг Г. Э., Лаокоон, или О границах живописи и поэзии, М., 1957, с. 399 - 408; Шиллер Ф. О необходимых пределах применения художественных форм, Собр. соч., т. 6, М., 1957, с. 359 - 84; Гегель, Лекции по эстетике, кн. 3, Соч., т. XIV, М., 1958, с. 107 - 67, 174 - 90; Столович Л. Н., Эстетическое в действительности и в иск-ве, М., 1959, с. 222 - 56; Поспелов Г..Н.,-Эстетическое и художественное, М., с. 334 - 56.
П. Николаев.
Источники:
- Словарь литературоведческих терминов. Ред. С 48 сост.: Л. И. Тимофеев и С. В. Тураев. М., "Просвещение", 1974. 509 с.
ХУДОЖЕСТВЕННОСТЬ
Понятие художественности (как и определение «художественный») служит для указания на специфику искусства, его содержанием является то, что отличает данный род деятельности (способ мышления, область культуры) от философии и религии, от науки и публицистики, производительного труда и политики.
Иногда этим понятием пользуются также для оценочной характеристики художественных произведений 1 . Впрочем, по мысли И. Канта, во всех иных сферах деятельности «величайший изобретатель отличается от жалкого подражателя и ученика только по степени, тогда как от того, кого природа наделила способностью к изящным искусствам, он отличается специфически», что не позволяет говорить о степенях художественности, но лишь о дскугигаутости ее «рубежа», который «не может быть отодвинут» 2 .
Основу специфики искусства составляет его эстетическая природа. Творчество художника есть деятельность, удовлетворяющая эстетические потребности духовной жизни личности и формирующая сферу этических отношений между людьми. Художественность является высшей культурной формой эстетического отношения человека к миру, поскольку «эстетическое вполне осуществляет себя только в искусстве» 1 .
Своеобразие эстетического со времен автора первой «Эстетики» (1750) А. Баумгартена выявляется в его противопоставлении логическому. Если логический объект, логический субъект и то или иное логическое отношение между ними могут мыслиться раздельно и сочетаться подобно кубикам, то субъект и объект эстетического отношения являются неслиянными и нераздельными его полюсами. Предмет созерцания оказывается эстетическим объектом только в присутствии эстетического субъекта (математическая задача, например, остается таковой и тогда, когда ее никто не решает). И наоборот, созерцающий становится эстетическим субъектом только перед лицом эстетического объекта. К тому же логическое отношение безадресно (внесоциально), тогда как эстетическое есть чисто социальное отношение, оно неустранимо предполагает солидарный «взгляд из-за плеча», сознательно или бессознательно оглядывается на того, с кем бы субъект мог разделить свое восхищение, умиление, сострадание, насмешку, -на виртуального адресата.
Принципиальная неразъединимость субъекта, объекта и адресата эстетического отношения не снимает, однако, вопроса о его субъективных, объективных, а также интерсубъективных предпосылках. Объективной основой эстетического является целостность созерцаемого, его полнота и неизбыточность («ни прибавить, ни убавить»), именуемая часто красотой. Словом «красота» характеризуют по преимуществу внешнюю полноту и неизбьггочность явлений; между тем объектом эстетического созерцания может выступать и внутренняя целостность: не только целостность тела (вещи),"но и души (личности). Более того, личность как внутреннее единство духовного «я» есть высшая форма целостности, доступной эстетическому восприятию. По замечанию А.Н. Веселовского, эстетическое отношение к какому-либо предмету, превращая его в эстетический объект, «дает ему известную цельность, как бы личность» 2 .
Субъективную предпосылку эстетического отношения составляет эмоциональная рефлексия, способность душевной жизни человека к «переживанию переживания». Влюбленность, веселье, ужас и т. п. - первичные, непосредственные эмоциональные реакции - эстетическими не являются, субъективной стороной эстетического отношения выступает вторичное, опосредованное эстетическим объектом переживание влюбленности, веселья, ужаса и т. д. (Ср. миниатюру М.М. Пришвина «Порядок в душе» из книги «Глаза земли».)
Наконец, в качестве интерсубъективной предпосылки эстетического следует указать на его сообщительность, эмоциональную «заразительность», или, по словам И. Канта, «субъективную всеобщую сообщаемость способа представления» 1 .
Из перечисленных предпосылок эстетического отношения вытекают соответствующие законы искусства (законы художественности).
1. Закон целостности предполагает внутреннюю завершенность (полноту) и сосредоточенность (неизбыточность) художественного целого. В принципе это означает предельную упорядоченность формы произведения относительно его содержания как эстетического объекта; в тексте шедевра нет ничего случайного, безразличного, необязательного. Однако история литературы знает и такие неоконченные тексты («Кому на Руси жить хорошо» Н.А. Некрасова) или намеренно оборванные автором («отрывок» АС. Пушкина «Осень»), которые являются достаточными объективными предпосылками для возникновения внутренней целостности произведения и полноценного эстетического отношения к нему.
2. Эмоциальная рефлексия как своего рода «механизм» эстетического переживания порождает художественный закон условности. Даже самое жизнеподобное искусство сплошь условно (конвенциально, знаково), поскольку призвано возбуждать не прямые эмоциональные аффекты, но текстуально опосредованные «переживания переживаний». Если на театральной сцене, представляющей трагедию, прольется настоящая кровь, эстетическая ситуация будет разрушена. В соответствии с законом условности произведение искусства не сводится к тексту, а представляет собой некий конвенциональный мир.
3. Закон внутренней адресованности, вытекающий из предпосылки сообщительности эстетического, осознан теорией литературы относительно недавно. Лишь в XX в. становится ясно, что художественное целое, именно «как целое, всегда направляется к более или менее далекому, неизвестному адресату, в существовании которого поэт не может сомневаться, не усомнившись в себе» 2 . Внешняя адресованность литературного текста (посвящения, обращения к читателю) для искусства факультативна и отнюдь не характеризует его художественной специфики. Последняя состоит в том, что произведение - в силу своей условной целостности (замкнутости и сосредоточенности) -заключает в себе уготованную читателю-адресату внутреннюю точку зрения, с которой оно только и открывается во всей своей целостности.
«Искусство,- утверждал А.А. Потебня,- есть язык художника, и как посредством слова нельзя передать другому своей мысли, а можно только пробудить в нем его собственную, так нельзя ее сообщить и в произведении искусства»; содержание художественного произведения «действительно условлено его внутреннею формою, но могло вовсе не входить в расчеты художника», поэтому «сущность, сила такого произведения не в том, что разумел под ним автор, а в том, как оно действует на читателя или зрителя...» 1 . Эстетическая адресованность художественного целого состоит не в сообщении некоторого готового смысла, а в приобщении к определенному способу смыслопорождения. Произведение подразумевает адресата, для которого художественное восприятие станет не разгадкой авторского замысла, но индивидуальным путем к общему смыслу.
Поскольку художественность не сводится к эстетическому отношению, являясь сверх того сотворением новой (художественной) реальности, а также совершенно особой формой знания о жизни, непереводимой в логические понятия науки или философии, постольку в искусстве имеют место еще два закона.
4. Закон индивидуации (творческой оригинальности) предполагает, что только нечто поистине уникальное, невоспроизводимое может считаться произведением искусства, а не продуктом ремесленной деятельности. Ф.В. Шеллинг, подобно Канту, полагал, что «основной закон поэзии есть оригинальность» 2 . Оригинальность художественного творения не только служит самовыражением индивидуальной личности художника, но и апеллирует к шщ!видуальности восприятия, пробуждает и активизирует самобытность читателя, зрителя, слушателя.
5. С другой стороны, закон генерализации, трактуемый рядом теоретиков как «закон творческой типизации» 3 , усматривает в художественности предельную меру обобщения личностного опыта присутствия индивидуального человеческого «я» в мире. По Шеллингу, «чем произведение оригинальнее, тем оно универсальнее» 4 . «Вы говорите,- писал Л.Н. Толстой Н.Н. Страхову (3 сент. 1892 г.), - что Достоевский описывал себя в своих героях, воображая, что все люди такие. И что ж! результат тот, что даже в этих исключительных лицах не только мы, родственные ему люди, но иностранцы узнают себя, свою душу. Чем глубже зачерпнуть, тем общее всем, знакомее и роднее» 5 . Перефразируя строки Дж. Донна, ставшие общеизвестными после романа Э. Хемингуэя «По ком звонит колокол», можно сказать: не спрашивай, о ком написано литературное произведение,- оно написано и о тебе.
Художественные тексты способны запечатлевать самые разнообразные (в частности, научные) знания о мире и жизни, однако все они для искусства необязательны и неспецифичны. Собственно же художественное знание, по мысли Б.Л. Пастернака, доверенной романному герою, - это «какое-то утверждение о жизни, по всеохватывающей своей широте на отдельные слова не разложимое», а в то же время «узкое и сосредоточенное», в конечном счете, «искусство, в том числе и трагическое, есть рассказ о счастье существования» 1 . Предметом такого знания является специфическая целостность феноменов человеческого бытия: я-в-мире, или, говоря современным философским языком, экзистенция - специфически человеческий способ существования (внутреннее присутствие во внешней реальности). Всякое «я» уникально и одновременно универсально, «родственно» всем; любая личность является таким я-в-мире. «Чувство себя самого,- писал Пришвин,- это интересно всем, потому что из нас самих состоят "все"» 2 . Никакому логическому познанию тайна внутреннего «я» (ядра личности, а не ее оболочек: психологии, характера, социального поведения) в принципе недоступна. Между тем художественная реальность героя - это еще одна (вымышленная, условная) индивидуальность, чьей тайной изначально владеет сотворивший ее художник. Вследствие этого, по словам Гегеля, «духовная ценность, которой обладают некое событие, индивидуальный характер, поступок... в художественном произведении чище и прозрачнее, чем это возможно в обыденной внехудожественной действительности» 3 . Приобщение к знанию такого рода обогащает наш духовный опыт внутреннего (личностного) присутствия во внешнем мире и составляет своего рода стержень художественного восприятия. Все прочие обобщения, могущие иметь место в произведении искусства (психологические, социальные, политические), входят в состав художественного содержания лишь «в химическом соединении с художественной идеологемой» 4 . Этот чисто художественный компонент смысла есть эстетическая генерализация швдивидуального: «ценностное уплотнение» воображаемого мира вокруг «я» героя как «ценностного центра» этого мира 5 .
Искусство имеет собственные законы, но не знает каких-либо всеобщих рецептов следования этим законам. Ведь истинная художественность, согласно закону индивидуации, единична и невоспроиз-водима. Поэтому у нее нет никаких доступных описанию постоянных признаков (атрибутов). Окажем, и прозрачная ясность, и, напротив, затрудненность литературной речи могут быть показателями в одном случае гениальности художественного текста, а в другом -его недостаточной художественности. Отсюда распространившееся в XX в. понимание художественности как «эстетической функции», которую якобы может исполнять любой объект при соответствующей установке воспринимающего субъекта: «...для того чтобы возникло художественное произведение, необходимы определенная установка (точка зрения) и определенные требования общества, но сам предмет не обязательно должен чем-то выделяться из массы других («нехудожественных») предметов» 1 .
Однако творение, отвечающее всем законам искусства, небезразлично к такой установке. Быть произведением «художественным» означает быть -по своей внутренней адресованности -или смешным, или горестным, или воодушевляющим и т. д. Как любая, даже самая яркая индивидуальность неизбежно принадлежит к какому-либу типу, так и любое произведение искусства характеризуется тем или иным модусом художественности (способом осуществления ее законов). Эта объективно существующая в культуре дифференциация типов художественности подлежит научному анализу и систематизации.
Понятие «модуса» было введено в современное литературоведение Н. Фраем 2 , не разграничивавшим, однако, при этом общеэстетические типы художественности и литературные жанры. Между тем это разграничение, к которому впервые в европейской традиции пришел Ф. Шиллер в статье «О наивной и сентиментальной поэзии», весьма существенно. Текст бездарной трагедии полноправно принадлежит данному жанру как способу высказывания, но он не принадлежит искусству как способу мышления, поскольку не наделен трагической художественностью. С другой стороны, полноценной трагической художественностью могут обладать и роман, и лирическое стихотворение.
^ Героика, трагизм, комизм и другие «модальности эстетического сознания» 3 теорией литературы нередко сводятся к субъективной стороне художественного содержания: к видам пафоса, идейно-эмоциональной оценки, типам творческой (авторской) эмоциональности 1 . Однако с не меньшими основаниями можно вести речь о трагическом, комическом, идиллическом и т. п. типах ситуаций или героев, или «концепированных» читателей (соответствующих эстетических установках воспринимающего сознания). Бахтин говорил о героизации, юморе, трагедийности и комедийности как об «архитектонических формах» эстетического объекта, или «архитектонических заданиях» художественной целостности 2 .
Поскольку произведение искусства является текстуально воплощенным эстетическим отношением в неслиянности и нераздельности его сторон (субъект - объект - адресат), постольку ограничивать его эстетическую характеристику одной из этих граней было бы ошибочно. Модус художественности - это всеобъемлющая характеристика художественного целого, это тот или иной род целостности, предполагающий не только соответствующий тип героя и ситуации, авторской позиции и читательского восприятия, но и внутренне единую систему ценностей и соответствующую ей поэтику: организацию условного времени и условного пространства на базе фундаментального «хронотопа», через «ворота» которого совершается «всякое вступление в сферу смыслов» 3 , систему мотивов, систему «голосов», ритмико-интонаци-онный строй высказывания. Используя термин античной риторики «пафос», Гегель говорил об эстетической модальности художественного целого: «Пафос образует подлинное средоточие, подлинное царство искусства; его воплощение является главным как в произведении искусства, так и в восприятии последнего зрителем. Ибо пафос затрагивает струну, находящую отклик в каждом человеческом сердце» .
Зерно художественности составляет «диада личности и противостоящего ей внешнего мира» 5 . Этим «я-в-мире» обоснована эстетическая позиция автора, экзистенциальная позиция условного героя и ответная эстетическая реакция читателя (зрителя, слушателя). Развертыванием этой универсальной «диады» в уникальную художественную реальность рождается произведение искусства. «Я» и «мир» суть всеобщие полюса человеческого бытия, каждым живущим сопрягаемые в индивидуальную картину своей неповторимой жизни. Развертывание художественной целостности состоит в полагании различного рода многослойных границ, разделяющих и связывающих ее полюса: «Эстетическая культура есть культура границ <...> внешних и внутренних, человека и его мира» 1 . Способ такого развертывания -например, героизация, сатиризация, драматизация-и выступает модусом художественности, эстетическим аналогом духовно-практического модуса личностного существования (способа присутствия «я» в мире).
Дохудожественное мифологическое сознание не знает личности как субъекта самоопределения (стать «я» означает самоопределиться). Открытие и постепенное освоение человеком внутренней стороны бытия: мысли, индивидуальной души-личности и сверхличной одушевленности жизни -приводит к возникновению на почве мифа философии, искусства и религии. Миф - это образная модель миропорядка. Художественное мышление начинается с осознания неполного совпадения самоопределения человека (внутренняя граница личности) и его роли в миропорядке - судьбы (внешняя граница личности). Восхищенное (эстетическое) отношение вызывают подвиги -исключительные случаи совпадения этих моментов: совмещения внутренней и внешней границ экзистенции. Поэтизация подвигов, воспевание их вершителей-героев как феноменов внешне-внутренней целостности человеческого «я» кладет начало героике -древнейшему модусу художественности. Героическое «созвучие внутреннего мира героев и их внешней среды, объединяющее обе эти стороны в единое целое», 2 представляет собой некий эстетический принцип смыслопо-рождения, состоящий в совмещении внутренней данности бытия («я») и его внешней заданности {ролевая граница, сопрягающая и размежевывающая личность с миропорядком). В основе своей героический персонаж «не отделен от своей судьбы, они едины, судьба выражает внеличную сторону индивида, и его поступки только раскрывают содержание судьбы» 3 .
Первоначальное отделение эстетического отношения (еще не обретшего свою культурную автономию в искусстве) от морального и политического четко прослеживается в «Слове о полку Игореве». Публицистически осужденный за «непособие» великому князю киевскому, поход Игоря одновременно наделяется обликом подвига (чего нет в летописных версиях). Мотивировка похода - совпадение личного самоопределения князя с его служением сверхличному «ратному духу»: Игорь «истягну умь крьпоспю своею и поостри сердца своего мужествомъ, наплънився ратнаго духа». Роковое знамение ясно говорит ему о грядущем неблагополучии, однако герой не вопрошает о судьбе (как трагически повел себя Эдип); внутренне совпадая со своей ролевой границей, он воодушевленно устремляется навстречу ее внешнему осуществлению. Той же природы самозабвенное поведение в бою князя Всеволода и авторское любование этим поведением: «Кая раны дорога, братие, забывъ чти и живота, и града Чрънигова огня злата стола, и своя милыя хоти, красныя Глебовны, свычая и обычая!» Все перечисленные ценности миропорядка и частной жизни героя, вытесненные из его кругозора «ратным духом», в момент свершения подвига перестают быть значимыми и для автора: теряют статус границ внутреннего «я». Если, с политической точки зрения, никакое забвение «злата стола» (центр миропорядка) непростительно, то с художественной - оправданно: ведь это не забвение сверхличного ради личного, а «целостное» забвение всего непричастного к самоопределению здесь и теперь в заданных ролевых границах; это жертвенное забвение личностью и себя самой.
Психологическое содержание героического присутствия в мире - гордое самозабвение, или самозабвенная гордость. Героическая личность горда своей причастностью к сверхличному содержанию миропорядка и равнодушна к собственной самобытности. Гоголевский Тарас Бульба нимало не дорожит своей жизнью как отдельной жизнью. Но при этом очень дорожит, казалось бы, малостью -люлькой, видя в ней атрибут праведного («козацкого») миропорядка.
В качестве модуса художественности героика не сводится к жизненному поведению главного героя и авторской оценке его. В совершенном произведении искусства это всеобъемлющая эстетическая ситуация, управляемая единым творческим законом художественной целостности данного типа. Так, в «Тарасе Бульбе», как и в гомеровой «Илиаде», равно героизирована ратная удаль обеих борющихся сторон (чего еще нет на стадии становления художественности: в былинах и в «Слове о полку Игореве»). В малой эпопее Гоголя даже предательство совершается героически: с решимостью «несокрушимого козака» Андрий меняет прежнюю рыцарскую роль защитника отчизны на новую - рыцарского служения даме («Отчизна моя -ты!») и без остатка вписывает свое «я» в новую ролевую границу. Любить в этом героическом мире -тоже роль. Жена Тараса любит сынов своих поистине героически, самозабвенно олицетворяя собою некий предел материнской любви: «...она глядела на них вся, глядела всеми чувствами, вся превратилась в одно зрение и не могла наглядеться». Героично само патетически гиперболизированное и в сущности хоровое слово этого текста 1 .
Модус художественности может выступать как эстетической константой текста (в «Тарасе Бульбе»), так и его эстетической доминантой. Во втором случае эстетическая ситуация художественного мира и ее «ценностный центр» (герой) даны в становлении, в динамике. В послании Пушкина «К Чаадаеву» (1818) лирическое «мы» стремится к освобождению от ложных границ существования. В героической системе ценностей вписать свое имя в скрижали миропорядка («<...>И на обломках самовластья/Напишут наши имена!») и означает стать полноценной личностью. Тогда как в другом стихотворении Пушкина («Что в имени тебе моем?..») имя оказывается ложной границей личности лирического «я».
Кризис героического миросозерцания (в русской культуре вызванный феодальными междоусобицами и монголо-татарским нашествием) приводит к усложнению сферы эстетических отношений и отпочкованию от исторически первоначального модуса художественности двух других: сатирического и трагического.
Сатира является эстетическим освоением неполноты личностного присутствия «я» в миропорядке, т. е. такого несовпадения личности со своей ролью, при котором внутренняя данность индивидуальной жизни оказывается уже внешней заданности и неспособна заполнить собою ту или иную ролевую границу. Согласно Суздальской летописной версии, Игорь и Всеволод «сами поидоша о собе рекуще: мы есмы ци не князи же? такы же собе хвалы добудем», однако впоследствии при виде «многого множества» половцев «ужасошася и величанья своего отпадоша». Однако дегероизация сама по себе еще не составляет достаточного основания для сатирической художественности. Необходима активная авторская позиция осмеяния, которая восполняет ущербность своего объекта и созидает художественную целостность принципиально иного типа. «Возникает новая форма искусства», - говорит Гегель о комедиях Аристофана, где «действительность в ее нелепой испорченности изображается так, что она разрушает себя в самой себе, чтобы именно в этом саморазрушении ничтожного истинное могло обнаружиться как прочная сохраняющаяся сила» 1 .
Так, в финальной «немой сцене» гоголевского «Ревизора», имитирующей сцену распятия (не случайно за минуту до этого городничий восклицает: «...смотрите, весь мир, все христианство»), сакральная истинность незыблемого миропорядка проступает сквозь шелуху суетных амбиций. В дегероизированной системе ценностей имя личности оказывается пустым звуком, бессодержательной оболочкой «я» (ср. просьбы Бобчинского и Добчинского - о своих именах, обращенные к Хлестакову), а самозванство - стержнем сатирической ситуации. Настоящий ревизор-чиновник, чья фигура могла бы разрушить художественную целостность, так и не появляется, однако же с первых реплик пьесы смеховая «ревизия началась и идет полным ходом», так как «герои комедии, невольно проговариваясь о том, что хотят скрыть, обличают себя сами, но не друг перед другом, а перед художественно воспринимающим сознанием» 1 . Вследствие внутренней оторванности от миропорядка сатирическому «я» присуща самовлюбленность, неотделимая от его катастрофической неуверенности в себе. Этот психологический парадокс характеризует всех без исключения персонажей «Ревизора». Сатирик их ведет по пути самоутверждения, неумолимо приводящего к самоотрицанию (по преимуществу невольному).
Именно в акте самоотрицания сатирическая личность и становится сама собою, как это случилось с героем толстовской «Смерти Ивана Ильича». Самоотрицанием революции в ее внутренней субъективности организовано художественное целое поэмы А. Блока «Двенадцать» с ее сатирическим несоответствием «апостолов» нового миропорядка их высокой сверхличной заданности. (В связи с этими примерами следует подчеркнуть факультативность комизма для сатиры как эстетической доминанты.)
Сказанное о сатирическом относится не только к герою-объекту, но в равной степени и к субъекту, и к адресату сатирической художественности («Чему смеетесь? - Над собою смеетесь!» - обращается к публике гоголевский городничий).
Сатирический художник обретает право на пророческое слово суда над субъективной стороной жизни ценой искупительного самоосмеяния, «покаянного самоотрицания всего данного во мне» 2 . Так, лирический субъект сатиры Г.Р. Державина «Властителям и судиям» не возвышается над объектом осмеяния: «Цари! Я мнил, вы боги власт-ны,/Никто над вами не судья,/Но вы, как я подобно, страстны,/И так же смертны, как и я». Когда же добронравный автор гневно порицает злонравных персонажей, то в подобном случае мы имеем дело не более чем с публицистикой, нередко прибегающей к псевдохудожественной форме.
Трагизм -диаметрально противоположная сатире трансформация героической художественности. Для становления этого модуса художественности жанровая форма трагедии вполне факультативна; замечательный образец зарождения трагизма в русской литературе являет летописная повесть о разорении Рязани Батыем. Трагическая ситуация есть ситуация избыточной «свободы «я» внутри себя» (гегелевское определение личности) относительно своей роли в миропорядке (судьбы). Излишне «широк человек», как говорит Дмитрий Карамазов в романе Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы». Если граница личностного самоопределения шире ролевой границы присутствия «я» в мире, это ведет к преступлению (переступанию границы) и делает героя «неизбежно виновным» 1 перед лицом миропорядка. Трагическая вина, контрастирующая с сатирической виной самозванства, состоит не в самом деянии, субъективно оправданном, а в личности героя, в неутолимой жажде остаться самим собой. Так, Эдип в трагедии Софокла совершает свои преступления именно потому, что, желая избегнуть их, восстает против собственной, но лично для него неприемлемой судьбы.
Поскольку трагический герой шире отведенного ему места в мире, он обнаруживает тот или иной императив поведения не во внешних предписаниях, а в себе самом (Катерина в «Грозе» А.Н. Островского). Отсюда внутренняя раздвоенность, порой перерастающая в демоническое двойничество (черт Ивана Карамазова). В мире трагической художественности гибель никогда не бывает случайной. Это восстановление распавшейся целостности ценой свободного отказа либо от мира (уход из жизни), либо от себя, своей самости. Трагический персонаж, какова, например, Анна Каренина, по собственному произволу совершает гибельный выбор, «чтобы самой утратой своей свободы доказать именно эту свободу и погибнуть, заявляя свою свободную волю» 2 . Трагический модус существования альтернативен сатирическому; здесь самоотрицание оказывается способом самоутверждения.
Неустранимая двойственность трагического я-в-мире является не только смыслообразующим принципом данного модуса художественности, но и питает соответствующую поэтику. Задолго до последнего трагического жеста («...Избавлюсь от всех и от себя»), еще возвращаясь из Москвы к мужу (гл. XXIX первой части), Анна Каренина «слишком» хочет жить и одновременно слышит «внутренний голос» стыда за это; «глаза ее раскрываются больше и больше», «пальцы на руках и ногах нервно движутся», «подышать хочется»,- а «в груди что-то давит дыханье», нервы «натягиваются все туже и туже на какие-то завинчивающиеся колышки»; в забытье, где «страшно» и «весело», ее «что-то втягивало», но она «по произволу могла отдаваться ему и воздерживаться»; наконец, в полусне, Анна спрашивает себя: «И что сама я тут? Я сама или другая?». Вопрошание о себе - один из характернейших трагических мотивов, связывающий Эдипа и Гамлета, героев Расина и Достоевского. Оно вытекает из переживания самоценности личного бытия, неведомого героическому умонастроению.
Рассмотренные генерализации, возводящие архитектонику подвига, самозванства или преступления - с их глубинными хронотопами - в смыслопорождающую модель присутствия «я» в мире, едины в своей патетичности серьезного отношения к миропорядку. Принципиально иной эстетической природы непатетический комизм, чье проникновение в высокую литературу обновило (начиная с эпохи сентиментализма) всю систему модусов художественности.
Комизм, по М.М. Бахтину, развивался на почве карнавального смеха. Комическая личность так или иначе внеположна миропорядку (цурак, шут, плут, чудак), моделью ее присутствия в мире оказывается праздничная праздность - карнавальный хронотоп, в рамках которого ролевая граница «я» - уже не судьба или долг в их непререкаемости, а всего лишь маска, каковую легко сменить. Одной из наиболее ранних проб комической художественности в древнерусской литературе явилась «Повесть о Фроле Скобееве», где плутовская перемена ролевых масок (сопровождаемая частыми переодеваниями) выявляет безграничную внутреннюю свободу личности. Смеховое мироотношение несет человеку субъективную свободу от уз объективности, поскольку «провозглашает веселую относительность всего» 1 и, выводя живую индивидуальность за пределы миропорядка, устанавливает «вольный фамильярный контакт между всеми людьми» .
Комический разрыв между внутренней и внешней сторонами «я-в-мире», между лицом и маской («Да, да, уходите!.. Куда же вы?» - восклицает героиня чеховского водевиля «Медведь»), может вести к обнаружению подлинной индивидуальности или, по словам Жан-Поля, «той детской головки, что, словно в шляпной коробке, хранится в каждой человеческой голове» 3 . В таких случаях обычно говорят о юморе, делающем чудачество смыслопорожцающеи моделью присутствия «я» в «мире». Юмористическая апология индивидуальности достигается не путем патетического утверждения ее самоценности (трагизм), а лишь ее обнаружением в качестве некой внутренней тайны, несводимой ни к каким шутовским маскам. Так, в шутливом стихотворении Е А Баратынского «Ропот» и «мощно-крылатая мысль», прерываемая просто крылатой мухой, и «жаркая любовь», и позерство «мечтателя мирного, нег европейских питомца», а затем «дикого скифа»,-все суть маски, подвергаемые осмеянию. Неосмеянным остается лишь свободно играющее ими «я», скрытое под шелухой ролевого поведения личностное ядро жизни.
В отличие от сатирического, героя юмористического смех не уничтожает. Если сатирические персонажи «Ревизора» в финале замирают, то юмористический Подколесин в финале гоголевской «Женитьбы», напротив, оживает, становится самим собой, выпрыгивая из окна и одновременно из пустой ролевой маски жениха. Образцами юмористического комизма могут служить также пушкинские «Повести Белкина» как художественное целое, «Золотой теленок» И. Ильфа и Е. Петрова.
Однако комические эффекты могут и не обнаруживать лица под маской: на месте лица оказывается «органчик», как у градоначальника из «Истории одного города» М.Е. Салтыкова-Щедрина. Такого рода комизм уместно именовать сарказмом, имея в виду своеобразие модуса художественности, а не повышенную резкость осмеяния (как это нередко понимается). Здесь маскарадность жизни - это не мнимая роль в миропорядке, а мнимая личность. Саркастическое «я» есть нулевое «я», неспособное к присутствию в мире без маски (утрата гоголевским майором Ковалевым носа оказывается равносильной утрате личного достоинства). Данная модификация комизма (явленная, например, Чеховым в «Смерти чиновника» или - посредством тонкой иронии - в «Душечке», в комедии «Вишневый сад») напоминает сатиру, однако лишена сатирической патетичности. Пустота личного самоопределения обнаруживается здесь не по отношению к «субстанциональности» (Г.В.Ф. Гегель) миропорядка, а в ее соединении с пустотой ролевой маски: пошлости и «балагану» Кукин с «душечкой» противопоставляют не «Фауста», а «Фауста наизнанку» 1 . Родство сарказма с юмором в том, что высшей ценностью и здесь остается индивидуальность, однако если юмористическая индивидуальность скрыта под нелепицами масочного поведения, то саркастическая псевдоиндивидуальность создается маской и чрезвычайно дорожит этой видимостью своей причастности к бытию.
Отказ от «рефлективного традиционализма» (С.С. Аверинцев) 2 - эта своего рода эстетическая революция второй половины XVIII столетия - ознаменовался не только переходом европейского искусства к предромантической, а впоследствии романтической стадиям развития, но и возникновением ряда принципиально новых ее модусов. Осуществленный сентиментальным юмором отрыв внутреннего мира личности (субъективного миропорядка) от ролевых отношений внешнего мира актуализировал внеролевые границы человеческой жизни: природу, естественную смерть, «интимные связи между внутренними людьми» 3 . События частной жизни, выдвинутой искусством нового времени в центр художественного внимания, суть взаимодействия индивидуального самоопределения с самоопределениями других. Эта взаимодействия образуют событийные границы личности. Увиденная в этих границах, она предстает субъектом личной ответственности, а не исполнительницей сверхличного долга. Новые модусы художественности являются эстетическим освоением именно такого рода границ. Складываются ценностные механизмы смыслопорождения, где «мир» уже не мыслится как миропорядок, но как другая жизнь (природа) или жизнь других (общество). «Я», в свою очередь, предстает как личная заданность самореализации (стать самим собой), как пришедшая с сентиментализмом не только самоценность, но и «самоцельность личности» 1 .
Идиллический модус художественности зарождается на почве одноименной жанровой традиции. Однако, если идиллии античности являли собой героику малой роли в миропорядке, то идиллика нового времени состоит в совмещении внутренних границ «я» с его внероле-Лыми границами. Идиллическая цельность персонажа представляет |фобой нераздельность его я-для-себя и я-для-других: ответственность |перед другим (и остальной жизнью в его лице) становится самоопределением личности, как в «Старосветских помещиках» Гоголя 2 . Существо идиллической картины жизни не в смиренном благополучии, а в организующем ее способе существования, который JtJ.E. Хализевым по отношению к «Войне и миру» Л. Толстого был "назван «органической сопричастностью бытию как целому» 3 . Образцом идиллического присутствия в мире может служить импровизация народной пляски Наташей Ростовой: внутренняя свобода сочетается с добровольным подчинением традиционности танцевальных движений, принадлежащих общезначимому укладу национальной жизни. Смыслопорождающей моделью здесь является описанный Бахтиным идиллический хронотоп «родного дома» и «родного дола», в ценностных рамках которого снимается безысходность смерти, поскольку «единство места жизни поколений ослабляет и смягчает <...> грани между индивидуальными жизнями», обнаруживая текучие «силы мировой жизни». Именно им человек «должен отдаться», с ними он «должен слиться». Эта система ценностей «преображает все моменты быта, лишает их частного <...> характера, делает их существенными событиями жизни» 4 .
Элегический модус художественности вместе с идиллическим - разновидности сентиментальности, по терминологии Г.Н. Поспелова 1 ,- являются плодами эстетического освоения внутренней обособленности частного бытия (нередко в этом смысле употребляют излишне расплывчатый термин лиризм). Однако элегизм чужд идиллическому снятию такой обособленности («Признание» Е. Баратынского). Элегическое «я» есть цепь мимолетных, самоценных состояний внутренней жизни, оно неизмеримо уже любой своей событийной границы, остающейся в прошлом и тем самым принадлежащей не «мне», а всеобщему бытию других (пушкинское «Брожу ли я вдоль улиц шумных...»). Элегическое переживание есть «чувство живой грусти об исчезнувшем» (эпилог «Дворянского гнезда» И.С. Тургенева).
У истоков элегической художественности в русской литературе - творчество Н.М. Карамзина, писавшего в одной из своих элегий: «Ни к чему не прилепляйся/Слишком сильно на земле;/Ты здесь странник, не хозяин:/Все оставить должен ты» (антиидиллическое мироотноше-ние). В элегической системе ценностей вечность безграничного бытия предполагает пантеистическую тайну безличного Всеединого. На фоне этой тайны существование приобретает личностную целостность благодаря своей предельной сконцентрированности во времени и в пространстве (скамья, на которой Лаврецкий «некогда провел с Лизой несколько счастливых, неповторившихся мгновений»), дробящей жизнь на мгновения, тогда как идиллика лишь мягко локализует ее в малом круге повседневности. Элегическая красота - это «прощальная краса» (А.С. Пушкин) невозвратного мгновения, при воспоминании о котором, как принято говорить, сжимается сердце: элегическое «я» становится самим собою, сжимаясь, отступая от своих событийных границ и устремляясь к ядру личности, к субъективной сердцевине бытия (ср. тютчевское: «Молчи, скрывайся и таи...»). В противоположность идиллическому и комическому хронотопам элегический - это хронотоп уединения (угла и странничества): пространственного и/или временного отстранения от окружающих. Но в отличие от сатирического малого «я» элегический герой из своего субъективного «угла» любуется не собой (как Чичиков у зеркала), не своей субъективностью, а своей жизнью, ее необратимостью, ее индивидуальной вписанностью в объективную картину всеобщего жизнесложения. Когда Лаврецкий, «одинокий, бездомный странник», с «той самой скамейки» (угол своего рода) «оглянулся на свою жизнь», то «грустно стало ему на сердце, но не тяжело и не прискорбно». Такая грусть - это способ самоактуализации «я» в мире.
Вопреки элегическому «все проходит», как и идиллическому «все пребывает», драматизм в качестве модуса художественности (его не следует смешивать с драматургией) исходит из того, что «ничто не проходит бесследно и что каждый малейший шаг наш имеет значение для настоящей и будущей жизни». Так утверждает герой чеховской повести «Моя жизнь». Однако участие драматической личности в жизнесложении принципиально затруднено противоречием между внутренней свободой ее самоопределений и внешней (событийной) несвободой самопроявлений («Не дай мне Бог сойти с ума...» А. С.Пушкина). Онегин и Татьяна, Печорин, персонажи «Бесприданницы» А.Н. Островского, булгаковские Мастер и Маргарита, лирическая героиня М.И. Цветаевой страдают от неполноты самореализации; противоречие между «жизнью явной» и «личной тайной» свойственно героям рассказа «Дама с собачкой» и многих других произведений А.П. Чехова 1 . Образец драматической ситуации-в стихотворении Пушкина «Воспоминание».. Внутренняя широта лирического героя с избытком объемлет его внешнюю жизнь, «свиток» которой он мысленно развивает, как бы отстраняясь от событий, неадекватных его личности: «...И с отвращением читая жизнь мою,/Я трепещу и проклинаю...» В то же время герой не оспаривает своей причастности внешнему бытию, не снимает с себя ответственности: «...Но строк печальных не смываю».
Драматическая дисгармоничность близка к трагической, но между ними есть принципиальная разница: драматическое «я» противостоит в своей самоценности не миропорядку, а другому «я». Наивное разграничение драматизма и трагизма по призйаку доведенности/недоведен-ности конфликта до смерти героя не лишено некоторого основания, поскольку трагическое «я» есть неотвратимо гибнущая, самоубийственная личность-в силу своей избыточности для миропорядка. Драматическое же «я» в качестве виртуальной личности бессмертно, неустранимо как «реальная возможность <...> подавляемая <...> обстоятельствами» 2 , но не устраняемая ими.
Данный род эстетического отношения, зародившийся в предро-мантизме («Остров Борнгольм» Н.М. Карамзина) и развитый романтиками, чужд умилению (идиллико-элегической сентиментальности); его смыслопорождающая энергия - это энергия страдания, способность к которому здесь как бы удостоверяет личностность персонажа. Это сближает драматизм с трагизмом, однако трагическое страдание определяется сверхличной виной, тогда как драматическое -личной ответственностью за свою внешнюю жизнь, в которой герой несвободен вопреки внутренней свободе его «я». Имея общую с элегизмом почву в идиллике, драматизм формируется как преодоление элегической уединенности. В частности, это проявилось в разрушении жанрового канона элегии Пушкиным, когда, по ВА. Грехневу, «устремленность в мир другого «я» <...>подрывала психологическую опору элегии -интроценгрическую установку ее мышления» 1 .
Фигура другого, которая в лирических текстах иных модусов художественности может быть элиминирована, для драматизма приобретает ведущее значение. Драматический способ существования - одиночество, но в присутствии другого «я». Это не безысходное одиночество трагизма и элегизма. Поскольку внутреннее «я» шире любой своей внешней границы, то кажцая встреча чревата разлукой (если не внешним, то внутренним отчуждением), а кажцая разлука открывает путь к встрече (по крайней мере внутренней, как в стихотворении Пушкина «Что в имени тебе моем?..»). Ключевая драматическая ситуация - ситуация диалогической «встречи -разлуки» самобытного «я» с самобытным «ты». Драматический хронотоп не знает идиллической замкнутости «дома» и «дола», это хронотоп порога и пути. Однако в отличие от элегически бесцельного «странничества» драматический путь - это целеустремленный путь самореализации «я» в мире «других», а не пассивной его самоактуализации.
В организации художественного текста ведущая роль принадлежит двум риторическим стратегиям высказывания: патетике и иронии. «Вдохновение и ирония,-писал Зольгер,- составляют художественную деятельность» 2 . Пафос (этимологически - страдание, затем - страсть, воодушевление) состоит в придании чему-либо индивидуальному, личному всеобщего или сверхличного значения и служит для связывания внутренних границ я-в-мире с его внешними границами в единое целое. Ирония (этимологически -притворство), напротив, размыкает внутреннее и внешнее. Ироническое высказывание есть притворное приятие чужого пафоса, а на деле его дискредитация как ложного. Героике и идиллике ирония чужда. Однако все прочие модусы художественности в той или иной мере ее используют (в сочетании с патетикой). Наконец, романтики, придавшие иронии столь существенное значение в своей эстетической практике, открыли возможность чисто иронической (антипатетической) художественности.
Иронический модус художественности состоит в радикальном размежевании я-для-себя от я-для-другого (в чем, собственно говоря, и состоит притворство). В отличие от «соборной» карнавальности комизма иронический смех есть «как бы карнавал, переживаемый в одиночку с острым осознанием этой своей отьединенности» 3 . Принципиальное отличие иронии от сентиментальности и драматизма состоит во внутренней непричастности иронического «я» внешнему бытию, превращаемому ироником в инертный материал его самоопределения: «...захочу - «приму» мир весь целиком, упаду на колени перед Недотыкомкой, соблазню Беатриче; барахтаясь в канаве, буду полагать, что парю в небесах; захочу - «не приму» мира: докажу, что Беатриче и Недотыкомка одно и то же» 1 . При этом разъединение внутреннего «я» и внешнего мира имеет обоюдоострую направленность: как против безликой объективности жизни («толпы» в ее романтическом понимании), так и против субъективной безосновательности, безопорности уединенной личности («Защита Лужина» В. Набокова).
Ирония доминирует в художественной практике разнообразных модификаций авангардизма, включая современный постмодернизм. Собственно говоря, только придание иронии статуса самостоятельного модуса художественности позволяет причислять такие антитексты, как знаменитое «Дыр бул шил» А. Крученых, к области эстетической деятельности.
В литературе последних двух веков различные модусы художественности могут встречаться в рамках одного текста. Во всех подобных случаях эстетическая целостность достигается при условии, что одна из стратегий оцельнения художественного мира становится его эстетической доминантой, не ослабленной, а обогащенной преодолением субдоминантных эстетических тенденций (ср. субдоминантную роль комизма в углублении драматизма «Мастера и Маргариты» или элегического миропонимания персонажей для комизма «Вишневого сада»).
^
М.Н. Дарвин.
Способы актуализации законов искусства называют модусами (от лат. modus – мера, способ). Если парадигмы художественности характеризуют преходящие литературные эпохи и направления, то модусы художественности отличаются трансисторическим характером. Героика, трагика, комизм, идиллика, элегия, драматизм, ирония представляют собою типологические модификации эстетического сознания. Любое художественное произведение обладает эстетической модальностью.
В области теории литературы модусы художественности применяются не только к субъективной стороне художественного содержания (к видам пафоса идейно-эмоциональной оценки или типам авторской эмоциональности), но и к типам ситуаций, героев, установкам восприятия читателя (субъект–объект–адресат). Этот способ видения данной теоретической проблемы излагается в работах М.М.Бахтина, В.И.Тюпы, Л.Е.Фуксана. Каждый модус художественности, – считают исследователи, – предполагает свою внутренне единую систему ценностей и соответствующую ей поэтику: организацию условного времени и условного пространства, систему мотивов, систему «голосов», ритмико-интонационный строй текста. Ядром художественно-эстетической системы является «диада личности» и противостоящий ей внешний мир: я-в-мире.
Героика.
Если дохудожественное мифологическое сознание не знает личности как субъекта самоопределения, то художественное мышление древнейших литератур всегда стремилось воспеть героя и его подвиги, и этим положило начало первому из модусов художественности – героике (от греч. heros – полубог). Героическое созвучие внутреннего мира человека и внешнего миропорядка объединяет эти две стороны художественного мышления в единое целое. Совмещение внутренней данности бытия «я» и его внешней заданности (т.е. роли в мире) образует героический модус художественности.
Описывая этот модус художественности, ученые считают, что героическая личность горда своей причастностью к сверхличному содержанию миропорядка и равнодушна к собственной жизни. В героическом строе художественности выделяется патетическое гиперболизированное – «хоровое» – слово. В «Слове о полку Игореве» этот тип художественного сознания выступает в качестве эстетической константы текста, в повести Н.В.Гоголя «Тарас Бульба» – эстетической доминанты. В «Слове о полку Игореве» героические персонажи (князья Игорь, Всеволод и княгиня Ольга) изначально подаются автором как герои, в повести Н.В.Гоголя «Тарас Бульба» – эстетическая ситуация художественного мира и ее ценностный центр (субъект) – показаны не в статике пребывания я-в-мире, а в динамике становления.
Кризис героического миросозерцания, вызванный в русской культуре междоусобными войнами и татаро-монгольским нашествием, приводит художественный способ видения к усложнению сферы эстетических отношений. От строя художественности «отпочковываются» два других способа видения субъекта-объекта-адресата: сатирический и трагический.
Сатира.
Сатира (от лат. satura – смесь) представляет собою неполноту личного присутствия «я» в миропорядке. С точки зрения Тюпы, такая неполнота характеризуется «несовпадением личности со своей ролью»: внутренняя данность индивидуальной жизни оказывается уже внешней заданности. В сатирическом модусе художественности личность (герой, персонаж) неспособна заполнить собою ту или иную ролевую границу. Тюпа считает, что дегероизация сама по себе еще не составляет достаточного основания для сатирической художественности. Здесь необходима активная авторская позиция осмеяния, восполняющая ущербность героя (объекта) и тем созидающая художественную целостность иного типа. Так происходит в комедиях Аристофана, Н.Гоголя, повести Л.Толстого «Смерть Ивана Ильича» и др. произведениях названого типа. Например, в дегероизированной системе ценностей «Ревизора» самозванство является стержнем всей сатирической ситуации, а Хлестаков оказывается всего лишь самозваной претензией на действительную роль в миропорядке, – говоря словами Гегеля, – «пустым разбуханием действительности». Сатирическому «я» одновременно присущи и самовлюбленность и неуверенность в себе. Сатирик ведет персонажей по пути самоутверждения, которое приводит их к самоотрицанию. Именно в ситуации самоотрицания сатирическая личность становится сама собою, как это происходит с мнимым ревизором или Иваном Ильичом. Выводы о сатирической личности в равной степени относятся и к герою (объекту), и к субъекту (автору), и к адресату (публике) повествования этого модуса художественности. В качестве примера, иллюстрирующего сатирический способ художественности, приведем слова городничего обращающегося к публике из комедии «Ревизор»: «Чему смеетесь? – Над собою смеетесь!»
Трагизм.
Трагизм (от гр. tragodia – козлиная песнь) – обратная трансформация сатирического видения героического модуса художественности. Лучшим образцом становления трагизма в отечественной литературе считается «Повесть о приходе Батыя на Рязань». Формула трагической ситуации – избыточная «свобода «я» внутри себя». Иллюстрацию принципа художественности трагического я-в-мире находим в словах Дмитрия Карамазова у Ф.М.Достоевского: «широк человек». Тюпа характеризует этот тип художественности (с опорой на труды Шеллинга) следующим образом: «Если граница личного самоопределения оказывается шире ролевой границы присутствия «я» в мире, это ведет к преступлению (переступанию границы) и делает героя «неизбежно виновным» перед лицом миропорядка. Трагическая вина, контрастирующая с сатирической виной самозванства, заостряется в личности как неутолимая жажда остаться самим собой». В пьесе А.Н. Островского «Гроза» Катерина, чувствуя свою несмываемую вину, обжигающую любовь к Борису, уже не может вернуться в дом Кабанихи и жить прошлыми заботами.
В трагическом модусе художественного видения внутренняя раздвоенность персонажа перерастает в демоническое двойничество. Так, душевный демон Евгения Арбенина в драме М. Лермонтова «Маскарад», как и черт Ивана Карамазова в романе Ф. Достоевского «Братья Карамазовы», не дают покоя героям, затмевают их ум и сердце.
Данный эстетический способ понимания духовной реальности активно пользуется мотивом самоотрицания личности, который оказывается здесь в качестве самоутверждения героя (такова концепция образа Анны Карениной в одноименном романе Л.Толстого). Безысходная двойственность личности является не только смысловым принципом организации художественного текста, но и стилеобразующим его фактором. В этом строе художественности вопрошание о себе становится характерным мотивом, организующим личное бытие персонажа. Принцип «внутреннего голоса» героя подчеркивает самоценность его существования. Анна Каренина спрашивает себя: «И что сама я тут? Я сама или другая?» – и тем самым входит в общий ряд героев Эдипа, Гамлета, Расина, Достоевского, – трагических личностей в мировой литературе.
Комизм.
Совершенно другой тип эстетической значимости – комизм (от гр. komos – процессия ряженных). По мнению М. Бахтина, комизм сформировался на почве карнавального смеха. Моделью присутствия личности в мире оказывается «праздничная праздность», в которой ролевая граница «я» – маска. Комическая личность (дурак, плут, шут и проч.) несовместима с привычным миропорядком. Примерами комической художественности в отечественной литературе могут служить древнерусские произведения «Повесть о Фроле Скобееве», «Сказание о роскошном житии и весели», где шутовские перемены масок обнажают безграничную внутреннюю свободу личности.
В мировой литературе случаев появления открытого чудачества множество. Например, в водевиле А.П.Чехова «Медведь» восклицание героини: «Да, да уходите!.. Куда же вы?» – дает исследователям право говорить о юморе (от анг. humour – причуда) как смыслопорождающей модели присутствия я-в-вмире.
Часто комические эффекты проявляются в ситуации отсутствия лица под маской, как в построении образов градоначальников у М.Е.Салтыкова-Шедрина в «Истории одного города». Мнимая личность, такая как майор Ковалев в повести Н.В. Гоголя «Нос», «равная нулю»; она не способна обнаружить себя в мире без маски, – пишет Тюпа. Этот сарказм (от гр. sarkaso – терзаю) открывает новую миру псевдоиндивидуальность, которая чрезвычайно дорожит этой «видимостью причастности к бытию». Данную модификацию комизма можно обнаружить в произведениях А.П.Чехова «Смерть чиновника», «Душечка», «Вишневый сад» и др.
Эстетическая революция, произошедшая на рубеже XVIII–XIX вв., ознаменовалась переходом европейского искусства к предромантической и затем романтической стадиям своего развития и обновлением всей системы эстетических модальностей. Теперь в центре художественного внимания частная жизнь определялось внеролевыми границами человеческой жизни (природа, смерть, отношения между людьми и проч.), а событийные границы («мир») мыслились как другая жизнь или жизнь других.
Идиллический.
Идиллический (от гр. eidyllion – картинка) строй эстетического сознания, выделившийся в XVIII–XIX вв., закрепляется на почве одноименного жанра. Ученые дают название идиллическому строю художественности – идиллика – по аналогии с героикой (для отграничения от жанра идиллии).
Современные ученые считают, что для идиллики Нового времени характерно совмещение внутренних границ «я» с его внеролевыми, событийными границами. И.А. Есаулов в работе «Спектр адекватности в истолковании литературного произведения («Миргород» Гоголя)» сообщает, что идиллический персонаж представляет собою неразделенность я-для-себя от я-для-других. В «Старосветских помещиках» Н.В. Гоголя «индивидуальная ответственность» персонажа перед «своим другим» и всей остальной жизнью становится самоопределением личности. Образом идиллического присутствия в мире может служить, по мысли Тюпы, импровизация простонародной пляски Наташи Ростовой (роман Л. Н. Толстого «Война и мир»), у которой «внутренняя свобода» совпадает с добровольным подчинением традиционности танцевальных движений и общезначимому укладу национальной жизни.
В работах по проблемам эстетики и литературы Бахтин указывал, что хронотоп родного дома и родного дола обостряет ощущение «силы мировой жизни», «преображает все моменты быта, лишает их частного характера, делает их существенными событиями жизни».
Элегический.
Элегический (от гр. elegos – жалобная песня) строй художественности – результат эстетического переосмысления «внутренней обособленности частного бытия». В литературе примерами этого эстетического преобразования могут служить следующие стихотворения: Е.А.Баратынского «Признание», А.С.Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», М.Ю.Лермонтова «Выхожу один я на дорогу…», Н. М. Языкова «Меня любовь преобразила…» и др.
Элегическое «я» состоит из цепи мимолетных состояний «внутренней жизни», «живой грусти об исчезнувшем», «прощального настроения», «таинства печали». «Я» уже «событийной границы», которая осталась в прошлом и принадлежит «всеобщему бытию других».
В русской литературе элегический модус художественности зародился на почве сентиментализма в творчестве Н. М. Карамзина. Тюпа отмечает, что в этой системе ценностей вечность безграничного бытия предполагает пантеистическую тайну безличного Всеединого. На фоне этой тайны любое существование приобретает «личную целостность» благодаря своей предельной концентрированности во времени и пространстве. Идиллика комфортно вписывает жизнь персонажа в «ближайший круг
повседневности».
В качестве иллюстрации идиллического существования «я» приведем пример из романа И. С. Тургенева «Дворянское гнездо». Скамья, на которой Лаврецкий провел с Лизой самые лучшие минуты своей жизни, символизирует собою то место во времени и пространстве, которое и дает герою указанную целостность, а всему содержанию – завершенность элегической картины.
Хронотоп уединения, характерный для этого модуса художественности, в отличие от сатирического любования собой (например, сцена с Чичиковым у зеркала) предполагает любовное созерцание прошлой жизни, – говоря словами Тюпы, – «индивидуальную необратимость в объективной картине «всеобщего жизнесложения»».
Светлая грусть элегического «я» отчетливо проступает в эпилоге «Дворянского гнезда»: «Лаврецкий вышел из дома в сад, сел на знакомой ему скамейке – и на этом дорогом месте, перед лицом того дома, где он в последний раз напрасно простилал свои руки к заветному кубку, в котором кипит и играет золотое вино наслажденья, – он, одинокий, бездомный странник <…> оглянулся на свою жизнь. Грустно стало ему на сердце, но не тяжело и не прискорбно: сожалеть ему было не о чем, стыдиться – нечего».
Драматизм.
Драматизм (от гр. drama – действие) не следует отождествлять с драматургией. Если элегические настроения можно свести к словесной формуле «все проходит», идиллические – «все пребывает», то драматическое расположение духа исходит из того, что «ничто не проходит бесследно и каждый шаг важен для настоящей и будущей жизни».
Драматические герои вступают в бесконечные противоречия между внутренней свободой (личной тайной) и внешней (событийной) несвободой самовыражения. Здесь внутреннее «я» шире «внешней данности» их фактического пребывания в мире. Онегин, Печорин, как и бесчисленные персонажи А. Чехова, М. Булгакова, Б. Пастернака, героини М. Цветаевой, А. Ахматовой и др. писателей XIX–XXI вв. страдают от «неполноты самореализации» (Тюпа).
Образцы драматического модуса эстетического сознания находим в творчестве Александра Пушкина и Антона Чехова. Так, в стихотворении Пушкина «Воспоминание», лирический герой не оглядывается на жизнь, как Лаврецкий, а «развивает свиток» жизни в собственном сердце. В рассказе Чехова «О любви», не снимая с себя ответственности за происходящее тогда и сейчас – долгие годы томительной любви и прощальный, страстный и открытый поцелуй в вагоне – его персонаж понимает, «как ненужно, мелко и как обманчиво было все то, что нам мешало любить…».
Если трагическое «я» – это самовлюбленная личность, то драматическое «я» – это «внутренне бесконечная, неуничтожимая, неустранимая реальность», которой угрожает лишь разрыв внешних связей с бытием, как было показано в романе М.Булгакова «Мастер и Маргарита». Смерть главных героев произведения (художника и его возлюбленной) иллюстрирует читателю их бесконечное пребывание в мироздании через символический уход с Всадником.
Страдания героя сближает драматизм с трагизмом. Если трагическое страдание определяется, по словам Тюпы, «сверхличной виной», тогда драматическое – личной ответственностью за свою «внешнюю жизнь», в которой герой не свободен.
Драматизм складывается как преодоление элегической уединенности; для него характерен хронотоп порога и пути. Центральная драматическая ситуация концентрируется вокруг последовательной смены встреч и разлук персонажей.
Ирония.
Ирония (от гр. eironeia – притворство) в качестве модуса художественности акцентирует внимание на «размеживании я-для-себя от я-для-другого». Ирония в отличие от сентиментализма и драматизма представляет собою непричастность «я» всему внешнему миру. По словам Бахтина, ироническое мироотношение – «как бы карнавал, переживаемый в одиночку, с острым осознанием своей отъединенности».
В работе «Модусы художественности» Тюпа указывает, что разъединение «я» и «мира» обнаруживает враждебную двунаправленность, как против окружающей действительности («безликой объективности жизни», «толпы»), так и против самого себя («субъективной безосновательности, безопорной уединенной личности»). Это особенно ярко
проступает в мировой литературе XX в. в произведениях отечественных классиков А.А.Блока, В.В.Набокова, в литературе русского зарубежья, например у И.И.Савина, Б.Ю.Поплавского.
В ироническом способе художественного видения субъект способен занять позиции, как со стороны романтического самоутверждения, так и со стороны трагического самоотрицания: в стихотворениях М.Ю. Лермонтова «Нет, не тебя так пылко я люблю…», А.А. Блока «Предчувствую тебя. Года проходят мимо…», «Соловьиный сад», З.Н. Гиппиус «Бессилие» этот способ особенно заметен при сопоставлении художественной картины, воссоздающейся в них. Иногда ирония может совпадать с сарказмом.
В литературе XX в. ирония становится основным способом художественного видения. Данная точка зрения дала право читателям, исследователям причислить тексты А.П.Квятковского, В.В.Каменского, А.Е.Крученых и др. футуристов к области эстетической деятельности.
Перечисленные способы художественности часто встречаются в литературе XVIII–XXI столетий, могут взаимодействовать друг с другом в рамках одного произведения. Так,
комизм романа «Собачье сердце» Булгакова оттеняется драматическим миропониманием его персонажей, а элегический внутренний настрой героев пьесы Савина «Молодость» обогащает трагическую доминанту, реализуемую в тексте произведения.