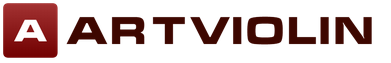Томит меня немая тишина.
Томит гнезда родного запустенье.
Я вырос здесь. Но смотрит из окна
Заглохший сад. Над домом реет тленье,
И скупо в нем мерцает огонек.
Уж свечи нагорели и темнеют,
И комнаты в молчанье цепенеют,
А ночь долга и новый день далек.
И.А. Бунин «Запустение».
Эта пьеса - символ чего-то, что разгадывают уже целый век; в каждую эпоху (и даже у каждого) - своя разгадка. «Вишневый сад» двигался вместе с веком, менялся, мерцая, словно кристалл - или мы, сами меняясь, видели его всякий раз иным зрением. Открывалось что-то важное в нас, во времени, в пьесе; решался заново некий, предложенный Чеховым тест .
Вряд ли этот тест в разгадке жанра (спор Чехова со Станиславским - драма или комедия? - давно решен театром в пользу обоих), скорее - в чем-то ином. Но тут уж автор не виноват; при всей своей хитроумной скрытности, он не всегда играл с нами в прятки. Случалось, что он свой тест предлагал открыто, вынося его и в название - Чайка или Вишнёвый сад . Это мы порой искали смысл совсем не там, где нужно. И толковали о смене формаций; о том, кто лучше - купцы или дворяне, и чем им грозят разночинец, «вечный студент» и «облезлый барин»; и все гадали - за кем тут, собственно, «новая жизнь»?
Спору нет, основания тому были - в самой пьесе, в исторической расстановке сил. Но это лишь верхний сюжетный слой, у Чехова прикрывающий главное - тему Сада как чего-то заветного, нематериального и необходимого. Ее расслышали в начале века; потом, под натиском злобы дня, она сменилась социологией, и долгое, великое заблуждение охватило начальственные умы. «Вишневый сад» был признан самой советской из чеховских пьес, занял почетное место в списках дозволенного к исполнению Реперткомом. Шел часто; включен был и в школьную программу, как нечто ясное, безопасное и своё. То, что игралось во МХАТе, где «Вишневый сад» жил долго, как остановленное мгновение, как чудом сохранившийся шлейф прежней жизни, понять не умели или не смели.
Потом не стало и этого, но не бесследно. Росток из мхатовского Сада пророс в другом месте, в иное время - в середине 60-х годов, в воздухе первой свободы, когда мы ощутили причастность свою к человечеству, с массой общих проблем. Бывшая мхатовка Мария Кнебель увидела в «Вишневом саде» вечную и простую историю, почти притчу, о том, что может случиться с любым и каждым из нас; о грусти потерь и стойкости душевной. Образ Сада, легкий и поэтический, как воспоминание, видение, как мечта, возникал из белых воздушных занавесей, обрамлявших сцену .
Эта «белая симфония» продолжится потом на разных сценах мира - у нашего ли Анатолия Эфроса или у итальянца Джорджо Стрелера. Будет и другой вариант: как бы без Сада, точнее - без зримого Сада, хотя бы и как аллегории. О нем может напомнить легкая светотень вверху сцены - у Валентина Плучека; может и этого не быть - у Питера Брука; или Сад размещается где-то в зрительном зале. Главное - его следы в людях, нечто целое, неразъемное, что они составляют вместе; Сад души, спроецированный вовне.
Время шло. По его прихоти Сады расцветали и отцветали; несли в себе ностальгию по утраченной Красоте или чему-то заветному, нематериальному, без чего жизни нет; иногда - жесткий диагноз, как приговор, о собственной гибели. Но Сад был - в настоящем, вовне, или в прошлом, оставшись семейной легендой. Вдруг (как всегда вдруг, и всегда неслучайно) один за другим стали являться спектакли, в которых сквозит какая-то странная близость. В них вишневого сада нет - уже нет, или вообще нет; есть фантом. Сад как будто перестал быть главным действующим лицом, той мерой ценностей, по которой судят жизнь и людей. И кажется, что они теперь врозь - Сад и люди…
Ставили эти спектакли режиссеры разных поколений, с разным театральным и «чеховским» опытом; тем более не случайны их переклички.
Леонид Хейфец ставил «Вишневый сад» пять раз в течение четверти века, в разных точках земли: в Москве, на телевидении; в Киргизии, Турции, Польше; снова в Москве. Поставив пьесу впервые в середине 70-х, он с тех пор не может расстаться с ней, проигрывая ее мотивы на «нотах» и других драматургов. Приняв идею Сада как вечной, исконной ценности, свой собственный Сад он постоянно носит внутри, как «мысль семейную», как ощущение корней - или потребность в корнях, в мире, не отчужденном от человека; в мире не чуждых друг другу людей. А если уж отчуждение случилось или корни подрублены, спектакли наполняются тревогой, тоской, из них испаряется «вещество жизни», заменяясь мертвенным холодом - как теперь. И все это - без живых красок жизни, столь пленительных в чеховской пьесе, и без того размаха, тех мощных пространственных решений, которые прежде у Хейфеца делали праздничными даже трагические его спектакли.
Природа и красота изгнаны из этого «Вишневого сада»: ни предзакатного поля, ни белой ветки в окне; почтенный дом - «старый дедушка» - утратил все свое обаяние. В союзе с художником Хейфец намеренно и резко перечеркнул то, чего мы от них обоих ждали: от художника Владимира Арефьева, мастера «натурных» решений; от Хейфеца, которому так важен был зримый, волшебный отблеск вишневого сада, и даже в телевизионном спектакле он ощущался, словно просвечивал через людей.
Теперь не то. Сцена намеренно некрасива; старый и обветшалый дом с высокими серыми стенами пуст. Где-то в углу притулился неказистый и беспородный «многоуважаемый шкаф»; в другом конце сцены, на полу - заброшенный, бесполезный бильярд. Сидеть почти не на чем - кое-где редкие сиротливые стулья; иногда присядут и на бильярд. Уюта нет и давно. Видимо, и не топят - не только в финале, когда дом становится нежилым, но и ранее. Здесь зябко; все словно вымерзло, вымерло. На полу у стен сброшена за ненадобностью и полуприкрыта ветошью некогда знаменитая сушеная вишня.
Прежде Хейфец мог так сказать: «Здесь очень много смешного, потому что очень много трогательного, очень много человеческого. В сострадании ведь очень много забавного, занятного. Зал должен смеяться, улыбаться и плакать почти одновременно... Кроме того, что там есть смешные персонажи, там есть фантастически смешная лексика. Это - комедия жизни, потому что жизнь одновременно и смешна в самых своих печальных проявлениях. Так же, как и в самом смешном мы видим печаль» .
Теперь не то. Из спектакля почти ушел свет; ушла интонация жалости и прощения (милосердия - чеховским словом). Осталась печаль - сдержанная, подспудная, чурающаяся сантиментов. Пыльца юмора осыпалась с чеховских недотёп. Привычной игры нет даже и в сценах слуг - не до игры тут, когда кругом сплошной тлен. Все это - знак открытой тенденции, декларация о намерениях. Они, с непривычной для Хейфеца жесткостью, очевидны; как сказано в пьесе: «Вот и кончилась жизнь в этом доме… больше уже не будет…».
Марк Розовский , режиссер поколения Хейфеца, обращается к Чехову регулярно и в одному ему ведомом ритме. В толщу его основного репертуара, где правят бал игровая стихия, публицистика, мюзиклы, постановки чеховских пьес врезаются, как пауза размышления, взгляд внутрь пьесы, внутрь каждого человека, порыв к каким-то истокам. Так, вслед за «Дядей Ваней» появился в его театре «Вишневый сад».
В крепком деревенском доме, в шумной бестолковой семье признаков Сада нет; он здесь неуместен, не нужен. В сцене бала, в монологе Лопахина после торгов ему вынесут (преподнесут) макет цветущего сада, игрушку, забавную и нелепую (сценография Ксении Шимановской), тем самым «срезав» и его пафос победителя, и смысл победы, где Сад превратился в обычную вещь, в товар (или был таким изначально?). Сам Сад раздражал режиссера, и он искал себе союзника в авторе. «Образ России - болото, степь, ну, на худой конец, - лесоповал… Вишневый сад надуман своей картинностью, сусальностью, сентиментальностью. В этом образе - злая ирония Чехова из-под его пенсне»
Шахиня… Уже забылось, кто первый так ее назвал. Но именование закрепилось. Тоненькая фигурка, доходящая временами до фантастической худобы. Выразительное, слегка удлиненное лицо с резко очерченными линиями. Внимательный взгляд больших глаз. И вдруг неожиданное среди разговора: «Мяу…» Люди ее круга помнят это специфично Танино междометие, часто лукавое и всегда очень женственное. Иногда оно означало: «Все идет правильно». Иногда звучало вопросительно: «Все хорошо?» А иногда было связано с задумчивым отрешением от мимотекущей суеты и значило что-то вроде: «Ну, ладно» или «Неважно». Но всегда было обращено к тем, кто был ей близок творчески и лично. Впервые услышав это обращение, я смутилась — настолько оно не вязалось с ее легендарной причастностью к поколению театрального «шестидесятничества», с ее чеховедческими штудиями, тонкими и проницательными рецензиями, строгими и серьезными обзорными статьями. Но когда поняла, что это брошенное вскользь, «проверочно», означает приглашение в «свой круг», — была рада. Помню ее разной — энтузиастически развертывающей любимую мысль, искренне восхищающейся чужой работой, благожелательно приветствующей участников Чеховской конференции, торжественно-взволнованно открывающей задуманный ею фестиваль чеховских спектаклей «Мелиховская весна». Но когда ее что-то не устраивало или задевало (почти всегда это было связано с обожаемым Чеховым), она умела и бросить колкую реплику, и всерьез возмутиться, и демонстративно промолчать.
Когда последний номер «Экрана и сцены» вышел без ее ответов на традиционную анкету из трех вопросов, стало ясно, что с Таней что-то случилось. Впервые мы не узнали ее суждения о театральных новинках сезона, всегда умного и неизменно добросовестно обоснованного. Жалко. Очень жалко. Поколение уходит. Без них все становится беднее и сиротливее…
Однажды я заговорила с Татьяной Константиновной о ситуации вокруг какого-то давнего спектакля ЦДТ, и, отвечая мне, она произнесла вдруг совсем по-детски: «Мой папа…» Константин Язонович Шах-Азизов был потрясающим директором, собравшим в начале пятидесятых в своей труппе Марию Осиповну Кнебель, Олега Ефремова, Анатолия Эфроса и многих других талантливых людей. Тот молодой счастливый театр в какой-то мере был ее детской, с тех оттепельных времен она сохранила в себе умную ясность, глубину простоты, безупречную порядочность. Как-то при ней я упомянула имя одного известного старого критика. В первый и последний раз я видела у Шахини такую реакцию. Она резко отшатнулась, взмахнула рукой и почти крикнула брезгливо: «Аня, но он же нерукопожатен!» Про книгу Рейфильда говорила гораздо спокойнее.
Однажды мы рядом высидели очень-очень плохой, длинный и мучительный чеховский спектакль молодого талантливого национального режиссера. Два антракта, два разговора. Татьяна Константиновна вовсе не жалела Чехова и не ругала режиссера — она одинаково сопереживала обоим, ввергнутым в общую неудачу. Нет, не случайно вся жизнь ее прошла в чеховском театральном круговороте, она и сама часто представлялась мне героиней какой-нибудь пьесы Чехова, прожившей «длинный, длинный ряд дней», сохранившей любопытство к жизни и не утратившей надежды.
Татьяна Константиновна была человеком важным для нашей театральной среды. Ее работоспособность, несуетность, человеческое достоинство и высокий профессионализм вызывали безусловное уважение. Сама, вероятно, того не сознавая, жизнью своей и всем обликом Татьяна Константиновна Шах-Азизова доказывала, что и в бурлении театральных страстей есть место благородству и интеллигентности.
Татьяна Константиновна Шах-Азизова (11 сентября 1937 - 26 января 2015) - советский, российский театральный критик, театровед, доктор искусствоведения.
Биография
Отец - Константин Язонович Шах-Азизов (1903 - 1977), заслуженный деятель искусств РСФСР, директор Центрального детского театра (1948-1974).
Мать - Марина Ивановна Казинец-Шах-Азизова (1907-2000), балерина, заслуженная артистка Грузинской ССР (1943 г.).
В 1960 г. окончила филологический факультет МГУ, затем - аспирантуру Государственного института искусствознания. С 1964 г. работала в том же институте (более 50 лет).
Входила в состав экспертного совета X телевизионно-театрального фестиваля «В добрый час! Молодые силы искусства (Москва-Поволжье)».
Творчество
Избранные труды
Источник - электронные каталоги РНБ
- Шах-Азизова Т. К. Зритель был, но критика «первого порядка» театр не жаловала - спектаклей не смотрела, но считала, что смотреть нечего // Новая газета. - 2012, 5 октября. Архивировано из первоисточника 22 марта 2015.
- Шах-Азизова Т. К. Полвека в театре Чехова, 1960-2010: [сборник статей]. - М.: Прогресс-Традиция, 2011. - 325 с.
- Шах-Азизова Т. Святой театра (рус.). Петербургские театральные страницы (2000). Проверено 15 апреля 2015. Архивировано из первоисточника 15 апреля 2015.
- Шах-Азизова Т. К. Чехов и западно-европейская драма его времени. - М.: Наука, 1966. - 151 с.
- Шах-Азизова Т. К. А. П. Чехов и западноевропейская драма его времени: Автореф. дис. … канд. искусствоведения. - М.: Наука, 1965. - 18 с.
- Шах-Азизова Т. К. Русский Гамлет («Иванов» и его время) // А. П. Чехов и его время / АН СССР, Ин-т мировой литературы им. А. М. Горького; [Ред. коллегия: Л. Д. Опульская, З. С. Паперный, С. Е. Шаталов]. - М. : Наука, 1977. - 359 с. - С. 232-246.
- Я - счастливый человек: к 100-летию со дня рождения драматурга В. С. Розова: [каталог выставки / сост.: Т. К. Шах-Азизова]. - М.: ГЦТМ, 2013. - 40 c.
Работы в кино
- 1995 Сон доктора Чехова (фильм-спектакль) - сценарист
Награды и признание
- Премия Станиславского «За исследования чеховского театра» (2011)
Дискуссия о судьбе театра Гоголя охватила всю Москву. Татьяна Константиновна ШАХ-АЗИЗОВА — доктор искусствоведения, театровед, один из самых опытных и уважаемых театральных критиков Москвы — напоминает о лучшем, что создано на этой сцене в последние десятилетия, в эпоху художественного руководства Сергея Яшина.
О дальнейшем развитии сюжета читайте в ближайших публикациях «Новой».
Отдел культуры
Татьяна ШАХ-АЗИЗОВА: Зритель был, но критика «первого порядка» театр не жаловала — спектаклей не смотрела, но считала, что смотреть нечего
Что за новая традиция в Москве: каждое лето — театральный скандал, жестокий, публичный, с расколом, разводом, разгромом. Прошлым летом это постигло Таганку; нынешним театр им. Гоголя. Случаи разные, театры разные, но взрывная сила примерно та же, и вовлеченность в скандал лиц театральных, и околотеатральных, и просто любопытствующих велика. Ломится Интернет от реакций на очередное ЧП. На Гоголевском бульваре прошел митинг в защиту театра, над которым нависла угроза тотального уничтожения — смена не только руководства, но и самой модели театра, фактическая ликвидация его вместе с репертуаром и труппой.
Театр этот я знаю давно, хожу туда регулярно и к его судьбе, как и к судьбе его бывшего руководителя Сергея Яшина, не равнодушна. Не понимаю молодеческий задор власти, с которым она так весело и легко смахнула с карты Москвы целый театр, оставляя лишь место его для новых затей. Смахнула без консультаций с кем бы то ни было — критикой, театральной общественностью, Союзом театральных деятелей, не говоря уж о самом коллективе, который просто поставили перед фактом. Нарушая театральные заповеди, первая из которых — просмотр текущего репертуара, обсуждение его, знакомство с планами и так далее; вторая — встреча с коллективом и руководством до принятия решений… и так далее.
Не понимаю я также позиции худрука и директора, которые сразу сдались без боя и приняли свою отставку, признав то ли свою в чем-то неправоту, то ли право идущей на них силы. Как сказано на сайте Департамента культуры Москвы, «контракты … расторгнуты по соглашению сторон». И все; театр был обезглавлен, осиротел, но не сдался и продолжает бушевать, митинговать, посылать письма в разные инстанции, борется за свои права. При этом возвращения худрука не требует — видимо, обижен. А ведь руководитель театра, сродни капитану тонущего корабля, должен до конца быть со всеми и уходить последним (так, как уходил 20 лет назад Адольф Шапиро после гибели своего Рижского ТЮЗа).
И еще не понимаю я, чем могла бы помочь, кроме обычных функций театроведа, т.е. анализа спектаклей, самой материи театра, — но это, судя по всему, мало кого интересует. Театру предъявляют самые разные претензии, от низкой посещаемости до состояния «анабиоза», отсутствия «художественных событий», откликов прессы, а также некоей «плесени», угнездившейся здесь. Те же, кто защищают театр или хотя бы взыскуют справедливости, тоже упомянутой материей не озабочены. И мало знают этот театр (театров в Москве слишком много, и критиков на всех не хватает; иные же априори создали себе представление о том, куда следует или не следует ходить, — и не ходят). И отучили нас вглядываться в искусство, особенно в повседневный его поток, а не только в разного рода сенсации.
Сергей Яшин проработал в театре им. Гоголя четверть века; этот год — юбилейный, вот и подарочек подоспел. Возраст и опыт у режиссера солидный, но энергии хоть отбавляй. Я знаю его давно, с театральной юности, проходившей в Центральном детском театре, где он работал с прекрасной своей половиной, художницей Еленой Качелаевой, составляющей с ним даже и не тандем, но одно неразъемное целое, в жизни и в театре. Уже тогда было ясно, что режиссер он неровный, в том смысле, что может с избытком, с лихвой накрутить всяческой театральности, а может поставить спектакль глубинно психологический, культовый для «юного зрителя». Дальше были разные города и театры и, наконец, свое дело, свой театральный дом на улице Казакова.
Позволю себе взглянуть в прошлое, хотя оно и кажется кое-кому из коллег «далеким». Яшин делал репертуарный театр в прямом смысле слова, с опорой на классику, русскую (Чехов и Горький, Островский и Гоголь), зарубежную - ХХ века (Уильямс, Миллер, О"Нил), на крупных современных писателей (из наших - Шукшин и Платонов, из западных - Шепард и Макдонах), не пренебрегал и нынешней новой драмой - одним из лучших спектаклей его стало «Черное молоко» Сигарева, автора, к которому театр и сейчас возвращается (возвращался, во всяком случае). Спектакли были сильные, часто спорные и неровные, но где этого нет? Параллельно шла линия спектаклей легких и занимательных, комедий, столь любезных публике, при этом - не худшего качества, пера Уайльда, Моэма или нашего Шкваркина.
При этом худруком-одиночкой Яшин не был. В конце 90-х Сергей Голомазов поставил здесь «Петербург» Андрея Белого; в начале «нулевых» ставил Брехта, Гоцци и Булгакова молодой Константин Богомолов; ставил и ставит спектакли Алексей Говорухо.
Теперь - о том, что сохранилось сегодня. Критики театра сетуют на афишу. В ней — опять-таки Гоголь, Островский и Горький, Шукшин и Платонов, Уайльд и Макдонах, обе-щан был Диккенс. У Яшина есть вкус к литературным раскопкам; так, он раскопал и поставил неизвестную большинству из нас пьесу Платонова «Дураки на периферии», написанную словно эрдмановским пером; это стало «художественным событием» одного из последних сезонов, пусть событием местного или даже внутреннего масштаба, в чем, однако, театр не виноват (коллеги нелюбопытны…). Сам для себя Яшин сделал документальную драму «Мур, сын Цветаевой» с молодыми актерами, к которым его явно тянет. Поставил со своими дипломниками «Остров» Макдонаха в любимом своем остро театральном стиле. Словом, афиша — нормальная для репертуарного театра, около 20 названий, где есть и классика, и сказки для детей, а «легкого жанра» — штук 6, среди которых названные уже Уайльд и Моэм, решения занимательны и корректны, и даже «Тетка Чарлея», небезопасная в плане вкуса, выглядит задорно и не вульгарно.
Можно сравнить эту афишу и эти спектакли с продукцией других московских театров — и не увидеть особой разницы; почему же этот театр стал первой жертвой грядущей театральной перестройки? Посещаемость низка, как нигде? Простите, не верю; ни разу не видела полупустого зала, равно как в других театрах — постоянно заполненного. Доход театра невелик? Да и то — не критерий; что значит — доходный театр? Нонсенс. «Плесень», которая привиделась новому худруку? Наверное, театр давно требует ремонта (равно как и другие - в Москве началась полоса ремонта и реконструкций). Но зрители этого не ощущали. В фойе и в зале следов разрухи не было, а кабинет Яшина, украшенный эскизами искусницы Качелаевой, выглядел, как театральный музей. На премьерах собиралась неслучайная публика — театралы, писатели, журналисты, критики, приверженные к этому театру, — хотя их немного, но им интересно, они пишут, следят за процессом.
Словом, идет жизнь — нелегкая, знакомая по массе других примеров. Со своими, впрочем, проблемами, главная из которых — география, адрес театра. Есть в Москве театры с какой-то давней «занозой», которую не вытащить, и она саднит, дает о себе знать снова и снова. Это может быть что-то темное в прошлом — или просто какое-то «не то» место, вроде Курского вокзала, откуда до театра им.Гоголя — 10 минут ходьбы, но путь какой-то несимпатичный, через вокзальный туннель и привокзальную улицу с торговыми точками и специфическим контингентом. Обычный зритель идет, но критика «первого порядка» театр не жалует, практически не посещает и антипатию к месту действия переносит на сам театр — спектаклей не смотрит, но считает, что смотреть нечего. Стереотип дурной репутации, въевшийся в мозги нескольких поколений, словно передается по наследству. Так уж сложилось, задолго до Яшина, и страдали от этого режиссеры не робкого десятка; иные выдерживали всего по нескольку лет. Опытный Борис Голубовский, проработавший здесь до Яшина более 20 лет, капризы театральной топографии вынужден был терпеть, учитывать и сопротивлялся ей, как мог. Как снять это заклятие, неведомо. Во всяком случае, преемнику Яшина вряд ли будет легко …
И последнее: о преемнике. Почему-то не хочется верить, что Кирилл Серебренников придет сюда. Во-первых, его «уговорили», в чем театральные власти сознались. Во-вторых, захватнических действий за ним пока замечено не было — нравится кому-то или не нравится его режиссура, вопрос другой. В-третьих, повел он себя как-то странно: не зная театра, не видя спектаклей, не поговорив с труппой, с маху все решил и исчез. (А вдруг бы ему что-то понравилось? И острота яшинских решений, их порой избыточная, но яркая театральность. И актеры, на многое способные, современных и разных умений. И сама атмосфера живого, жадного до работы театра…). Коллеги Серебренникова, воцарившиеся недавно в других московских театрах, так себя не вели.
И еще: как же он, разрушив ни в чем неповинный репертуарный театр, будет ставить во МХТ спектакль к юбилею Станиславского?..
Экран и сцена 01.10.1999
Первое впечатление
Как странно… Зрители сидят не в партере, не в фойе и даже не в том Белом зале, где Гинкас ставил свои последние спектакли, а на балконе. Сидят квадратной скобкой, по три стороны от небольшой игровой площадки, расположенной на краю… нет, не балкона, а бездны. Черной, сплошной, непроглядной, поглотившей все, что ни есть внизу. Сцена не видна в этом мраке и напомнит о себе лишь тогда, когда сбоку или вверху ее, словно в дальнем углу вселенной, явится бес, именуемый Черным монахом, и примется искушать и дразнить героя.
Тут бы процитировать «Чайку» (Холодно… пусто… страшно…), да не совсем впору. Страшновата, конечно, эта холодная пустота, особенно когда туда ныряет Монах, или герой спектакля, балуясь, балансируя на краю, прыгнет вниз, сорвется с обрыва. Но перед ней, этой бездной – обрывом, такой милый человечий мирок, где тонкими стволами берез обозначены забор и беседка, стрекочут цикады, свет, летний и ясный, излучает тепло, и кажется, будто вместе с героем чувствуешь влажный, раздражающий запах свежеполитых цветов в саду. Сад, впрочем, необычный – павлиньи перья, растущие из земли, сверкают сине-зеленым блеском на солнце. Почему-то это не удивляет – а как, собственно, передать на таком пятачке роскошь сказочного и веселого сада?
Спектакль вообще начинается весело, безмятежно, игрой, и заполняется ею. Игрой с пространством и звуком, когда работают и тишина, и отдаленный подземный гул, и знаменитый квартет из «Риголетто», разобранный на музыкальные фразы. Игрой в текст, когда репликами перебрасываются, как мячом, и, не разрушая цельности прозы, не переводя ее в пьесу, герои говорят о себе в третьем лице: он, она… Так, вскользь – реплика в сторону, беглый апарт. При этом отстранения, дистанции между актером и образом не возникает; интимная интонация сохраняется; игра не мешает смыслу, но оттеняет его, и не снимает жестокого драматизма. Впрочем, до драмы еще далеко; ничто ее вначале не предвещает.
В игровом настроении пребывает магистр Андрей Коврин (), который утомился и расстроил себе нервы, и отправился погостить к Песоцким – известному старику-садоводу, своему в прошлом воспитателю и опекуну, и дочери его Тане. Молодой, живой, легкий, излучающий доверие и симпатию, он вступает в мгновенный и свойский контакт с публикой, а затем со своими партнерами. Сам Песоцкий (Владимир Кашпур), бесхитростный и открытый, слегка косноязычный и суетливый, и Таня () с ее пугливым сияющим взглядом, застенчивая и нервная, хлопотунья, пребывающая в вечном движении, кажутся пришельцами из «Дяди Вани», словно явились сюда на побывку Телегин – Вафля и Соня. Вся троица мечена чем-то чеховским, неподдельным: у них, как говорится, родные лица. (Объяснить это трудно, сыграть нельзя – прожить и почувствовать надо: родные тем, кто создает их – автору, режиссеру, актерам – и сообщает это чувство родства зрителям).
Простодушные и наивные, в плену повседневных своих забот, Песоцкие образуют с магистром странное, но дружное трио. Странности он долго не ощущает, не раздражаясь от их вспышек, ссор, мелочей, всего того, что станет потом ненавистно. Поначалу же отношения их мирны, почти идилличны – до времени однако; пока. Но – пора вернуться к сюжету.
Коварный чеховский сюжет изложить трудно. Как избежать оценок, ответов, которых автор намеренно не дает, оставляя нас один на один с нерешенными (и нерешаемыми) проблемами? – Да так, вероятно, как сам он и делал, по его правилам и законам. Тогда и получится такое: магистр Коврин, при всем своем жизнелюбии и творческом запале, был, видимо, нездоров. То ли придумалось, то ли припомнилась ему легенда о вечном страннике-мираже, Черном монахе, которому пришел срок вернуться на землю. И-то ли почудилось ему, то ли было на самом деле – Монах явился, и встреча их состоялась. Монах (то ли бес-искуситель, то ли второе «Я» героя) сумел убедить Коврина в том, что он гений, служитель вечной правды, а потому болен, и должен принести себя в журтву: «…если хочешь быть здоров и нормален, иди в стадо».
Дилемма решается жизнью: болезнь Коврина обнаружена; его лечат, и он превращается в человека из стада, но помнит былое, тоскует о нем: «Зачем, зачем вы меня лечили? Я сходил с ума, у меня была мания величия, но зато я был весел, добр и даже счастлив, я был интересен и оригинален. Теперь я стал рассудительнее и солиднее, но зато я такой, как все: я посредственность, мне скучно жить». Он разрушает и теряет семью. Разрушается сам, пока перед смертью на миг не вернется к себе прежнему, не встретит в последний раз Монаха… Так что же: не надо было лечить? Или верить Монаху? Или – что?…
У Чехова всюду загадки; какой-то мерцающий смысл. Проблемы, и по сей день решения не имеющие: цена избранничества, права избранника… Будь он моралистом толстовского склада, можно было бы предположить, что он – на стороне толпы и здоровья, против высокомерного гения, отчего и карает его болезнью и смертью. Будь он ницшеанцем – тогда все, конечно, наоборот. Но он ни тем, ни другим не был. Он был художником; не решал, но ставил вопросы, которые раз навсегда решить невозможно, ибо они – вечные, и всякое время, и всякий из нас должны сами их решать для себя. К нему обращаться за помощью бесполезно – комментариев не давал, в письмах отшучивался или закрывался. Так примерно: «Черного монаха» я писал без всяких унылых мыслей, по холодном размышлении. Просто пришла охота изобразить манию величия. Монах же, несущийся через поле, приснился мне…».
Лукавил ли он, отсекая личные мотивы? – Как знать. Близкие вспоминали, что и у него в ту пору были расстроены нервы, нарушен сон; что в Мелихове спорили о миражах. Это складывалось в чеховскую копилку, как и его увлечение психиатрией, и отзвуки модных теорий о гении, толпе и болезни; как и романс, который пела «прекрасная Лика», — «Валахская легенда» Брага. (В спектакле он заменен на «Риголетто», но вряд ли только из-за того, что четверке героев был нужен квартет. Красивая серенада Брага о девушке, больной воображением, и слышавшей таинственные звуки, как ни перекликалась с историей Коврина, на нынешний взгляд слишком сентиментальны и романтична, и Коврин в спектакле излагает ее с иронией). Все шло у Чехова в дело, перерабатываясь затем в странную ткань из фантазии и науки, и в холерное лето 1893 года сочинялась, словно по контрасту с действительностью, эта волшебная historia morbi (история болезни) – «Черный монах».
Судьба его оказалась нелегкой. Коврин со своими видениями и теориями долго был «не наш» человек, а «Черный монах» стоял в чеховском наследии на особицу, был как бы не рекомендован к исполнению (отчего так поздно появились его кино-, радио- и телеверсии; спектакли же можно по пальцам одной руки пересчитать). Находились, конечно, отважные, рисковые люди, околдованные «Черным монахом». Евгения Михайловна Чехова, племянница и крестница писателя, талантливая, как все Чеховы, сделала изящную композицию, которую играли в неофициальном, так сказать, плане – в музее Чехова, в Доме ученых. Текст да музыка, да один артист – Сергей Десницкий; вот и весь состав этого легкого, как видение, поэтического спектакля.
Потом, когда все стало можно, а Чехова переиграли вдоль и поперек в бесчисленном множестве версий, «Черный монах» оставался за кадром. В начале 80-х ставили в Таганроге; в начале 90-х – в Москве, Юрий Еремин; мелькал «Монах» в различных композициях – и, кажется, все. А тут-то бы и разгуляться космизму и всяким безумным решениям, на которые так щедра нынешняя театральная свобода. Но, видимо, что-то мешало. Рискну угадать: не идеи (кого сейчас испугать ими?), но именно космизм, особенный, чеховский, так крепко у него соединенный с земным, как и поэзия с прозой. И еще: видимая одинокость «Монаха», которого не просто опереть на традицию.
Тут пришел Гинкас… Приступил, вернее; желание было давно. С Чеховым он связан почти так же прочно, как с Пушкиным, хотя связь эта известна нам понаслышке, осуществляется вдалеке: «Палата №6», «Чайка», «Дама с собачкой» — все ставлено за границей. Теперь и нам повезло; сразу после пушкинских его спектаклей, здесь, дома – «Черный монах». Подчеркну еще раз неслучайное это соседство, как неслучайны переклички в конце и начале русской литературы; как неслучаен в ней – от Пушкина – образ «черного человека» или – от Достоевского – идея сверхчеловека в разных его воплощениях. Все эти материи, Чехову доставшиеся в наследство, Гинкас, в русской литературе прописанный, в нее глубоко внедренный, должен чувствовать изнутри; опора у него есть.
Что до космизма, он с ним разбирается радикально: космос-вокруг; внутри же – вполне земной мир и человеческая история. Другое дело, что, по современным понятиям, границ и между ними зыбки и проницаемы, контакты небезопасны, как нам бедняга Коврин и доказал. А о нем, после этого спектакля, думается именно так – бедняга; и дело тут не только в обаянии Маковецкого. Но здесь я вступаю в область предложений и буду идти на ощупь; замысел режиссера мне неизвестен; попробую угадать…
Подобно автору, режиссер наш несклонен к категоричности и указательному персту; к людям милосерден и строг, даже к родным. Его актеры с трезвым мужеством отметят узость Песоцких: зашоренность старика его садом; прямолинейность Тани, которая обернется жестокостью рядом с больным, и даже в голосе ее появятся резкие, режущие тона. Все так, хотя они – жертвы Коврина объективно; все трое в чем-то виновны и невиновны, по непреложному чеховскому закону: никого не обвинил, никого не оправдал.
Но с Ковриным все непросто. Маковецкий, обнаруживая природу истинно чеховского актера, играет его сложно, подробно, в развитии, не упуская и не скрывая ни одного момента, ни одного нюанса в душевном его состоянии. Все очевидно и ощутимо для нас, в приближении малой сцены: его просветленность и размягченность вначале, без всяких признаков нездоровья, — и те изменения личности, что начнутся потом, после роковой встречи. Изменения частные, едва уловимые: настороженный взгляд, напряженность, тревога; эйфория, принятая за вспышку любви…
Дальше – больше. Первый слом – слом испуга, когда ему и другим станет ясен характер его болезни. Он сразу лишится сил, обмякнет, обвиснет у Тани на руках; на него накинут черное пальто, как смирительную рубашку, и поволокут ко врачу. Второй слом, много более резкий, после лечения от болезни: просто другой человек, с вялым лицом, затуманенным взглядом, с механическим тоном, полный злой тоски об утраченной полноте жизни. «О, как вы жестко поступили со мной!». И он жесток, но Танины упреки морального свойства бесполезны и не по адресу: он уже вне морали; душа его умерла – или закрыта наглухо, как легкая, летняя, заколоченная досками беседка.
(Метафора сильнодействующая, но кажется мне – из другого спектакля, зрелищного, масштабного, на большой сцене. Здесь же нужен минимализм, не загораживающий актера, не заменяющий его личных усилий. Быть может, это у меня субъективное, вкусовое, но и в спектакле Гинкаса «Пушкин. Дуэль. Смерть», предельно строгом и лаконичном, образ взмывающего вверх стола – он же смертный одр поэта, — в который вцепились отчаянной хваткой его друзья, воспринимался мной от ума; душевное напряжение снижалось. Так и здесь: рабочие входят, выходят, носят длинные доски, грубо сбивают их, закрывая любой просвет. Я понимаю, логически могу объяснить, но невольно теряю контакт с актером… Впрочем, у всякого свои склонности; не настаиваю на правоте).
И еще перемена – развязка, слом третий. Шок от прощального письма Тани, предчувствие и близость конца ненадолго Коврина пробуждают – оживают и взгляд, и голос. Он тянется, как к спасителю, к явившемуся напоследок Монаху, что-то говорит ему, смеясь и плача; потом, свернувшись калачиком на полу, замирает. Бедняга…
По описанию можно подумать, что это – клиника, достоверная historia morbi. Не так; все это – условие, внешний сюжет, форма. Внутри же – история души, мягкой, доверчивой души обыкновенного человека, типичного чеховского героя. Не гения, но не из стада; альтернатива Монаха для Гинкаса, видимо, ложна. История человека, поддавшегося искушению, соблазну мысли, за что и последовала расплата: болезнь; лечение хуже болезни; смерть. Таков здесь герой; таков искуситель.
представил нам неожиданного Монаха. Никакой аскезы, отнюдь не мираж – крепкий мужчина, с атлетическим торсом, ловкий и сильный, склонный к розыгрышам, к акробатическим трюкам. Он явится, не пролетая над полем, и не исчезнет как дым, — ворвется с черным чучелом на палке, обманув наши ожидания красивой, возвышенной мистики. Насмешник со взглядом Пана – странным взглядом прозрачных глаз; бес, Сатана, который умеет быть разным. Может быть строгим и отстраненным, внушая Коврину свои – как бы его – идеи, но под конец дьявольская ухмылка выдаст его. Может приплясывать на черной далекой сцене, радуясь первым удачам. Или, во время семейного обеда, повиснуть над Ковриным и позе летучей мыши. А в финале, выбив в заколоченной беседке доски, рвануться к умирающему, поддерживая его, — и они застынут в этом полуобъятии, словно живая скульптура.
Могут сказать, что Чехов сложнее, нет у него однозначных решений, а Коврин написан, как человек неординарный, и в этом вся суть. Но Чехов широк, в нем всего не охватишь, и каждый обречен выбирать, и в выборе своем волен, было бы здесь «зерно» чеховского. Мне кажется, в спектакле Гинкаса, горьком, поэтичном и человечном, это «зерно» есть. И кажется, что он, человек, поставивший триптих по Достоевскому и знающий хорошо, как опасен соблазн гордой мысли, не мог бы выбрать иное.
Впрочем, может быть, это мне только кажется по первому впечатлению, но оно сильно, не отпускает, этим спектаклем заболеваешь, как и повестью Чехова. Да они и не рассчитаны на душевный комфорт. Как это у Пушкина?
Мне день и ночь покоя не дает
Мой черный человек. За мною всюду
Как тень, он гонится. Вот и теперь
Мне кажется, он с нами сам-третей
Сидит…