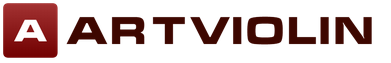От боли, от острого и внезапного оскорбления, так грубо ударившего тебя в сердце в один из самых радостных моментов твоего детства, ты, вылетевши за дверь, закатился таким страшным, таким пронзительным альтом, на какой не способен ни один певец в мире. И надолго, надолго замер… Затем набрал в легкие воздуху еще больше и поднял альт уже до невероятной высоты…
Затем паузы между верхней и нижней нотами стали сокращаться, – вопли потекли без умолку. К воплям прибавились рыдания, к рыданиям – крики о помощи. Сознание твое стало проясняться, и ты начал играть, с мучительным наслаждением играть роль умирающего.
– О-ой, больно! Ой, мамочка, умираю!
– Небось не умрешь, – холодно сказал я. – Покричишь, покричишь, да и смолкнешь.
Но ты не смолкал.
Разговор, конечно, оборвался. Мне было уже стыдно, и я зажигал папиросу, не поднимая глаз на бабушку. А у бабушки вдруг задрожали губы, брови, и, отвернувшись к окну, она стала быстро, быстро колотить чайной ложкой по столу.
– Ужасно испорченный ребенок! – сказала, нахмуриваясь и стараясь быть беспристрастной, мама и снова взялась за свое вязанье. – Ужасно избалован!
– Ой, бабушка! Ой, милая моя бабушка! – вопил ты диким голосом, взывая теперь к последнему прибежищу – к бабушке.
И бабушка едва сидела на месте.
Ее сердце рвалось в детскую, но, в угоду мне и маме, она крепилась, смотрела из-под дрожащих бровей на темневшую улицу и быстро стучала ложечкой по столу.
Понял тогда и ты, что мы решили не сдаваться, что никто не утолит твоей боли и обиды поцелуями, мольбами о прощении. Да и слез уже не хватало. Ты до изнеможения упился своими рыданиями, своим детским горем, с которым не сравнится, может быть, ни одно человеческое горе, но прекратить вопли сразу было невозможно, хотя бы из-за одного самолюбия.
Ясно было слышно: кричать тебе уже не хочется, голос охрип и срывается, слез нет. Но ты все кричал и кричал!
Было невмоготу и мне. Хотелось встать с места, распахнуть дверь в детскую и сразу, каким-нибудь одним горячим словом, пресечь твои страдания. Но разве это согласуется с правилами разумного воспитания и с достоинством справедливого, хотя и строгого дяди?
Наконец ты затих…
– И мы тотчас помирились? – спрашиваешь ты.
Нет, я таки выдержал характер. Я, по крайней мере, через полчаса после того, как ты затих, заглянул в детскую. И то как? Подошел к дверям, сделал серьезное лицо и растворил их с таким видом, точно у меня было какое-то дело. А ты в это время уже возвращался мало-помалу к обыденной жизни.
Ты сидел на полу, изредка подергивался от глубоких прерывистых вздохов, обычных у детей после долгого плача, и с потемневшим от размазанных слез личиком забавлялся своими незатейливыми игрушками – пустыми коробочками от спичек, – расставляя их по полу, между раздвинутых ног, в каком-то, только тебе одному известном порядке.
Как сжалось мое сердце при виде этих коробочек!
Но, делая вид, что отношения наши прерваны, что я оскорблен тобою, я едва взглянул на тебя. Я внимательно и строго осмотрел подоконники, столы… Где это мой портсигар?… И уже хотел выйти, как вдруг ты поднял голову и, глядя на меня злыми, полными презрения глазами, хрипло сказал:
– Теперь я никогда больше не буду любить тебя.
Потом подумал, хотел сказать еще что-то очень обидное, но запнулся, не нашелся и сказал первое, что пришло в голову:
– И никогда ничего не куплю тебе.
– Пожалуйста! – небрежно ответил я, пожимая плечом. – Пожалуйста! Я от такого дурного мальчика и не взял бы ничего.
– Даже и японскую копеечку, какую тогда подарил, назад возьму! – крикнул ты тонким, дрогнувшим голосом, делая последнюю попытку уязвить меня.
– А вот это уж и совсем нехорошо! – ответил я. – Дарить и потом отнимать! Впрочем, это твое дело.
Потом заходили к тебе мама и бабушка. И так же, как я, делали сначала вид, что вошли случайно… по делу… Затем качали головами и, стараясь не придавать своим словам значения, заводили речь о том, как это нехорошо, когда дети растут непослушными, дерзкими и добиваются того, что их никто не любит. А кончали тем, что советовали тебе пойти ко мне и попросить у меня прощения.
– А то дядя рассердится и уедет в Москву, – говорила бабушка грустным тоном. – И никогда больше не приедет к нам.
– И пускай не приедет! – отвечал ты едва слышно, все ниже опуская голову.
– Ну, я умру, – говорила бабушка еще печальнее, совсем не думая о том, к какому жестокому средству прибегает она, чтобы заставить тебя переломить свою гордость.
– И умирай, – отвечал ты сумрачным шепотом.
– Хорош! – сказал я, снова чувствуя приступ раздражения. – Хорош! – повторил я, дымя папиросой и поглядывая в окно на темную пустую улицу.
И, переждав, пока пожилая худая горничная, всегда молчаливая и печальная от сознания, что она – вдова машиниста, зажгла в столовой лампу, прибавил:
– Вот так мальчик!
– Да не обращай на него внимания, – сказала мама, заглядывая под матовый колпак лампы, не коптит ли. – Охота тебе разговаривать с такой злючкой!
И мы сделали вид, что совсем забыли о тебе.
В детской огня еще не зажигали, и стекла ее окон казались теперь синими-синими. Зимний вечер стоял за ними, и в детской было сумрачно и грустно. Ты сидел на полу и передвигал коробочки. И эти коробочки мучили меня. Я встал и решил побродить по городу.
Но тут послышался шепот бабушки.
– Бесстыдник, бесстыдник! – зашептала она укоризненно. – Дядя тебя любит, возит тебе игрушки, гостинцы…
Я громко прервал:
– Бабушка, этого говорить не следует. Это лишнее. Тут дело не в гостинцах.
Но бабушка знала, что делает.
– Как же не в гостинцах? – ответила она. – Не дорог гостинец, а дорога память.
И, помолчав, ударила по самой чувствительной струне твоего сердца:
– А кто же купит ему теперь пенал, бумаги, книжку с картинками? Да что пенал! Пенал – туда-сюда. А цифры? Ведь уж этого не купишь ни за какие деньги, впрочем, – прибавила она, – делай, как знаешь. Сиди тут один в темноте.
И вышла из детской.
Кончено, самолюбие твое было сломлено! Ты был побежден.
Чем неосуществимее мечта, тем пленительнее, чем пленительнее, тем неосуществимее. Я уже знаю это.
С самых ранних дней моих я у нее во власти. Но я знаю и то, что, чем дороже мне моя мечта, тем менее надежд на достижение ее. И я уже давно в борьбе с нею. Я лукавлю: делаю вид, что я равнодушен. Но что мог сделать ты?
Счастье, счастье!
Ты открыл утром глаза, переполненный жаждою счастья. И с детской доверчивостью, с открытым сердцем кинулся к жизни: скорее, скорее!
Но жизнь ответила:
– Потерпи.
– Ну пожалуйста! – воскликнул ты страстно.
– Замолчи, иначе ничего не получишь!
– Ну погоди же! – крикнул ты злобно. И на время смолк.
Но сердце твое буйствовало. Ты бесновался, с грохотом валял стулья, бил ногами в пол, звонко вскрикивал от переполнявшей твое сердце радостной жажды… Тогда жизнь со всего размаха ударила тебя в сердце тупым ножом обиды. И ты закатился бешеным криком боли, призывом на помощь.
Но и тут не дрогнул ни один мускул на лице жизни… Смирись, смирись!
- - I - -
Мой дорогой, когда ты вырастешь, вспомнишь ли ты, как однажды зимним вечером ты вышел из детской в столовую, остановился на пороге, - это было после одной из наших ссор с тобой, - и, опустив глаза, сделал такое грустное личико?
Должен сказать тебе: ты большой шалун. Когда что-нибудь увлечет тебя, ты не знаешь удержу. Ты часто с раннего утра до поздней ночи не даешь покоя всему дому своим криком и беготней.
Зато я и не знаю ничего трогательнее тебя, когда ты, насладившись своим буйством, притихнешь, побродишь по комнатам и наконец подойдешь и сиротливо прижмешься к моему плечу! Если же дело происходит после ссоры и если я в эту минуту скажу тебе хоть одно ласковое слово, то нельзя выразить, что ты тогда делаешь с моим сердцем! Как порывисто кидаешься ты целовать меня, как крепко обвиваешь руками мою шею, в избытке той беззаветной нежности, той страстной нежности, на которую способно только детство!
Но это была слишком крупная ссора.
Помнишь ли, что в этот вечер ты даже не решился близко подойти ко мне?
Покойной ночи, дядечка, - тихо сказал ты мне и, поклонившись, шаркнул ножкой.
Конечно, ты хотел после всех своих преступлений показаться особенно деликатным 1 , особенно приличным и кротким мальчиком. Нянька, передавая тебе единственный, известный ей признак благовоспитанности, когда-то учила тебя: «Шаркни ножкой!» И вот ты, чтобы задобрить меня, вспомнил, что у тебя есть в запасе хорошие манеры. И я понял это - и поспешил ответить так, как будто между нами ничего не произошло, но все-таки очень сдержанно:
Покойной ночи.
Но мог ли ты удовлетвориться таким миром? Да и лукавить ты не горазд еще. Перестрадав свое горе, твое сердце с новой страстью вернулось к той заветной мечте, которая так пленяла тебя весь этот день. И вечером, как только эта мечта опять овладела тобою, ты забыл и свою обиду, и свое самолюбие, и свое твердое решение всю жизнь ненавидеть меня. Ты помолчал, собрал силы и вдруг, торопясь и волнуясь, сказал мне:
Дядечка, прости меня... Я больше не буду... И, пожалуйста, все-таки покажи мне цифры! Пожалуйста!
Можно ли было после этого медлить с ответом? А я все-таки помедлил. Я, видишь ли, очень, очень умный дядя...
1 Деликатный - вежливый, мягкий в обращении.
- - II - -
Ты в этот день проснулся с новой мыслью, с новой мечтой, которая захватила всю твою душу.
Только что открылись для тебя еще не изведанные радости: иметь свои собственные книжки с картинками, пенал, цветные карандаши - непременно цветные! - и выучиться читать, рисовать и писать цифры. И все это сразу, в один день, как можно скорее. Открыв утром глаза, ты тотчас же позвал меня в детскую и засыпал горячими просьбами: как можно скорее выписать тебе детский журнал, купить книг, карандашей, бумаги и немедленно приняться за цифры.
Но сегодня царский день, все заперто, - соврал я, чтобы оттянуть дело до завтра или хоть до вечера: уж очень не хотелось мне идти в город.
Но ты замотал головою.
Нет, нет, не царский! - закричал ты тонким голоском, поднимая брови. - Вовсе не царский, - я знаю.
Да уверяю тебя, царский! - сказал я.
А я знаю, что не царский! Ну, пожа-алуйста!
Если ты будешь приставать, - сказал я строго и твердо то, что говорят в таких случаях все дяди, - если ты будешь приставать, так и совсем не куплю ничего.
Ты задумался.
Ну, что ж делать! - сказал ты со вздохом. - Ну, царский, так царский. Ну, а цифры? Ведь можно же, - сказал ты, опять поднимая брови, но уже басом, рассудительно, - ведь можно же в царский день показывать цифры?
Нет, нельзя, - поспешно сказала бабушка. - Придет полицейский и арестует... И не приставай к дяде.
Ну, это-то уж лишнее, - ответил я бабушке. - А просто мне не хочется сейчас. Вот завтра или вечером - покажу.
Нет, ты сейчас покажи!
Сейчас не хочу. Сказал - завтра.
Ну, во-от, - протянул ты. - Теперь говоришь - завтра, а потом скажешь - еще завтра. Нет, покажи сейчас!
Сердце тихо говорило мне, что я совершаю в эту минуту великий грех - лишаю тебя счастья, радости... Но тут пришло в голову мудрое правило: вредно, не полагается баловать детей.
И я твердо отрезал:
Завтра. Раз сказано - завтра, значит, так и надо сделать.
Ну, хорошо же, дядька! - пригрозил ты дерзко и весело.- Помни ты это себе!
И стал поспешно одеваться.
И как только оделся, как только пробормотал вслед за бабушкой: «Отче наш, иже еси на небеси...» и проглотил чашку молока, - вихрем понесся в зал. А через минуту оттуда уже слышались грохот опрокидываемых стульев и удалые крики...
И весь день нельзя было унять тебя. И обедал ты наспех, рассеянно, болтая ногами, и все смотрел на меня блестящими странными глазами.
Покажешь? - спрашивал ты иногда. - Непременно покажешь?
Завтра непременно покажу, - отвечал я.
Ах, как хорошо! - вскрикивал ты. - Дай Бог поскорее, поскорее завтра!
Но радость, смешанная с нетерпением, волновала тебя все больше и больше. И вот, когда мы - бабушка, мама и я - сидели перед вечером за чаем, ты нашел еще один исход своему волнению.
- - III - -
Ты придумал отличную игру: подпрыгивать, бить изо всей силы ногами в пол и при этом так звонко вскрикивать, что у нас чуть не лопались барабанные перепонки.
Перестань, Женя, - сказала мама. В ответ на это ты - трах ногами в пол!
Перестань же, деточка, когда мама просит, - сказала бабушка.
Но бабушки-то ты уж и совсем не боишься. Трах ногами в пол!
Да перестань, - сказал я, досадливо морщась и пытаясь продолжать разговор.
Сам перестань! - звонко крикнул ты мне в ответ, с дерзким блеском в глазах, и, подпрыгнув, еще сильнее ударил в пол и еще пронзительнее крикнул в такт.
Я пожал плечом и сделал вид, что больше не замечаю тебя.
Но вот тут-то и начинается история.
Я, говорю, сделал вид, что не замечаю тебя. Но сказать ли правду? Я не только не забыл о тебе после твоего дерзкого крика, но весь похолодел от внезапной ненависти к тебе. И уже должен был употреблять усилия, чтобы делать вид, что не замечаю тебя, и продолжать разыгрывать роль спокойного и рассудительного.
Но и этим дело не кончилось.
Ты крикнул снова. Крикнул, совершенно позабыв о нас и весь отдавшись тому, что происходило в твоей переполненной жизнью душе, - крикнул таким звонким криком беспричинной, божественной радости, что сам Господь Бог улыбнулся бы при этом крике. Я же в бешенстве вскочил со стула.
Перестань! - рявкнул я вдруг, неожиданно для самого себя, во все горло.
Какой черт окатил меня в эту минуту целым ушатом злобы? У меня помутилось сознание. И надо было видеть, как дрогнуло, как исказилось на мгновение твое лицо молнией ужаса!
А! - звонко и растерянно крикнул ты еще раз.
И уже без всякой радости, а только для того, чтобы показать, что ты не испугался, криво и жалко ударил в пол каблуками.
А я - я кинулся к тебе, дернул тебя за руку, да так, что ты волчком перевернулся передо мною, крепко и с наслаждением шлепнул тебя и, вытолкнув из комнаты, захлопнул дверь.
Вот тебе и цифры!
- - IV - -
От боли, от острого и внезапного оскорбления, так грубо ударившего тебя в сердце в один из самых радостных моментов твоего детства, ты, вылетевши за дверь, закатился таким страшным, таким пронзительным альтом, на какой не способен ни один певец в мире. И надолго, надолго замер... Затем набрал в легкие воздуху еще больше и поднял альт уже до невероятной высоты...
Затем паузы между верхней и нижней нотами стали сокращаться, - вопли потекли без умолку. К воплям прибавились рыдания, к рыданиям - крики о помощи. Сознание твое стало проясняться, и ты начал играть, с мучительным наслаждением играть роль умирающего.
О-ой, больно! Ой, мамочка, умираю!
Небось, не умрешь, - холодно сказал я. - Покричишь, покричишь, да и смолкнешь.
Но ты не смолкал.
Разговор, конечно, оборвался. Мне было уже стыдно, и я зажигал папиросу, не поднимая глаз на бабушку. А у бабушки вдруг задрожали губы, брови, и, отвернувшись к окну, она стала быстро, быстро колотить чайной ложкой по столу.
Ужасно испорченный ребенок! - сказала, нахмуриваясь и стараясь быть беспристрастной, мама и снова взялась за свое вязанье. - Ужасно избалован!
Ой, бабушка! Ой, милая моя бабушка! - вопил ты диким голосом, взывая теперь к последнему прибежищу - к бабушке.
И бабушка едва сидела на месте.
Ее сердце рвалось в детскую, но, в угоду мне и маме, она крепилась, смотрела из-под дрожащих бровей на темневшую улицу и быстро стучала ложечкой по столу.
Понял тогда и ты, что мы решили не сдаваться, что никто не утолит твоей боли и обиды поцелуями, мольбами о прощении. Да и слез уже не хватало. Ты до изнеможения упился своими рыданиями, своим детским горем, с которым не сравнится, может быть, ни одно человеческое горе, но прекратить вопли сразу было невозможно, хотя бы из-за одного самолюбия.
Ясно было слышно: кричать тебе уже не хочется, голос охрип и срывается, слез нет. Но ты все кричал и кричал!
Было невмоготу и мне. Хотелось встать с места, распахнуть дверь в детскую и сразу, каким-нибудь одним горячим словом, пресечь твои страдания. Но разве это согласуется с правилами разумного воспитания и с достоинством справедливого, хотя и строгого дяди.
Наконец ты затих...
- - V - -
И мы тотчас помирились? - спрашиваешь ты.
Нет, я все-таки выдержал характер. Я, по крайней мере, через полчаса после того, как ты затих, заглянул в детскую. И то как? Подошел к дверям, сделал серьезное лицо и растворил их с таким видом, точно у меня было какое-то дело. А ты в это время уже возвращался мало-помалу к обыденной жизни.
Ты сидел на полу, изредка подергивался от глубоких прерывистых вздохов, обычных у детей после долгого плача, и с потемневшим от размазанных слез личиком забавлялся своими незатейливыми игрушками - пустыми коробочками от спичек, - расставляя их по полу, между раздвинутых ног, в каком-то, только тебе одному известном порядке.
Как сжалось мое сердце при виде этих коробочек!
Но, делая вид, что отношения наши прерваны, что я оскорблен тобою, я едва взглянул на тебя. Я внимательно и строго осмотрел подоконники, столы... Где это мой портсигар?.. И уже хотел выйти, как вдруг ты поднял голову и, глядя на меня злыми, полными презрения глазами, хрипло сказал:
Теперь я никогда больше не буду любить тебя.
Потом подумал, хотел сказать еще что-то очень обидное, но запнулся, не нашелся и сказал первое, что пришло в голову:
И никогда ничего не куплю тебе.
Пожалуйста! - небрежно ответил я, пожимая плечом.- Пожалуйста! Я от такого дурного мальчика и не взял бы ничего.
Даже и японскую копеечку, какую тогда подарил, назад возьму! - крикнул ты тонким, дрогнувшим голосом, делая последнюю попытку уязвить меня.
А вот это уж и совсем нехорошо! - ответил я. - Дарить и потом отнимать! Впрочем, это твое дело.
Потом заходили к тебе мама и бабушка. И так же, как я, делали сначала вид, что вошли случайно... по делу... Затем качали головами и, стараясь не придавать своим словам значения, заводили речь о том, как это нехорошо, когда дети растут непослушными, дерзкими и добиваются того, что их никто не любит. А кончали тем, что советовали тебе пойти ко мне и попросить у меня прощения.
А то дядя рассердится и уедет в Москву, - говорила бабушка грустным тоном. - И никогда больше не приедет к нам.
И пускай не приедет! - отвечал ты едва слышно, все ниже опуская голову.
Ну, я умру, - говорила бабушка еще печальнее, совсем не думая о том, к какому жестокому средству прибегает она, чтобы заставить тебя переломить свою гордость.
И умирай, - отвечал ты сумрачным шепотом.
Хорош! - сказал я, снова чувствуя приступ раздражения. - Хорош! - повторил я, дымя папиросой и поглядывая в окно на темную пустую улицу.
И, переждав, пока пожилая худая горничная, всегда молчаливая и печальная от сознания, что она - вдова машиниста, зажгла в столовой лампу, прибавил:
Вот так мальчик!
Да не обращай на него внимания, - сказала мама, заглядывая под матовый колпак лампы, не коптит ли. - Охота тебе разговаривать с такой злючкой!
И мы сделали вид, что совсем забыли о тебе.
- - VI - -
В детской огня еще не зажигали, и стекла ее окон казались теперь синими-синими. Зимний вечер стоял за ними, и в детской было сумрачно и грустно. Ты сидел на полу и передвигал коробочки. И эти коробочки мучили меня. Я встал и решил побродить по городу.
Но тут послышался шепот бабушки.
Бесстыдник, бесстыдник! - зашептала она укоризненно. - Дядя тебя любит, возит тебе игрушки, гостинцы...
Я громко прервал:
Бабушка, этого говорить не следует. Это лишнее. Тут дело не в гостинцах.
Но бабушка знала, что делает.
Как же не в гостинцах? - ответила она. - Не дорог гостинец, а дорога память.
И, помолчав, ударила по самой чувствительной струне твоего сердца:
А кто же купит ему теперь пенал, бумаги, книжку с картинками? Да что пенал! Пенал - туда-сюда. А цифры? Ведь уж этого не купишь ни за какие деньги. Впрочем, - прибавила она, - делай, как знаешь. Сиди тут один в темноте.
И вышла из детской.
Конечно, - самолюбие твое было сломлено! Ты был побежден!
Чем неосуществимее мечта, тем пленительнее, чем пленительнее, тем неосуществимее. Я уже знаю это.
С самых ранних дней моих я у нее во власти. Но я знаю и то, что, чем дороже мне моя мечта, тем менее надежд на достижение ее. И я уже давно в борьбе с нею. Я лукавлю: делаю вид, что я равнодушен. Но что мог сделать ты?
Счастье, счастье!
Ты открыл утром глаза, переполненный жаждою счастья. И с детской доверчивостью, с открытым сердцем кинулся к жизни: скорее, скорее!
И. А. Бунин. «Цифры». Худ. И. Пчелко
Но жизнь ответила:
Потерпи.
Ну пожалуйста! - воскликнул ты страстно.
Замолчи, иначе ничего не получишь!
Ну погоди же! - крикнул ты злобно. И на время смолк.
Но сердце твое буйствовало. Ты бесновался, с грохотом валял стулья, бил ногами в пол, звонко вскрикивал от переполнявшей твое сердце радостной жажды... Тогда жизнь со всего размаха ударила тебя в сердце тупым ножом обиды. И ты закатился бешеным криком боли, призывом на помощь.
Но и тут не дрогнул ни один мускул на лице жизни... Смирись, смирись!
И ты смирился.
- - VII - -
Помнишь ли, как робко вышел ты из детской и что ты сказал мне?
Дядечка! - сказал ты мне, обессиленный борьбой за счастье и все еще алкая 1 его. - Дядечка, прости меня. И дай мне хоть каплю того счастья, жажда которого так сладко мучит меня.
Но жизнь обидчива.
Она сделала притворно-печальное лицо.
Цифры! Я понимаю, что это счастье... Но ты не любишь дядю, огорчаешь его...
Да нет, неправда, - люблю, очень люблю! - горячо воскликнул ты.
И жизнь наконец смилостивилась.
Ну уж Бог с тобою! Неси сюда к столу стул, давай карандаши, бумагу...
И какой радостью засияли твои глаза!
Как хлопотал ты! Как боялся рассердить меня, каким покорным, деликатным, осторожным в каждом своем движении старался ты быть! И как жадно ловил ты каждое мое слово!
Глубоко дыша от волнения, поминутно слюнявя огрызок карандаша, с каким старанием налегал ты на стол грудью и крутил головой, выводя таинственные, полные какого-то божественного значения черточки!
Теперь уже и я наслаждался твоей радостью, с нежностью обоняя запах твоих волос: детские волосы хорошо пахнут, - совсем как маленькие птички.
Один... Два... Пять... - говорил ты, с трудом водя по бумаге.
Да нет, не так. Один, два, три, четыре.
Сейчас, сейчас, - говорил ты поспешно. - Я сначала: один, два...
И смущенно глядел на меня.
Ну, три...
Да, да, три! - подхватывал ты радостно. - Я знаю. И выводил три, как большую прописную букву Е.
И. А. Бунин
1 Алкать - сильно желать чего-нибудь.
Вопросы и задания
- Кто виноват в ссоре мальчика и дяди? Как оценивает дядя поступки мальчика и собственное решение? Почему бабушка и мама поддерживали дядю? На чьей стороне автор? А вы?
- Какие чувства возникли у вас при чтении этого рассказа? Над чем он заставляет задуматься? Подготовьте чтение по ролям или комментированное чтение (т. е. с пояснением прочитанного).
- Прочитайте самостоятельно рассказы И. А. Бунина «Лапти», «В деревне». Что хотел сказать писатель? Напишите отзыв на один из них.
Развивайте дар слова
- Какими смысловыми оттенками обогащается слово «деликатный» в повествовании автора и в высказываниях героев? Используете ли вы это слово в своей речи? Если да, то при каких обстоятельствах?
- Какая мелодия, по вашему мнению, была найдена Буниным к этому рассказу (печальная, радостная, звонкая, тихая, сочетание плавного и резкого тонов и т. д.)?
- «Чехов весь направлен в сторону внутреннего мира человека, здесь он достигает необыкновенной точности. Этому не устаешь поражаться, перечитывая его во второй, в десятый, в сотый раз... А Бунин удивляет прежде всего изображением внешнего мира, пластикой, живописностью...
Чехов же всегда умел проникать во внутренний мир другого, и так глубоко, что ему совершенно не нужно было описывать внешние приметы человека, - благодаря точности изображения „нутра" читатель как бы угадывал все остальное. У Бунина наоборот. Он настолько точно живописал внешний мир, воссоздавая его в мельчайших деталях - в цвете, в звуках, в красках, - что воображение читателя дорисовывало мир внутренний. У таких художников не перестаешь учиться» (Юрий Трифонов. Из беседы с корреспондентом).
Согласны ли вы с этим суждением? Подготовьте развернутый ответ, подтвердив его цитатами из текста.
Текущая страница: 1 (всего у книги 1 страниц)
Иван Бунин
Цифры
I
Мой дорогой, когда ты вырастешь, вспомнишь ли ты, как однажды зимним вечером ты вышел из детской в столовую, остановился на пороге, – это было после одной из наших ссор с тобой, – и, опустив глаза, сделал такое грустное личико?
Должен сказать тебе: ты большой шалун. Когда что-нибудь увлечет тебя, ты не знаешь удержу. Ты часто с раннего утра до поздней ночи не даешь покоя всему дому своим криком и беготней. Зато я и не знаю ничего трогательнее тебя, когда ты, насладившись своим буйством, притихнешь, побродишь по комнатам и, наконец, подойдешь и сиротливо прижмешься к моему плечу! Если же дело происходит после ссоры и если я в эту минуту скажу тебе хоть одно ласковое слово, то нельзя выразить, что ты тогда делаешь с моим сердцем! Как порывисто кидаешься ты целовать меня, как крепко обвиваешь руками мою шею, в избытке той беззаветной преданности, той страстной нежности, на которую способно только детство!
Но это была слишком крупная ссора.
Помнишь ли, что в этот вечер ты даже не решился близко подойти ко мне?
– Покойной ночи, дядечка, – тихо сказал ты мне и, поклонившись, шаркнул ножкой.
Конечно, ты хотел, после всех своих преступлений, показаться особенно деликатным, особенно приличным и кротким мальчиком. Нянька, передавая тебе единственный известный ей признак благовоспитанности, когда-то учила тебя: «Шаркни ножкой!» И вот ты, чтобы задобрить меня, вспомнил, что у тебя есть в запасе хорошие манеры. И я понял это – и поспешил ответить так, как будто между нами ничего не произошло, но все-таки очень сдержанно:
– Покойной ночи.
Но мог ли ты удовлетвориться таким миром? Да и лукавить ты не горазд еще. Перестрадав свое горе, твое сердце с новой страстью вернулось к той заветной мечте, которая так пленяла тебя весь этот день. И вечером, как только эта мечта опять овладела тобою, ты забыл и свою обиду, и свое самолюбие, и свое твердое решение всю жизнь ненавидеть меня. Ты помолчал, собрал силы и вдруг, торопясь и волнуясь, сказал мне:
– Дядечка, прости меня… Я больше не буду… И, пожалуйста, все-таки покажи мне цифры! Пожалуйста!
Можно ли было после этого медлить ответом? А я все-таки помедлил. Я, видишь ли, очень, очень умный дядя…
II
Ты в этот день проснулся с новой мыслью, с новой мечтой, которая захватила всю твою душу.
Только что открылись для тебя еще не изведанные радости: иметь свои собственные книжки с картинками, пенал, цветные карандаши – непременно цветные! – и выучиться читать, рисовать и писать цифры. И все это сразу, в один день, как можно скорее. Открыв утром глаза, ты тотчас же позвал меня в детскую и засыпал горячими просьбами: как можно скорее выписать тебе детский журнал, купить книг, карандашей, бумаги и немедленно приняться за цифры.
– Но сегодня царский день, все заперто, – соврал я, чтобы оттянуть дело до завтра или хоть до вечера: уж очень не хотелось мне идти в город.
Но ты замотал головою.
– Нет, нет, не царский! – закричал ты тонким голоском, поднимая брови. – Вовсе не царский, – я знаю.
– Да уверяю тебя, царский! – сказал я.
– А я знаю, что не царский! Ну, пожа-алуйста!
– Если ты будешь приставать, – сказал я строго и твердо то, что говорят в таких случаях все дяди, – если ты будешь приставать, так и совсем не куплю ничего.
Ты задумался.
– Ну, что ж делать! – сказал ты со вздохом. – Ну, царский так царский. Ну, а цифры? Ведь можно же, – сказал ты, опять поднимая брови, но уже басом, рассудительно, – ведь можно же в царский день показывать цифры?
– Нет, нельзя, – поспешно сказала бабушка. – Придет полицейский и арестует… И не приставай к дяде.
– Ну, это-то уж лишнее, – ответил я бабушке. – А просто мне не хочется сейчас. Вот завтра или вечером – покажу.
– Нет, ты сейчас покажи!
– Сейчас не хочу. Сказал, – завтра.
– Ну, во-от, – протянул ты. – Теперь говоришь – завтра, а потом скажешь – еще завтра. Нет, покажи сейчас!
Сердце тихо говорило мне, что я совершаю в эту минуту великий грех – лишаю тебя счастья, радости… Но тут пришло в голову мудрое правило: вредно, не полагается баловать детей.
И я твердо отрезал:
– Завтра. Раз сказано – завтра, значит, так и надо сделать.
– Ну, хорошо же, дядька! – пригрозил ты дерзко и весело. – Помни ты это себе!
И стал поспешно одеваться.
И как только оделся, как только пробормотал вслед за бабушкой: «Отче наш, иже еси на небеси…» – и проглотил чашку молока, – вихрем понесся в зал. А через минуту оттуда уже слышались грохот опрокидываемых стульев и удалые крики…
И весь день нельзя было унять тебя. И обедал ты наспех, рассеянно, болтая ногами, и все смотрел на меня блестящими странными глазами.
– Покажешь? – спрашивал ты иногда. – Непременно покажешь?
– Завтра непременно покажу, – отвечал я.
– Ах, как хорошо! – вскрикивал ты. – Дай бог поскорее, поскорее завтра!
Но радость, смешанная с нетерпением, волновала тебя все больше и больше. И вот, когда мы – бабушка, мама и я – сидели перед вечером за чаем, ты нашел еще один исход своему волнению.
III
Ты придумал отличную игру: подпрыгивать, бить изо всей силы ногами в пол и при этом так звонко вскрикивать, что у нас чуть не лопались барабанные перепонки.
– Перестань, Женя, – сказала мама.
В ответ на это ты – трах ногами в пол!
– Перестань же, деточка, когда мама просит, – сказала бабушка.
Но бабушки-то ты уж и совсем не боишься. Трах ногами в пол!
– Да перестань, – сказал я, досадливо морщась и пытаясь продолжать разговор.
– Сам перестань! – звонко крикнул ты мне в ответ, с дерзким блеском в глазах и, подпрыгнув, еще сильнее ударил в пол и еще пронзительнее крикнул в такт.
Я пожал плечом и сделал вид, что больше не замечаю тебя.
Но вот тут-то и начинается история.
Я, говорю, сделал вид, что не замечаю тебя. Но сказать ли правду? Я не только не забыл о тебе после твоего дерзкого крика, но весь похолодел от внезапной ненависти к тебе. И уже должен был употреблять усилия, чтобы делать вид, что не замечаю тебя, и продолжать разыгрывать роль спокойного и рассудительного.
Но и этим дело не кончилось.
Ты крикнул снова. Крикнул, совершенно позабыв о нас и весь отдавшись тому, что происходило в твоей переполненной жизнью душе, – крикнул таким звонким криком беспричинной, божественной радости, что сам Господь Бог улыбнулся бы при этом крике. Я же в бешенстве вскочил со стула.
– Перестань! – рявкнул я вдруг, неожиданно для самого себя, во все горло.
Какой черт окатил меня в эту минуту целым ушатом злобы? У меня помутилось сознание. И надо было видеть, как дрогнуло, как исказилось на мгновение твое лицо молнией ужаса!
– А! – звонко и растерянно крикнул ты еще раз.
И уже без всякой радости, а только для того, чтобы показать, что ты не испугался, криво и жалко ударил в пол каблуками.
А я – я кинулся к тебе, дернул тебя за руку, да так, что ты волчком перевернулся передо мною, крепко и с наслаждением шлепнул тебя и, вытолкнув из комнаты, захлопнул дверь.
Вот тебе и цифры!
IV
От боли, от острого и внезапного оскорбления, так грубо ударившего тебя в сердце в один из самых радостных моментов твоего детства, ты, вылетевши за дверь, закатился таким страшным, таким пронзительным альтом, на какой не способен ни один певец в мире. И надолго, надолго замер… Затем набрал в легкие воздуху еще больше и поднял альт уже до невероятной высоты…
Затем паузы между верхней и нижней нотами стали сокращаться, – вопли потекли без умолку. К воплям прибавились рыдания, к рыданиям – крики о помощи. Сознание твое стало проясняться, и ты начал играть, с мучительным наслаждением играть роль умирающего.
– О-ой, больно! Ой, мамочка, умираю!
– Небось не умрешь, – холодно сказал я. – Покричишь, покричишь, да и смолкнешь.
Но ты не смолкал.
Разговор, конечно, оборвался. Мне было уже стыдно, и я зажигал папиросу, не поднимая глаз на бабушку. А у бабушки вдруг задрожали губы, брови, и, отвернувшись к окну, она стала быстро, быстро колотить чайной ложкой по столу.
– Ужасно испорченный ребенок! – сказала, нахмуриваясь и стараясь быть беспристрастной, мама и снова взялась за свое вязанье. – Ужасно избалован!
– Ой, бабушка! Ой, милая моя бабушка! – вопил ты диким голосом, взывая теперь к последнему прибежищу – к бабушке.
И бабушка едва сидела на месте.
Ее сердце рвалось в детскую, но, в угоду мне и маме, она крепилась, смотрела из-под дрожащих бровей на темневшую улицу и быстро стучала ложечкой по столу.
Понял тогда и ты, что мы решили не сдаваться, что никто не утолит твоей боли и обиды поцелуями, мольбами о прощении. Да и слез уже не хватало. Ты до изнеможения упился своими рыданиями, своим детским горем, с которым не сравнится, может быть, ни одно человеческое горе, но прекратить вопли сразу было невозможно, хотя бы из-за одного самолюбия.
Ясно было слышно: кричать тебе уже не хочется, голос охрип и срывается, слез нет. Но ты все кричал и кричал!
Было невмоготу и мне. Хотелось встать с места, распахнуть дверь в детскую и сразу, каким-нибудь одним горячим словом, пресечь твои страдания. Но разве это согласуется с правилами разумного воспитания и с достоинством справедливого, хотя и строгого дяди?
Наконец ты затих…
V
– И мы тотчас помирились? – спрашиваешь ты.
Нет, я таки выдержал характер. Я, по крайней мере, через полчаса после того, как ты затих, заглянул в детскую. И то как? Подошел к дверям, сделал серьезное лицо и растворил их с таким видом, точно у меня было какое-то дело. А ты в это время уже возвращался мало-помалу к обыденной жизни.
Ты сидел на полу, изредка подергивался от глубоких прерывистых вздохов, обычных у детей после долгого плача, и с потемневшим от размазанных слез личиком забавлялся своими незатейливыми игрушками – пустыми коробочками от спичек, – расставляя их по полу, между раздвинутых ног, в каком-то, только тебе одному известном порядке.
Как сжалось мое сердце при виде этих коробочек!
Но, делая вид, что отношения наши прерваны, что я оскорблен тобою, я едва взглянул на тебя. Я внимательно и строго осмотрел подоконники, столы… Где это мой портсигар?… И уже хотел выйти, как вдруг ты поднял голову и, глядя на меня злыми, полными презрения глазами, хрипло сказал:
– Теперь я никогда больше не буду любить тебя.
Потом подумал, хотел сказать еще что-то очень обидное, но запнулся, не нашелся и сказал первое, что пришло в голову:
– И никогда ничего не куплю тебе.
– Пожалуйста! – небрежно ответил я, пожимая плечом. – Пожалуйста! Я от такого дурного мальчика и не взял бы ничего.
– Даже и японскую копеечку, какую тогда подарил, назад возьму! – крикнул ты тонким, дрогнувшим голосом, делая последнюю попытку уязвить меня.
– А вот это уж и совсем нехорошо! – ответил я. – Дарить и потом отнимать! Впрочем, это твое дело.
Потом заходили к тебе мама и бабушка. И так же, как я, делали сначала вид, что вошли случайно… по делу… Затем качали головами и, стараясь не придавать своим словам значения, заводили речь о том, как это нехорошо, когда дети растут непослушными, дерзкими и добиваются того, что их никто не любит. А кончали тем, что советовали тебе пойти ко мне и попросить у меня прощения.
– А то дядя рассердится и уедет в Москву, – говорила бабушка грустным тоном. – И никогда больше не приедет к нам.
– И пускай не приедет! – отвечал ты едва слышно, все ниже опуская голову.
– Ну, я умру, – говорила бабушка еще печальнее, совсем не думая о том, к какому жестокому средству прибегает она, чтобы заставить тебя переломить свою гордость.
– И умирай, – отвечал ты сумрачным шепотом.
– Хорош! – сказал я, снова чувствуя приступ раздражения. – Хорош! – повторил я, дымя папиросой и поглядывая в окно на темную пустую улицу.
И, переждав, пока пожилая худая горничная, всегда молчаливая и печальная от сознания, что она – вдова машиниста, зажгла в столовой лампу, прибавил:
– Вот так мальчик!
– Да не обращай на него внимания, – сказала мама, заглядывая под матовый колпак лампы, не коптит ли. – Охота тебе разговаривать с такой злючкой!
И мы сделали вид, что совсем забыли о тебе.
VI
В детской огня еще не зажигали, и стекла ее окон казались теперь синими-синими. Зимний вечер стоял за ними, и в детской было сумрачно и грустно. Ты сидел на полу и передвигал коробочки. И эти коробочки мучили меня. Я встал и решил побродить по городу.
Но тут послышался шепот бабушки.
– Бесстыдник, бесстыдник! – зашептала она укоризненно. – Дядя тебя любит, возит тебе игрушки, гостинцы…
Я громко прервал:
– Бабушка, этого говорить не следует. Это лишнее. Тут дело не в гостинцах.
Но бабушка знала, что делает.
– Как же не в гостинцах? – ответила она. – Не дорог гостинец, а дорога память.
И, помолчав, ударила по самой чувствительной струне твоего сердца:
– А кто же купит ему теперь пенал, бумаги, книжку с картинками? Да что пенал! Пенал – туда-сюда. А цифры? Ведь уж этого не купишь ни за какие деньги, впрочем, – прибавила она, – делай, как знаешь. Сиди тут один в темноте.
И вышла из детской.
Кончено, самолюбие твое было сломлено! Ты был побежден.
Чем неосуществимее мечта, тем пленительнее, чем пленительнее, тем неосуществимее. Я уже знаю это.
С самых ранних дней моих я у нее во власти. Но я знаю и то, что, чем дороже мне моя мечта, тем менее надежд на достижение ее. И я уже давно в борьбе с нею. Я лукавлю: делаю вид, что я равнодушен. Но что мог сделать ты?
Счастье, счастье!
Ты открыл утром глаза, переполненный жаждою счастья. И с детской доверчивостью, с открытым сердцем кинулся к жизни: скорее, скорее!
Но жизнь ответила:
– Потерпи.
– Ну пожалуйста! – воскликнул ты страстно.
– Замолчи, иначе ничего не получишь!
– Ну погоди же! – крикнул ты злобно. И на время смолк.
Но сердце твое буйствовало. Ты бесновался, с грохотом валял стулья, бил ногами в пол, звонко вскрикивал от переполнявшей твое сердце радостной жажды… Тогда жизнь со всего размаха ударила тебя в сердце тупым ножом обиды. И ты закатился бешеным криком боли, призывом на помощь.
Но и тут не дрогнул ни один мускул на лице жизни… Смирись, смирись!
И ты смирился.
VII
Помнишь ли, как робко вышел ты из детской и что ты сказал мне?
– Дядечка! – сказал ты мне, обессиленный борьбой за счастье и все еще алкая его. – Дядечка, прости меня. И дай мне хоть каплю того счастья, жажда которого так сладко мучит меня.
Но жизнь обидчива.
Она сделала притворно печальное лицо.
– Цифры! Я понимаю, что это счастье… Но ты не любишь дядю, огорчаешь его…
– Да нет, неправда, – люблю, очень люблю! – горячо воскликнул ты.
И жизнь наконец смилостивилась.
– Ну уж бог с тобою! Неси сюда к столу стул, давай карандаши, бумагу…
И какой радостью засияли твои глаза!
Как хлопотал ты! Как боялся рассердить меня, каким покорным, деликатным, осторожным в каждом своем движении старался ты быть! И как жадно ловил ты каждое мое слово!
Глубоко дыша от волнения, поминутно слюнявя огрызок карандаша, с каким старанием налегал ты на стол грудью и крутил головой, выводя таинственные, полные какого-то божественного значения черточки!
Теперь уже и я наслаждался твоею радостью, с нежностью обоняя запах твоих волос: детские волосы хорошо пахнут, – совсем как маленькие птички.
– Один… Два… Пять… – говорил ты, с трудом водя по бумаге.
– Да нет, не так. Один, два, три, четыре.
– Сейчас, сейчас, – говорил ты поспешно. – Я сначала: один, два…
И смущенно глядел на меня.
– Ну, три…
– Да, да, три! – подхватывал ты радостно. – Я знаю. И выводил три, как большую прописную букву Е.
План пересказа
1. Ссора рассказчика со своим племянником.
2. Мальчик горит желанием получить подарки от дяди, а тот не хочет его баловать.
3. Ребенок не реагирует на замечания взрослых, играя в шумную игру. Дядя наказывает его. Мальчик рыдает.
4. Когда он успокаивается, взрослые убеждают его, что он должен попросить у дяди прощения. Мальчик непреклонен.
5. Мальчик смягчается, а дядя показывает ему, как пишутся цифры.
Пересказ
I
Повествователь вспоминает о ссоре с племянником. Мальчик — большой шалун. Обычно после буйно проведенного дня он подходит, прижимается к плечу, и достаточно одного ласкового слова, чтобы он забыл все обиды и кинулся целовать и обнимать своего дядю.
Но в этот раз была слишком большая ссора. И мальчик не решился подойти близко, а лишь пожелал «покойной ночи» и шаркнул ножкой, как очень воспитанный ребенок. Но «перестрадав свое горе», забыв обиды, мальчик вновь попросил показать ему цифры: «Дядечка, прости меня... Я больше не буду... И, пожалуйста, все-таки покажи мне цифры! Пожалуйста!» Дядя с ответом помедлил.
В этот день мальчик проснулся с новой мечтой: «иметь свои собственные книжки с картинками, пенал, цветные карандаши — непременно цветные! — и выучиться читать, рисовать и писать цифры. И все это сразу, в один день, как можно скорее».
Проснувшись, он тут же позвал к себе дядю и «засыпал горячими просьбами». Тому не хотелось идти в город, и он стал придумывать различные причины, чтобы этого не делать, пообещав все купить завтра. Сердце подсказывало, что нельзя отказывать и лишать радости ребенка, но в голове всплыло правило, что нельзя также и баловать детей. Мальчик разволновался и дерзко пригрозил: «Помни ты это себе». Весь день он вел себя очень плохо.
Вечером, когда бабушка, мама и дядя собрались за чаем, мальчик нашел другой выход своим эмоциям.
Он придумал замечательную игру: «подпрыгивать, бить изо всей силы ногами в пол и при этом так звонко вскрикивать, что у нас чуть не лопались барабанные перепонки». На просьбы бабушки и мамы мальчик не реагировал. Тут ему сделал замечание дядя. Но мальчик в ответ подпрыгнул еще сильнее и крикнул еще пронзительнее. Дядя сделал вид, что больше его не замечает. Тут-то и начинается история. Мальчик крикнул снова и с такой божественной радостью, что «сам Господь Бог улыбнулся бы при этом крике». Но дядя в бешенстве вскочил со стула и крикнул во все горло: «Перестань!»
Лицо мальчика на секунду исказилось от ужаса, но, чтобы скрыть это, он еще раз жалко ударил ногами в пол. Дядя кинулся к нему и дернул за руку так, что мальчик перевернулся волчком, шлепнул его и, вытолкнув из комнаты, закрыл дверь.
От обиды и неожиданного оскорбления мальчик «закатился таким страшным, таким пронзительным альтом, на какой не способен ни один певец в мире». Мальчик кричал, рыдал, просил о помощи, но взрослые были неумолимы. Бабушка еле сдерживала слезы и желание вбежать в детскую.
Измученный своими рыданиями, упившись своим детским горем, с которым не сравнится, может быть, ни одно человеческое горе, он затих.
Дядя выдержал характер и через полчаса, после того как затих ребенок, заглянул в детскую. Мальчик сидел на полу, подергиваясь от вздохов, и играл. Сердце дяди сжалось, но он не показал вида. Ребенок поднял голову и посмотрел полными презрения глазами: «Теперь я никогда больше не буду любить тебя!» Затем он пригрозил дяде, что ничего ему не купит и даже заберет подаренную когда-то японскую копеечку. На что дядя ответил: «Пожалуйста!»
Затем к мальчику заходили бабушка и мама. Они говорили, что нехорошо, когда дети растут непослушными, советовали мальчику подойти к дяде и попросить прощения. Но ребенок упорствовал, и тогда все сделали вид, что забыли о нем.
Дядя переживал и решил побродить по городу. Бабушка стала стыдить мальчика, затем, помолчав, «ударила по самой чувствительной струне» его сердца. Она сказала: «Кто же тебе купит пенал, бумаги, книжку с картинками? А цифры?» Этим самолюбие мальчика было сломлено. Взрослые сделали так, чтобы он смирился, коль не захотел потерпеть. И он смирился.
Выйдя из детской, мальчик попросил у дядечки прощения, умолял его дать хоть каплю счастья, которого он так жаждет. Дядя немного еще пожурил его и согласился. Огромной радостью засияли глаза мальчика. Он с необыкновенным старанием начал выводить цифры: один... два... пять... А дядя тем временем наслаждался радостью ребенка, с нежностью глядя на него.
Джальма! - строго, отрывисто и негромко говорит он каким-то особым, условным тоном Джальме, которая перепрыгивает с кочки на кочку с высунутым языком. Длинные сапоги его тонут в мягких кочкарниках, серебристые пузыри болотного газа остаются в его следах, отпечатывающихся в бархатистой и влажной траве… От солнца и блеска воды светло так, что больно смотреть…
Джальма!
И Джальма, быстро оглянувшись, вдруг - бултых в воду и, наслаждаясь прохладой, медленно плывет к затону, к камышам. Из воды видна только ее вытянутая прилизанная голова с опущенными ушами и длинный хвост, который плывет за ней, как чужой, как палка. Потом и голова и хвост заворачивают в камыши, отец входит по колена в воду и тоже скрывается в камышах. Проходит десять, двадцать минут напряженного молчания… Где-то далеко раздается тяжкий, глухой выстрел… Весь встрепенувшись, пристально глядит Иля вперед, но за камышами ничего не видно.
В камышах что-то осторожно попискивает и булькает; по широкой луже недалеко от дрожек, извиваясь, проплывает уж; перламутрово-голубые стрекозы с треском распускают длинные стеклянные крылышки, вылетая из горячей грани, а высоко в небе медленно вырастает и вытягивается большое белоснежное облако… Вот оно приняло образ сказочного исполина, а из затона, в котором, углубляя его, ярко светит отражение этого исполина, что-то глухо, угрюмо и жалобно ухнуло… Ухнуло и выжидательно замолчало…
Бычки! - вспоминает Иля загадочное слово, оброненное отцом, и весь замирает от сладкого ужаса.
Воображение мгновенно создает образ какого-то фантастического существа, одного из тех страшных подводных жителей, что глубоко скрываются в болотах и только изредка высовывают свои лобастые рогатые головы с выпученными глазами на свет божий. Что, если выглянет такой бычок именно теперь, в этот безмолвный час знойного полдня? И, косясь на затон, Иля не замечает, что картуз его съехал на затылок, что комары облепили ему потную шею и руки и что ослепительно-жаркое солнце бьет прямо в лицо… Вдруг раздается кашель. Иля вздрагивает и мгновенно возвращается к действительности. Отец идет, по пояс мокрый, хлюпает тяжелыми сапогами, налитыми болотной водой.
Тут… бычки, - говорит Иля нерешительно.
Ну и что же?
Они очень большие?
Кто? Бычки-то? Да ведь это жучки! Водяные жучки!
Как жучки? - бормочет Иля, пораженный и разочарованный.
Отец раскраснелся, расстегнул ворот рубахи, лицо у него доброе и оживленное. Подойдя к дрожкам, он бросает Иле убитого чирка, и, мгновенно забыв о бычках, Иля с жадностью ловит его на лету. Чирок еще теплый! Головка с закатившимися глазами, подернутыми белесою пленкой, бессильно падает на радужный зобик, брюшко в запекшейся крови… Но как оно славно пахнет тиной и порохом! И Джальма вылезает из осоки тоже веселая и удовлетворенная. Глаза безумные, с длинного красного языка льет слюна, белая атласная шерсть вся прилизана, уши висят, ноги в иле, - точно в черных чулках…
Мокрые блестящие шины колес снова шуршат по бархатной сочной траве, изредка врезываясь в воду и разбрасывая во все стороны светлые длинные брызги. Лужи, в которых золотыми полосами то там, то здесь резко вспыхивает жаркий солнечный блеск, мелькают перед глазами… Из куги то и дело с жалобными стонами вырываются кулички… Потом мягкий кочкарник сразу обрывается, - дрожки снова трещат по дороге, убегающей в гору…
Ах, когда Иля вырастет, он будет самым счастливым человеком в мире! Он поселится на хуторе, будет жить только охотой, будет каждый день чистить кирпичом и промывать свое ружье, будет варить себе кулеш, спать возле порога дома на войлоке, а просыпаться еще в ту пору, когда едва-едва брезжит зелено- серебристый рассвет…
Но и теперь чудесно. Дышит Иля чистым полевым ветром, слушает хохлатых жаворонков, распевающих над полями, в облаках, в бесконечном просторе… Степь вокруг, куда ни кинь взор, зеленая, ровная, вольная. И ни души в степи, ни кустика, ни деревца, - только далеко впереди машет, как утопающий руками, чья- то мельница.
1903–1926
Цифры
Мой дорогой, когда ты вырастешь, вспомнишь ли ты, как однажды зимним вечером ты вышел из детской в столовую, остановился на пороге, - это было после одной из наших ссор с тобой, - и, опустив глаза, сделал такое грустное личико?
Должен сказать тебе: ты большой шалун. Когда что-нибудь увлечет тебя, ты не знаешь удержу. Ты часто с раннего утра до поздней ночи не даешь покоя всему дому своим криком и беготней. Зато я и не знаю ничего трогательнее тебя, когда ты, насладившись своим буйством, притихнешь, побродишь по комнатам и, наконец, подойдешь и сиротливо прижмешься к моему плечу! Если же дело происходит после ссоры и если я в эту минуту скажу тебе хоть одно ласковое слово, то нельзя выразить, что ты тогда делаешь с моим сердцем! Как порывисто кидаешься ты целовать меня, как крепко обвиваешь руками мою шею, в избытке той беззаветной преданности, той страстной нежности, на которую способно только детство!
Но это была слишком крупная ссора.
Помнишь ли, что в этот вечер ты даже не решился близко подойти ко мне?
Покойной ночи, дядечка, - тихо сказал ты мне и, поклонившись, шаркнул ножкой.
Конечно, ты хотел, после всех своих преступлений, показаться особенно деликатным, особенно приличным и кротким мальчиком. Нянька, передавая тебе единственный известный ей признак благовоспитанности, когда-то учила тебя: «Шаркни ножкой!» И вот ты, чтобы задобрить меня, вспомнил, что у тебя есть в запасе хорошие манеры. И я понял это - и поспешил ответить так, как будто между нами ничего не произошло, но все-таки очень сдержанно:
Покойной ночи.
Но мог ли ты удовлетвориться таким миром? Да и лукавить ты не горазд еще. Перестрадав свое горе, твое сердце с новой страстью вернулось к той заветной мечте, которая так пленяла тебя весь этот день. И вечером, как только эта мечта опять овладела тобою, ты забыл и свою обиду, и свое самолюбие, и свое твердое решение всю жизнь ненавидеть меня. Ты помолчал, собрал силы и вдруг, торопясь и волнуясь, сказал мне:
Дядечка, прости меня… Я больше не буду… И, пожалуйста, все-таки покажи мне цифры! Пожалуйста!
Можно ли было после этого медлить ответом? А я все-таки помедлил. Я, видишь ли, очень, очень умный дядя…
Ты в этот день проснулся с новой мыслью, с новой мечтой, которая захватила всю твою душу.
Только что открылись для тебя еще не изведанные радости: иметь свои собственные книжки с картинками, пенал, цветные карандаши - непременно цветные! - и выучиться читать, рисовать и писать цифры. И все это сразу, в один день, как можно скорее. Открыв утром глаза, ты тотчас же позвал меня в детскую и засыпал горячими просьбами: как можно скорее выписать тебе детский журнал, купить книг, карандашей, бумаги и немедленно приняться за цифры.
Но сегодня царский день, все заперто, - соврал я, чтобы оттянуть дело до завтра или хоть до вечера: уж очень не хотелось мне идти в город.
Но ты замотал головою.
Нет, нет, не царский! - закричал ты тонким голоском, поднимая брови. - Вовсе не царский, - я знаю.
Да уверяю тебя, царский! - сказал я.
А я знаю, что не царский! Ну, пожа-алуйста!
Если ты будешь приставать, - сказал я строго и твердо то, что говорят в таких случаях все дяди, - если ты будешь приставать, так и совсем не куплю ничего.
Ты задумался.
Ну, что ж делать! - сказал ты со вздохом. - Ну, царский так царский. Ну, а цифры? Ведь можно же, - сказал ты, опять поднимая брови, но уже басом, рассудительно, - ведь можно же в царский день показывать цифры?
Нет, нельзя, - поспешно сказала бабушка. - Придет полицейский и арестует… И не приставай к дяде.
Ну, это-то уж лишнее, - ответил я бабушке. - А просто мне не хочется сейчас. Вот завтра или вечером - покажу.
Нет, ты сейчас покажи!
Сейчас не хочу. Сказал, - завтра.
Ну, во-от, - протянул ты. - Теперь говоришь - завтра, а потом скажешь - еще завтра. Нет, покажи сейчас!
Сердце тихо говорило мне, что я совершаю в эту минуту великий грех - лишаю тебя счастья, радости… Но тут пришло в голову мудрое правило: вредно, не полагается баловать детей.
И я твердо отрезал:
Завтра. Раз сказано - завтра, значит, так и надо сделать.
Ну, хорошо же, дядька! - пригрозил ты дерзко и весело. - Помни ты это себе!
И стал поспешно одеваться.
И как только оделся, как только пробормотал вслед за бабушкой: «Отче наш, иже еси на небеси…» - и проглотил чашку молока, - вихрем понесся в зал. А через минуту оттуда уже слышались грохот опрокидываемых стульев и удалые крики…
И весь день нельзя было унять тебя. И обедал ты наспех, рассеянно, болтая ногами, и все смотрел на меня блестящими странными глазами.
Покажешь? - спрашивал ты иногда. - Непременно покажешь?
Завтра непременно покажу, - отвечал я.
Ах, как хорошо! - вскрикивал ты. - Дай бог поскорее, поскорее завтра!
Но радость, смешанная с нетерпением, волновала тебя все больше и больше. И вот, когда мы - бабушка, мама и я - сидели перед вечером за чаем, ты нашел еще один исход своему волнению.
Ты придумал отличную игру: подпрыгивать, бить изо всей силы ногами в пол и при этом так звонко вскрикивать, что у нас чуть не лопались барабанные перепонки.
Перестань, Женя, - сказала мама.
В ответ на это ты - трах ногами в пол!
Перестань же, деточка, когда мама просит, - сказала бабушка.
Но бабушки-то ты уж и совсем не боишься. Трах ногами в пол!
Да перестань, - сказал я, досадливо морщась и пытаясь продолжать разговор.
Сам перестань! - звонко крикнул ты мне в ответ, с дерзким блеском в глазах и, подпрыгнув, еще сильнее ударил в пол и еще пронзительнее крикнул в такт.
Я пожал плечом и сделал вид, что больше не замечаю тебя.
Но вот тут-то и начинается история.
Я, говорю, сделал вид, что не замечаю тебя. Но сказать ли правду? Я не только не забыл о тебе после твоего дерзкого крика, но весь похолодел от внезапной ненависти к тебе. И уже должен был употреблять усилия, чтобы делать вид, что не замечаю тебя, и продолжать разыгрывать роль спокойного и рассудительного.
Но и этим дело не кончилось.
Ты крикнул снова. Крикнул, совершенно позабыв о нас и весь отдавшись тому, что происходило в твоей переполненной жизнью душе, - крикнул таким звонким криком беспричинной, божественной радости, что сам Господь Бог улыбнулся бы при этом крике. Я же в бешенстве вскочил со стула.
Перестань! - рявкнул я вдруг, неожиданно для самого себя, во все горло.
Какой черт окатил меня в эту минуту целым ушатом злобы? У меня помутилось сознание. И надо было видеть, как дрогнуло, как исказилось на мгновение твое лицо молнией ужаса!
А! - звонко и растерянно крикнул ты еще раз.
И уже без всякой радости, а только для того, чтобы показать, что ты не испугался, криво и жалко ударил в пол каблуками.
А я - я кинулся к тебе, дернул тебя за руку, да так, что ты волчком перевернулся передо мною, крепко и с наслаждением шлепнул тебя и, вытолкнув из комнаты, захлопнул дверь.
Вот тебе и цифры!
От боли, от острого и внезапного оскорбления, так грубо ударившего тебя в сердце в один из самых радостных моментов твоего детства, ты, вылетевши за дверь, закатился таким страшным, таким пронзительным альтом, на какой не способен ни один певец в мире. И надолго, надолго замер… Затем набрал в легкие воздуху еще больше и поднял альт уже до невероятной высоты…
Затем паузы между верхней и нижней нотами стали сокращаться, - вопли потекли без умолку. К воплям прибавились рыдания, к рыданиям - крики о помощи. Сознание твое стало проясняться, и ты начал играть, с мучительным наслаждением играть роль умирающего.
О-ой, больно! Ой, мамочка, умираю!
Небось не умрешь, - холодно сказал я. - Покричишь, покричишь, да и смолкнешь.
Но ты не смолкал.
Разговор, конечно, оборвался. Мне было уже стыдно, и я зажигал папиросу, не поднимая глаз на бабушку. А у бабушки вдруг задрожали губы, брови, и, отвернувшись к окну, она стала быстро, быстро колотить чайной ложкой по столу.
Ужасно испорченный ребенок! - сказала, нахмуриваясь и стараясь быть беспристрастной, мама и снова взялась за свое вязанье. - Ужасно избалован!
Ой, бабушка! Ой, милая моя бабушка! - вопил ты диким голосом, взывая теперь к последнему прибежищу - к бабушке.
И бабушка едва сидела на месте.
Ее сердце рвалось в детскую, но, в угоду мне и маме, она крепилась, смотрела из-под дрожащих бровей на темневшую улицу и быстро стучала ложечкой по столу.
Понял тогда и ты, что мы решили не сдаваться, что никто не утолит твоей боли и обиды поцелуями, мольбами о прощении. Да и слез уже не хватало. Ты до изнеможения упился своими рыданиями, своим детским горем, с которым не сравнится, может быть, ни одно человеческое горе, но прекратить вопли сразу было невозможно, хотя бы из-за одного самолюбия.
Ясно было слышно: кричать тебе уже не хочется, голос охрип и срывается, слез нет. Но ты все кричал и кричал!
Было невмоготу и мне. Хотелось встать с места, распахнуть дверь в детскую и сразу, каким-нибудь одним горячим словом, пресечь твои страдания. Но разве это согласуется с правилами разумного воспитания и с достоинством справедливого, хотя и строгого дяди?
Наконец ты затих…
И мы тотчас помирились? - спрашиваешь ты.
Нет, я таки выдержал характер. Я, по крайней мере, через полчаса после того, как ты затих, заглянул в детскую. И то как? Подошел к дверям, сделал серьезное лицо и растворил их с таким видом, точно у меня было какое-то дело. А ты в это время уже возвращался мало-помалу к обыденной жизни.
Ты сидел на полу, изредка подергивался от глубоких прерывистых вздохов, обычных у детей после долгого плача, и с потемневшим от размазанных слез личиком забавлялся своими незатейливыми игрушками - пустыми коробочками от спичек, - расставляя их по полу, между раздвинутых ног, в каком-то, только тебе одному известном порядке.
Как сжалось мое сердце при виде этих коробочек!
Но, делая вид, что отношения наши прерваны, что я оскорблен тобою, я едва взглянул на тебя. Я внимательно и строго осмотрел подоконники, столы… Где это мой портсигар?… И уже хотел выйти, как вдруг ты поднял голову и, глядя на меня злыми, полными презрения глазами, хрипло сказал:
Теперь я никогда больше не буду любить тебя.
Потом подумал, хотел сказать еще что-то очень обидное, но запнулся, не нашелся и сказал первое, что пришло в голову:
И никогда ничего не куплю тебе.
Пожалуйста! - небрежно ответил я, пожимая плечом. - Пожалуйста! Я от такого дурного мальчика и не взял бы ничего.
Даже и японскую копеечку, какую тогда подарил, назад возьму! - крикнул ты тонким, дрогнувшим голосом, делая последнюю попытку уязвить меня.
А вот это уж и совсем нехорошо! - ответил я. - Дарить и потом отнимать! Впрочем, это твое дело.
Потом заходили к тебе мама и бабушка. И так же, как я, делали сначала вид, что вошли случайно… по делу… Затем качали головами и, стараясь не придавать своим словам значения, заводили речь о том, как это нехорошо, когда дети растут непослушными, дерзкими и добиваются того, что их никто не любит. А кончали тем, что советовали тебе пойти ко мне и попросить у меня прощения.
А то дядя рассердится и уедет в Москву, - говорила бабушка грустным тоном. - И никогда больше не приедет к нам.
И пускай не приедет! - отвечал ты едва слышно, все ниже опуская голову.
Ну, я умру, - говорила бабушка еще печальнее, совсем не думая о том, к какому жестокому средству прибегает она, чтобы заставить тебя переломить свою гордость.
И умирай, - отвечал ты сумрачным шепотом.
Хорош! - сказал я, снова чувствуя приступ раздражения. - Хорош! - повторил я, дымя папиросой и поглядывая в окно на темную пустую улицу.
И, переждав, пока пожилая худая горничная, всегда молчаливая и печальная от сознания, что она - вдова машиниста, зажгла в столовой лампу, прибавил:
Вот так мальчик!
Да не обращай на него внимания, - сказала мама, заглядывая под матовый колпак лампы, не коптит ли. - Охота тебе разговаривать с такой злючкой!
И мы сделали вид, что совсем забыли о тебе.
В детской огня еще не зажигали, и стекла ее окон казались теперь синими-синими. Зимний вечер стоял за ними, и в детской было сумрачно и грустно. Ты сидел на полу и передвигал коробочки. И эти коробочки мучили меня. Я встал и решил побродить по городу.
Но тут послышался шепот бабушки.
Бесстыдник, бесстыдник! - зашептала она укоризненно. - Дядя тебя любит, возит тебе игрушки, гостинцы…
Я громко прервал:
Бабушка, этого говорить не следует. Это лишнее. Тут дело не в гостинцах.
Но бабушка знала, что делает.
Как же не в гостинцах? - ответила она. - Не дорог гостинец, а дорога память.
И, помолчав, ударила по самой чувствительной струне твоего сердца:
А кто же купит ему теперь пенал, бумаги, книжку с картинками? Да что пенал! Пенал - туда-сюда. А цифры? Ведь уж этого не купишь ни за какие деньги, впрочем, - прибавила она, - делай, как знаешь. Сиди тут один в темноте.
И вышла из детской.
Кончено, самолюбие твое было сломлено! Ты был побежден.
Чем неосуществимее мечта, тем пленительнее, чем пленительнее, тем неосуществимее. Я уже знаю это.
С самых ранних дней моих я у нее во власти. Но я знаю и то, что, чем дороже мне моя мечта, тем менее надежд на достижение ее. И я уже давно в борьбе с нею. Я лукавлю: делаю вид, что я равнодушен. Но что мог сделать ты?
Счастье, счастье!
Ты открыл утром глаза, переполненный жаждою счастья. И с детской доверчивостью, с открытым сердцем кинулся к жизни: скорее, скорее!
Но жизнь ответила:
Потерпи.
Ну пожалуйста! - воскликнул ты страстно.
Замолчи, иначе ничего не получишь!
Ну погоди же! - крикнул ты злобно. И на время смолк.
Но сердце твое буйствовало. Ты бесновался, с грохотом валял стулья, бил ногами в пол, звонко вскрикивал от переполнявшей твое сердце радостной жажды… Тогда жизнь со всего размаха ударила тебя в сердце тупым ножом обиды. И ты закатился бешеным криком боли, призывом на помощь.
Но и тут не дрогнул ни один мускул на лице жизни… Смирись, смирись!
И ты смирился.
Помнишь ли, как робко вышел ты из детской и что ты сказал мне?
Дядечка! - сказал ты мне, обессиленный борьбой за счастье и все еще алкая его. - Дядечка, прости меня. И дай мне хоть каплю того счастья, жажда которого так сладко мучит меня.
Но жизнь обидчива.
Она сделала притворно печальное лицо.
Цифры! Я понимаю, что это счастье… Но ты не любишь дядю, огорчаешь его…
Да нет, неправда, - люблю, очень люблю! - горячо воскликнул ты.
И жизнь наконец смилостивилась.
Ну уж бог с тобою! Неси сюда к столу стул, давай карандаши, бумагу…
И какой радостью засияли твои глаза!
Как хлопотал ты! Как боялся рассердить меня, каким покорным, деликатным, осторожным в каждом своем движении старался ты быть! И как жадно ловил ты каждое мое слово!
Глубоко дыша от волнения, поминутно слюнявя огрызок карандаша, с каким старанием налегал ты на стол грудью и крутил головой, выводя таинственные, полные какого-то божественного значения черточки!
Теперь уже и я наслаждался твоею радостью, с нежностью обоняя запах твоих волос: детские волосы хорошо пахнут, - совсем как маленькие птички.
Один… Два… Пять… - говорил ты, с трудом водя по бумаге.
Да нет, не так. Один, два, три, четыре.
Сейчас, сейчас, - говорил ты поспешно. - Я сначала: один, два…
И смущенно глядел на меня.
Ну, три…
Да, да, три! - подхватывал ты радостно. - Я знаю.
И выводил три, как большую прописную букву Е.
У истока дней
В тумане моего прошлого есть один далекий день, который я вспоминаю особенно часто.
Я вижу большую комнату в бревенчатом доме на хуторе средней России.
Одно окно этой комнаты - на юг, на солнце, два других - на запад, в вишневый сад.
В простенке стоит старинный туалет красного дерева, а на полу возле него сидит ребенок трех или четырех лет.
Он один в комнате и чувствует себя необыкновенно счастливым.
На дворе сухо, - погожий конец степного августа, и солнечный свет косо падает из окна, выходящего на юг, почти до того места, где сидит на полу ребенок.
А он открыл дверцу в тумбе туалета, обоняет кисленький запах старинных духов и тщательно укладывает на полированную полочку синие гербовые бумаги.
Нужды нет, что эти бумаги покрыты строками крупных непонятных завитушек и что не приказано ни рвать, ни пачкать их: радостно уже одно и то, что обладаешь ими, что их много и что можно раскладывать их в тумбе, которая отныне будет твоею.
Так было и сказано:
Вот эта тумбочка с нынешнего дня - твоя.
А для того, чтобы было что укладывать, подарили большую кипу синих бумаг с красивыми двуглавыми птицами. Накопится много и других вещей, вроде коробочек и граненых пузырьков, стоящих на туалете. И все это будет спрятано сюда же.
Но на свете, как известно, все кончается: бумаги уже несколько раз укладывались на полочке и так и этак, порядок, в котором они должны быть, строго обдуман, - остается затворить тумбу, поглядеть на нее с приятным чувством собственности - и заняться чем-нибудь другим.
Ребенок стоит возле туалета и осматривается.
Увы, в простой деревенской комнате с голыми бревенчатыми степами совсем почти пусто: только стулья, да большая кровать, да августовское солнце, косо озаряющее некрашеный пол.
Приятно подойти к окну, почувствовать тепло солнечного света и, прижавшись лицом к стеклу, расплющить нос… Очень заманчива и паутина - легкая восьмигранная сетка в верхнем углу окна… Но, во-первых, до нее не дотянешься, если даже приставить к окну стул, а во-вторых, из щели в углу может выбежать на высоких тонких ножках большой серый паук.
И ребенок, подняв глаза, чувствует сладкий страх при мысли о таинственном хозяине этой паутины, имя которого он произносит с запинкой, по-крестьянски - пуак - и который так сердито выскакивает из своей щели, когда в его сеть попадает муха.
Сладко следить тогда за ее гибелью!
Жалобно и долго, долго ноет она в тишине пустой комнаты, точно зовет на помощь… Но помощи нет, и время течет среди ее однотонного плача в полной неизвестности, что будет дальше… И вдруг он, этот темно-серый страшный паук, выскакивает из щели и быстро бежит по паутине… схватывает муху в лапы, замирает с нею на месте и наконец уже, слабую, затихающую, тянет ее в свое жилище…
Что это за жилище? Что делает в нем его хозяин, чем занят он?
Нечаянно взгляд ребенка падает в эту минуту на зеркало.
Я хорошо помню, как поразило оно меня.
С него начинаются смутные, не связанные друг с другом воспоминания моего младенчества. Точно в сновидениях живу я в них. И вот оно, первое сновидение у истока дней моих.
Ранее нет ничего: пустота, несуществование.
Ни мое сердце, ни мой разум никогда не могли и до сих пор не могут примириться с этой пустотой. Но, покоряясь неизбежности, я принимаю за начало моего бытия этот августовский день, эти синие гербовые бумаги с орлами, тихую невыразимую радость, которую они дали мне, - и зеркало.
Между колонками туалета, в тяжелой прихотливой раме, висело что-то светлое, блестящее, красивое - и непонятное. Я видал его и ранее. Видел и отражения в нем. Но изумило оно меня только теперь, когда мои восприятия вдруг озарились первым ярким проблеском сознания, когда я разделился на воспринимающего и сознающего. И все окружавшее меня внезапно изменилось, ожило - приобрело свой собственный лик, полный непонятного.
Я заглянул в то светлое, блестящее, что слегка наклонно висело между колонок туалета, увидал там другую комнату, совершенно такую же, как та, в которой я был, но только более заманчивую, более красивую, увидал самого себя - и в первый раз в жизни был изумлен и очарован.
Я восторженно оглянулся… Да, несомненно, в зеркале было все, что было и здесь, вокруг меня - и стены, и стулья, и пол, и солнечный свет, и ребенок, стоявший среди комнаты… Нас было двое, удивленно смотревших друг на друга! И вот один из нас вдруг закрыл глаза - и все исчезло: остались только светлые пятна, закружившиеся в темноте… Потом снова открыл их - и снова увидел все то, что уже видел… Не странно ли только, что комната в зеркале падает, валится на меня?
Робко приблизился я к зеркалу и, дотянувшись рукой до нижней части рамы, толкнул ее.
Зеркало блеснуло, стукнулось о стену, а покатый пол, отраженный в нем, стал еще более покатым. Теперь вся комната падала на меня, падал и мальчик, стоявший против меня, и кровать, и стулья… Очарованный, восхищенный, долго глядел я на то чудесное и новое, что так внезапно открылось мне - и потянул раму к себе. Зеркало блеснуло, завалилось назад - и все исчезло… И как раз в эту минуту кто-то хлопнул дверью, и я вздрогнул и громко крикнул от страха.
Много раз пытался я вспомнить еще хоть что-нибудь; но это никогда не удавалось.
Вспоминая, я быстро переходил к выдумке, к творчеству, ибо и воспоминания- то мои об этом дне не более реальны, чем творчество.
Твердо помню только одно: зеркало поразило меня именно в этот день. Я должен был разгадать его во что бы то ни стало.
О, много было лукавств и ухищрений!
Они, эти ухищрения, кончались всегда неудачей. И пережив неудачу, я, конечно, забывал о зеркале. Но вот я опять оставался наедине с ним - и опять испытывал его власть над собою.
Я любил угловую комнату, когда она была пуста. Я входил, затворял за собой двери - и тотчас же вступал в какую-то особую, чародейственную жизнь.
Так тихо, так тихо, что слышна каждая нота в тонком и печальном плаче замирающей в паутине мухи!
И я затаивал дыхание, и казалось, что и комната ждет чего-то вместе со мною.
Мальчик, стоящий предо мною в отраженной комнате, был теперь выше ростом, решительнее, смелее, чем тот, что стоял в ней в светлый августовский день несколько лет тому назад. Но отраженная комната была все так же притягательна, заманчива… стократ заманчивее той, в которой был я! И сладко было снова и снова тешить себя несбыточной мечтою побывать, пожить в этой отраженной комнате!
Только существует ли она и тогда, когда не смотришь на нее?
Чтобы узнать все это, нужно прежде всего обмануть кого-то.
И вот я делал равнодушное лицо, отходил от зеркала, заглядывал с притворной беспечностью в окна - и вдруг быстро оборачивался к туалету…
Нет, все по-прежнему!
Но тогда не сесть ли в кресло против зеркала? Закрыть глаза и притворяться спящим… А затем сразу открыть их…
Увы, снова хитрость моя рассыпается прахом!
Оставалось еще одно: приоткрыть ресницы - так мало, так мало, чтобы никто и не подумал, что они приоткрыты…
Но как это трудно!
Ресницы дрожат, глазам больно, и выходит все одно и то же: или совсем ничего не видно, или хоть слабо, но видно все!
И много раз, делая отчаянные усилия, сдвигал я с места тяжелые колонки, среди которых висело зеркало, и заглядывал между ними и стеною. Но и там, именно там, где должна была заключаться разгадка тайны, не оказывалось ничего, кроме бревен с одной стороны и шершавых дощечек, которыми было забито зеркало, с другой!
Значит, кроется что-нибудь за ними, за этими дощечками?
Говорят, что за этими дощечками только стекло, намазанное ртутью. Да, но что такое ртуть? Ртуть тоже нечто чудесное. Положил кто-то этой ртути в пекущиеся хлебы - и вдруг хлебы запрыгали по печке! А главное: почему поспешили закутать это что-то, намазанное ртутью и называемое зеркалом, в черный коленкор, как только умерла Надя?
В эту страшную ночь, когда в доме свершилось что-то невыразимое, наполнившее весь дом сперва таинственной суматохой, испуганными голосами, а потом страстными криками матери, - зеркало завесили черным коленкором.
Я, спавший в угловой комнате на широкой постели, и диком ужасе вскочил на колени, когда тишину ночи прорезали эти крики. А затем в комнату быстро вошла заплаканная нянька и накинула на зеркало кусок черной материи.
И, как внезапный ветер по затрепетавшим листьям дерева, по всему моему телу прошла одна мысль, одно сознание: в доме смерть! То ужасное, чье имя - тайна!