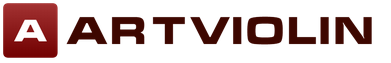«От Ставрогина. Я, Николай Ставрогин, отставной офицер, в 186- году жил в Петербурге, предаваясь разврату, в котором не находил удовольствия. У меня было тогда в продолжение некоторого времени три квартиры. В одной из <них> проживал я сам в номерах со столом и прислугою, где находилась тогда и Марья Лебядкина, ныне законная жена моя. Другие же обе квартиры мои я нанял тогда помесячно для интриги: в одной принимал одну любившую меня даму, а в другой ее горничную и некоторое время был очень занят намерением свести их обеих так, чтобы барыня и девка у меня встретились при моих приятелях и при муже. Зная оба характера, ожидал себе от этой глупой шутки большого удовольствия. Приготовляя исподволь эту встречу, я должен был чаще посещать одну из сих квартир в большом доме в Гороховой, так как сюда приходила та горничная. Тут у меня была одна лишь комната, в четвертом этаже, нанятая от мещан из русских. Сами они помещались рядом в другой, теснее, и до того, что дверь разделявшая всегда стояла отворенною, чего я и хотел. Муж у кого-то был в конторе и уходил с утра до ночи. Жена, баба лет сорока, что-то разрезывала и сшивала из старого в новое и тоже нередко уходила из дому относить, что нашила. Я оставался один с их дочерью, думаю, лет четырнадцати, совсем ребенком на вид. Ее звали Матрешей. Мать ее любила, но часто била и по их привычке ужасно кричала на нее по-бабьи. Эта девочка мне прислуживала и убирала у меня за ширмами. Объявляю, что я забыл нумер дома. Теперь, по справке, знаю, что старый дом сломан, перепродан и на месте двух или трех прежних домов стоит один новый, очень большой. Забыл тоже имя моих мещан (а может быть, и тогда не знал). Помню, что мещанку звали Степанидой, кажется, Михайловной. Его не помню. Чьи они, откуда и куда теперь делись — совсем не знаю. Полагаю, что если очень начать их искать и делать возможные справки в петербургской полиции, то найти следы можно. Квартира была на дворе, в углу. Всё произошло в июне. Дом был светло-голубого цвета. Однажды у меня со стола пропал перочинный ножик, который мне вовсе был не нужен и валялся так. Я сказал хозяйке, никак не думая о том, что она высечет дочь. Но та только что кричала на ребенка (я жил просто, и они со мной не церемонились) за пропажу какой-то тряпки, подозревая, что та ее стащила, и даже отодрала за волосы. Когда же эта самая тряпка нашлась под скатертью, девочка не захотела сказать ни слова в попрек и смотрела молча. Я это заметил и тут же в первый раз хорошо заметил лицо ребенка, а до тех пор оно лишь мелькало. Она была белобрысая и весноватая, лицо обыкновенное, но очень много детского и тихого, чрезвычайно тихого. Матери не понравилось, что дочь не попрекнула за битье даром, и она замахнулась на нее кулаком, но не ударила; тут как раз подоспел мой ножик. В самом деле, кроме нас троих, никого не было, а ко мне за ширмы входила только девочка. Баба остервенилась, потому что в первый раз прибила несправедливо, бросилась к венику, нарвала из него прутьев и высекла ребенка до рубцов, на моих глазах. Матреша от розог не кричала, но как-то странно всхлипывала при каждом ударе. И потом очень всхлипывала, целый час. Но прежде того было вот что: в ту самую минуту, когда хозяйка бросилась к венику, чтобы надергать розог, я нашел ножик на моей кровати, куда он как-нибудь упал со стола. Мне тотчас пришло в голову не объявлять, для того чтоб ее высекли. Решился я мгновенно; в такие минуты у меня всегда прерывается дыхание. Но я намерен рассказать всё в более твердых словах, чтоб уж ничего более не оставалось скрытого. Всякое чрезвычайно позорное, без меры унизительное, подлое и, главное, смешное положение, в каковых мне случалось бывать в моей жизни, всегда возбуждало во мне, рядом с безмерным гневом, неимоверное наслаждение. Точно так же и в минуты преступлений, и в минуты опасности жизни. Если б я что-нибудь крал, то я бы чувствовал при совершении кражи упоение от сознания глубины моей подлости. Не подлость я любил (тут рассудок мой бывал совершенно цел), но упоение мне нравилось от мучительного сознания низости. Равно всякий раз, когда я, стоя на барьере, выжидал выстрела противника, то ощущал то же самое позорное и неистовое ощущение, а однажды чрезвычайно сильно. Сознаюсь, что часто я сам искал его, потому что оно для меня сильнее всех в этом роде. Когда я получал пощечины (а я получил их две в мою жизнь), то и тут это было, несмотря на ужасный гнев. Но если сдержать при этом гнев, то наслаждение превысит всё, что можно вообразить. Никогда я не говорил о том никому, даже намеком, и скрывал как стыд и позор. Но когда меня раз больно били в кабаке в Петербурге и таскали за волосы, я не чувствовал этого ощущения, а только неимоверный гнев, не быв пьян, и лишь дрался. Но если бы схватил меня за волосы и нагнул за границей тот француз, виконт, который ударил меня по щеке и которому я отстрелил за это нижнюю челюсть, то я бы почувствовал упоение и, может быть, не чувствовал бы и гнева. Так мне тогда показалось. Всё это для того, чтобы всякий знал, что никогда это чувство не покоряло меня всего совершенно, а всегда оставалось сознание, самое полное (да на сознании-то всё и основывалось!). И хотя овладевало мною до безрассудства, но никогда до забвения себя. Доходя во мне до совершенного огня, я в то же время мог совсем одолеть его, даже остановить в верхней точке; только сам никогда не хотел останавливать. Я убежден, что мог бы прожить целую жизнь как монах, несмотря на звериное сладострастие, которым одарен и которое всегда вызывал. Предаваясь до шестнадцати лет, с необыкновенною неумеренностью, пороку, в котором исповедовался Жан-Жак Руссо, я прекратил в ту же минуту, как положил захотеть, на семнадцатом году. Я всегда господин себе, когда захочу. Итак, пусть известно, что я ни средой, ни болезнями безответственности в преступлениях моих искать не хочу. Когда кончилась экзекуция, я положил ножик в жилетный карман и, выйдя, выбросил на улицу, далеко от дому, так, чтобы никто никогда не узнал. Потом я выждал два дня. Девочка, поплакав, стала еще молчаливее; на меня же, я убежден, не имела злобного чувства. Впрочем, наверно, был некоторый стыд за то, что ее наказали в таком виде при мне, она не кричала, а только всхлипывала под ударами, конечно потому, что тут стоял я и всё видел. Но и в стыде этом она, как ребенок, винила, наверно, одну себя. До сих пор она, может быть, только боялась меня, но не лично, а как постояльца, человека чужого, и, кажется, была очень робка. Вот тогда-то в эти два дня я и задал себе раз вопрос, могу ли я бросить и уйти от замышленного намерения, и я тотчас почувствовал, что могу, могу во всякое время и сию минуту. Я около того времени хотел убить себя от болезни равнодушия; впрочем, не знаю от чего. В эти же два-три дня (так как непременно надо было выждать, чтобы девочка всё забыла) я, вероятно чтоб отвлечь себя от беспрерывной мечты или только на смех, сделал в номерах кражу. Это была единственная кража в моей жизни. В этих номерах гнездилось много людей. Между прочим, и жил один чиновник, с семейством, в двух меблированных комнатках; лет сорока, не совсем глупый и имевший приличный вид, но бедный. Я с ним не сходился, и компании, которая там окружала меня, он боялся. Он только что подучил жалование, тридцать пять рублей. Главное натолкнуло меня, что мне в самом деле в ту минуту нужны были деньги (хотя я через четыре дня и получил с почты), так что я крал как будто из нужды, а не из шутки. Сделано было нагло и явственно: я просто вошел в его номер, когда жена, дети и он обедали в другой каморке. Тут на стуле у самой двери лежал сложенный вицмундир. У меня вдруг блеснула эта мысль еще в коридоре. Я запустил руку в карман и вытащил портмоне. Но чиновник услышал шорох и выглянул из каморки. Он, кажется, даже видел по крайней мере что-нибудь, но так как не всё, то, конечно, и не поверил глазам. Я сказал, что, проходя коридором, зашел взглянуть, который час на его стенных. „Стоят-с“, — отвечал он, я и вышел. Тогда я много пил, и в номерах у меня была целая ватага, в том числе и Лебядкин. Портмоне я выбросил с мелкими деньгами, а бумажки оставил. Было тридцать два рубля, три красных и две желтых. Я тотчас же разменял красную и послал за шампанским; потом еще послал красную, а затем и третью. Часа через четыре, и уже вечером, чиновник выждал меня в коридоре. — Вы, Николай Всеволодович, когда давеча заходили, не сронили ли нечаянно со стула вицмундир... у двери лежал? — Нет, не помню. А у вас лежал вицмундир? — Да, лежал-с. — На полу? — Сначала на стуле, а потом на полу. — Что ж, вы его подняли? — Поднял. — Ну, так чего же вам еще? — Да коли так, так и ничего-с... Он договорить не посмел, да и в номерах не посмел никому сказать, — до того бывают робки эти люди. Впрочем, в номерах все меня боялись ужасно и почитали. Я потом любил с ним встречаться глазами, раза два в коридоре. Скоро наскучило. Как только кончились три дня, я воротился в Гороховую. Мать куда-то собиралась с узлом; мещанина, разумеется, не было. Остались я и Матреша. Окна были отперты. В доме всё жили мастеровые, и целый день изо всех этажей слышался стук молотков или песни. Мы пробыли уже с час. Матреша сидела в своей каморке, на скамеечке, ко мне спиной, и что-то копалась с иголкой. Наконец вдруг тихо запела, очень тихо; это с ней иногда бывало. Я вынул часы и посмотрел, который час, было два. У меня начинало биться сердце. Но тут я вдруг опять спросил себя: могу ли остановить? и тотчас же ответил себе, что могу. Я встал и начал к ней подкрадываться. У них на окнах стояло много герани, и солнце ужасно ярко светило. Я тихо сел подле на полу. Она вздрогнула и сначала неимоверно испугалась и вскочила. Я взял ее руку и тихо поцеловал, принагнул ее опять на скамейку и стал смотреть ей в глаза. То, что я поцеловал у ней руку, вдруг рассмешило ее, как дитю, но только на одну секунду, потому что она стремительно вскочила в другой раз, и уже в таком испуге, что судорога прошла по лицу. Она смотрела на меня до ужаса неподвижными глазами, а губы стали дергаться, чтобы заплакать, но все-таки не закричала. Я опять стал целовать ей руки, взяв ее к себе на колени, целовал ей лицо и ноги. Когда я поцеловал ноги, она вся отдернулась и улыбнулась как от стыда, но какою-то кривою улыбкой. Всё лицо вспыхнуло стыдом. Я что-то всё шептал ей. Наконец вдруг случилась такая странность, которую я никогда не забуду и которая привела меня в удивление: девочка обхватила меня за шею руками и начала вдруг ужасно целовать сама. Лицо ее выражало совершенное восхищение. Я чуть не встал и не ушел — так это было мне неприятно в таком крошечном ребенке — от жалости. Но я преодолел внезапное чувство моего страха и остался. Когда всё кончилось, она была смущена. Я не пробовал ее разуверять и уже не ласкал ее. Она глядела на меня, робко улыбаясь. Лицо ее мне показалось вдруг глупым. Смущение быстро с каждою минутой овладевало ею всё более и более. Наконец она закрыла лицо руками и стала в угол лицом к стене неподвижно. Я боялся, что она опять испугается, как давеча, и молча ушел из дому. Полагаю, что всё случившееся должно было ей представиться окончательно как беспредельное безобразие, со смертным ужасом. Несмотря на русские ругательства, которые она должна была слышать с пеленок, и всякие странные разговоры, я имею полное убеждение, что она еще ничего не понимала. Наверное ей показалось в конце концов, что она сделала неимоверное преступление и в нем смертельно виновата, — „бога убила“. В ту ночь я имел ту драку в кабаке, о которой мельком упоминал. Но я проснулся у себя в номерах наутро, меня привез Лебядкин. Первая мысль по пробуждении была о том: сказала она или нет; это была минута настоящего страха, хоть и не очень еще сильного. Я был очень весел в то утро и ужасно ко всем добр, и вся ватага была мною очень довольна. Но я бросил их всех и пошел в Гороховую. Я встретился с нею еще внизу, в сенях. Она шла из лавочки, куда ее посылали за цикорием. Увидев меня, она стрельнула в ужасном страхе вверх по лестнице. Когда я вошел, мать уже хлестнула ее два раза по щеке за то, что вбежала в квартиру „сломя голову“, чем и прикрылась настоящая причина ее испуга. Итак, всё пока было спокойно. Она куда-то забилась и не входила всё время, пока я был. Я пробыл с час и ушел. К вечеру я опять почувствовал страх, но уже несравненно сильнее. Конечно, я мог отпереться, но меня могли и уличить. Мне мерещилась каторга. Я никогда не чувствовал страху и, кроме этого случая в моей жизни, ни прежде, ни после ничего не боялся. И уж особенно Сибири, хотя и мог быть сослан не однажды. Но в этот раз я был испуган и действительно чувствовал страх, не знаю почему, в первый раз в жизни, — ощущение очень мучительное. Кроме того, вечером, у меня в номерах, я возненавидел ее до того, что решился убить. Главная ненависть моя была при воспоминании об ее улыбке. Во мне рождалось презрение с непомерною гадливостью за то, как она бросилась после всего в угол и закрылась руками, меня взяло неизъяснимое бешенство, затем последовал озноб; когда же под утро стал наступать жар, меня опять одолел страх, но уже такой сильный, что я никакого мучения не знал сильней. Но я уже не ненавидел более девочку; по крайней мере до такого пароксизма, как с вечера, не доходило. Я заметил, что сильный страх совершенно прогоняет ненависть и чувство мщения. Проснулся я около полудня, здоровый, и даже удивился некоторым из вчерашних ощущений. Я, однако же, был в дурном расположении духа и опять-таки принужден был пойти в Гороховую, несмотря на всё отвращение. Помню, что мне ужасно хотелось бы в ту минуту иметь с кем-нибудь ссору, но только сериозную. Но, придя на Гороховую, я вдруг нашел у себя в комнате Нину Савельевну, ту горничную, которая уже с час ожидала меня. Эту девушку я совсем не любил, так что она пришла сама немного в страхе, не рассержусь ли я за незваный визит. Но я вдруг ей очень обрадовался. Она была недурна, но скромна и с манерами, которые любит мещанство, так что моя баба-хозяйка давно уже очень мне хвалила ее. Я застал их обеих за кофеем, а хозяйку в чрезвычайном удовольствии от приятной беседы. В углу их каморки я заметил Матрешу. Она стояла и смотрела на мать и на гостью неподвижно. Когда я вошел, она не спряталась, как тогда, и не убежала. Мне только показалось, что она очень похудела и что у ней жар. Я приласкал Нину и запер дверь к хозяйке, чего давно не делал, так что Нина ушла совершенно обрадованная. Я ее сам вывел и два дня не возвращался в Гороховую. Мне уже надоело. Я решился всё покончить, отказаться от квартиры и уехать из Петербурга. Но когда я пришел, чтоб отказаться от квартиры, я застал хозяйку в тревоге и в горе: Матреша была больна уже третий день, каждую ночь лежала в жару и ночью бредила. Разумеется, я спросил, об чем она бредит (мы говорили шепотом в моей комнате). Она мне зашептала, что бредит „ужасти“: „Я, дескать, бога убила“. Я предложил привести доктора на мой счет, но она не захотела: „Бог даст, и так пройдет, не всё лежит, днем-то выходит, сейчас в лавочку сбегала“. Я решился застать Матрешу одну, а так как хозяйка проговорилась, что к пяти часам ей надо сходить на Петербургскую, то и положил воротиться вечером. Я пообедал в трактире. Ровно в пять с четвертью воротился. Я входил всегда с своим ключом. Никого, кроме Матреши, не было. Она лежала в каморке за ширмами на материной кровати, и я видел, как она выглянула; но я сделал вид, что не замечаю. Все окна были отворены. Воздух был тепл, было даже жарко. Я походил по комнате и сел на диван. Всё помню до последней минуты. Мне решительно доставляло удовольствие не заговаривать с Матрешей. Я ждал и просидел целый час, и вдруг она вскочила сама из-за ширм. Я слышал, как стукнули ее обе ноги об пол, когда она вскочила с кровати, потом довольно скорые шаги, и она стала на пороге в мою комнату. Она глядела на меня молча. В эти четыре или пять дней, в которые я с того времени ни разу не видал ее близко, действительно очень похудела. Лицо ее как бы высохло, и голова, наверно, была горяча. Глаза стали большие и глядели на меня неподвижно, как бы с тупым любопытством, как мне показалось сначала. Я сидел в углу дивана, смотрел на нее и не трогался. И тут вдруг опять я почувствовал ненависть. Но очень скоро заметил, что она совсем меня не пугается, а, может быть, скорее в бреду. Но она и в бреду не была. Она вдруг часто закивала на меня головой, как кивают, когда очень укоряют, и вдруг подняла на меня свой маленький кулачок и начала грозить им мне с места. Первое мгновение мне это движение показалось смешным, но дальше я не мог его вынести: я встал и подвинулся к ней. На ее лице было такое отчаяние, которое невозможно было видеть в лице ребенка. Она всё махала на меня своим кулачонком с угрозой и всё кивала, укоряя. Я подошел близко и осторожно заговорил, но увидел, что она не поймет. Потом вдруг она стремительно закрылась обеими руками, как тогда, отошла и стала к окну, ко мне спиной. Я оставил ее, воротился в свою комнату и сел тоже у окна. Никак не пойму, почему я тогда не ушел и остался как будто ждать. Вскоре я опять услышал поспешные шаги ее, она вышла в дверь на деревянную галерею, с которой и был сход вниз по лестнице, и я тотчас побежал к моей двери, приотворил и успел еще подглядеть, как Матреша вошла в крошечный чулан вроде курятника, рядом с другим местом. Странная мысль блеснула в моем уме. Я притворил дверь — и к окну. Разумеется, мелькнувшей мысли верить еще было нельзя; „но однако“... (Я всё помню). Через минуту я посмотрел на часы и заметил время. Надвигался вечер. Надо мною жужжала муха и всё садилась мне на лицо. Я поймал, подержал в пальцах и выпустил за окно. Очень громко въехала внизу во двор какая-то телега. Очень громко (и давно уже) пел песню в углу двора в окне один мастеровой, портной. Он сидел за работой, и мне его было видно. Мне пришло в голову, что так как меня никто не повстречал, когда я входил в ворота и подымался по лестнице, то, конечно, не надо, чтобы и теперь повстречали, когда я буду сходить вниз, и я отодвинул стул от окна. Затем взял книгу, но бросил и стал смотреть на крошечного красненького паучка на листке герани и забылся. Я всё помню до последнего мгновения. Я вдруг выхватил часы. Прошло двадцать минут с тех пор, как она вышла. Догадка принимала вид вероятности. Но я решился подождать еще с четверть часа. Приходило тоже в голову, не воротилась ли она, а я, может быть, прослышал; но этого не могло и быть: была мертвая тишина, и я мог слышать писк каждой мушки. Вдруг у меня стало биться сердце. Я вынул часы: недоставало трех минут; я их высидел, хотя сердце билось до боли. Тут-то я встал, накрылся шляпой, застегнул пальто и осмотрелся в комнате, всё ли на прежнем месте, не осталось ли следов, что я заходил? Стул я придвинул ближе к окну, как он стоял прежде. Наконец, тихо отворил дверь, запер ее моим ключом и пошел к чуланчику. Он был приперт, но не заперт; я знал, что он не запирался, но я отворить не хотел, а поднялся на цыпочки и стал глядеть в щель. В это самое мгновение, подымаясь на цыпочки, я припомнил, что когда сидел у окна и смотрел на красного паучка и забылся, то думал о том, как я приподымусь на цыпочки и достану глазом до этой щелки. Вставляя здесь эту мелочь, хочу непременно доказать, до какой степени явственно я владел моими умственными способностями. Я долго глядел в щель, там было темно, но не совершенно. Наконец я разглядел, что было надо... всё хотелось совершенно удостовериться. Я решил наконец, что мне можно уйти, и спустился с лестницы. Я никого не встретил. Часа через три мы все, без сюртуков, пили в номерах чай и играли в старые карты, Лебядкин читал стихи. Много рассказывали и, как нарочно, всё удачно и смешно, а не так, как всегда, глупо. Был и Кириллов. Никто не пил, хотя и стояла бутылка рому, но прикладывался один Лебядкин. Прохор Малов заметил, что „когда Николай Всеволодович довольны и не хандрят, то все наши веселы и умно говорят“. Я запомнил это тогда же. Но часов уже в одиннадцать прибежала дворникова девочка от хозяйки, с Гороховой, с известием ко мне, что Матреша повесилась. Я пошел с девочкой и увидел, что хозяйка сама не знала, зачем посылала за мной. Она вопила и билась, была кутерьма, много народу, полицейские. Я постоял в сенях и ушел. Меня почти не беспокоили, впрочем, спросили что следует. Но, кроме того, что девочка была больна и бывала в бреду в последние дни, так что я предлагал с своей стороны доктора на мой счет, я решительно ничего не мог показать. Спрашивали меня и про ножик; я сказал, что хозяйка высекла, но что это было ничего. Про то, что я приходил вечером, никто не узнал. Про результат медицинского свидетельства я ничего не слыхал. С неделю я не заходил туда. Зашел, когда уже давно похоронили, чтобы сдать квартиру. Хозяйка всё еще плакала, хотя уже возилась с своим лоскутьем и с шитьем по-прежнему. „Это я за ваш ножик ее обидела“, — сказала она мне, но без большого укора. Я рассчитался под тем предлогом, что нельзя же мне теперь оставаться в такой квартире, чтоб принимать в ней Нину Савельевну. Она еще раз похвалила Нину Савельевну на прощанье. Уходя, я подарил ей пять рублей сверх должного за квартиру. Мне и вообще тогда очень скучно было жить, до одури. Происшествие в Гороховой, по миновании опасности, я было совсем забыл, как и всё тогдашнее, если бы некоторое время я не вспоминал еще со злостью о том, как я струсил. Я изливал мою злость на ком я мог. В это же время, но вовсе не почему-нибудь, пришла мне идея искалечить как-нибудь жизнь, но только как можно противнее. Я уже с год назад помышлял застрелиться; представилось нечто получше. Раз, смотря на хромую Марью Тимофеевну Лебядкину, прислуживавшую отчасти в углах, тогда еще не помешанную, но просто восторженную идиотку, без ума влюбленную в меня втайне (о чем выследили наши), я решился вдруг на ней жениться. Мысль о браке Ставрогина с таким последним существом шевелила мои нервы. Безобразнее нельзя было вообразить ничего. Но не берусь решить, входила ли в мою решимость хоть бессознательно (разумеется, бессознательно!) злоба за низкую трусость, овладевшая мною после дела с Матрешей. Право, не думаю; но во всяком случае я обвенчался не из-за одного только „пари на вино после пьяного обеда“. Свидетелями брака были Кириллов и Петр Верховенский, тогда случившийся в Петербурге; наконец, сам Лебядкин и Прохор Малов (теперь умер). Более никто никогда не узнал, а те дали слово молчать. Мне всегда казалось это молчание как бы гадостью, но до сих пор оно не нарушено, хотя я и имел намерение объявить; объявляю заодно теперь. Обвенчавшись, я тогда уехал в губернию к моей матери. Я поехал для развлечения, потому что было невыносимо. В нашем городе я оставил по себе идею, что я помешан, — идею, до сих даже пор не искоренившуюся и мне, несомненно, вредную, о чем объясню ниже. Потом я уехал за границу и пробыл четыре года. Я был на Востоке, на Афоне выстаивал восьмичасовые всенощные, был в Египте, жил в Швейцарии, был даже в Исландии; просидел целый годовой курс в Геттингене. В последний год я очень сошелся с одним знатным русским семейством в Париже и с двумя русскими девицами в Швейцарии. Года два тому назад, в Франкфурте, проходя мимо бумажной лавки, я, между продажными фотографиями, заметил маленькую карточку одной девочки, одетой в изящный детский костюм, но очень похожей на Матрешу. Я тотчас купил карточку и, придя в отель, положил на камин. Здесь она так и пролежала с неделю нетронутая, и я ни разу не взглянул на нее, а уезжая из Франкфурта, забыл взять с собой. Заношу это именно, чтобы доказать, до какой степени я мог властвовать над моими воспоминаниями и стал к ним бесчувствен. Я отвергал их все разом в массе, и вся масса послушно исчезала, каждый раз как только я того хотел. Мне всегда было скучно припоминать прошлое, и никогда я не мог толковать о прошлом, как делают почти все. Что же касается до Матреши, то я даже карточку ее позабыл на камине. Тому назад с год, весной, следуя через Германию, я в рассеянности проехал станцию, с которой должен был поворотить на мою дорогу, и попал на другую ветвь. Меня высадили на следующей станции; был третий час пополудни, день ясный. Это был крошечный немецкий городок. Мне указали гостиницу. Надо было выждать: следующий поезд проходил в одиннадцать часов ночи. Я даже был доволен приключением, потому что никуда не спешил. Гостиница оказалась дрянная и маленькая, но вся в зелени и кругом обставленная клумбами цветов. Мне дали тесную комнатку. Я славно поел, и так как всю ночь был в дороге, то отлично заснул после обеда часа в четыре пополудни. Мне приснился совершенно неожиданный для меня сон, потому что я никогда не видал в этом роде. В Дрездене, в галерее, существует картина Клод Лоррена, по каталогу, кажется „Асис и Галатея“, я же называл ее всегда „Золотым веком“, сам не знаю почему. Я уже и прежде ее видел, а теперь, дня три назад, еще раз, мимоездом, заметил. Эта-то картина мне и приснилась, но не как картина, а как будто какая-то быль. Это — уголок греческого архипелага; голубые ласковые волны, острова и скалы, цветущее прибрежье, волшебная панорама вдали, заходящее зовущее солнце — словами не передашь. Тут запомнило свою колыбель европейское человечество, здесь первые сцены из мифологий, его земной рай... Тут жили прекрасные люди! Они вставали и засыпали счастливые и невинные; рощи наполнялись их веселыми песнями, великий избыток непочатых сил уходил в любовь и в простодушную радость. Солнце обливало лучами эти острова и море, радуясь на своих прекрасных детей. Чудный сон, высокое заблуждение! Мента, самая невероятная из всех, какие были, которой всё человечество, всю свою жизнь отдавало все свои силы, для которой всем жертвовало, для которой умирали на крестах и убивались пророки, без которой народы не хотят жить и не могут даже и умереть. Всё это ощущение я как будто прожил в этом сне; я не знаю, что мне именно снилось, но скалы, и море, и косые луни заходящего солнца — всё это я как будто еще видел, когда проснулся и раскрыл глаза, в первый раз в жизни буквально омоченные слезами. Ощущение счастья, еще мне неизвестного, прошло сквозь сердце мое даже до боли. Был уже полный вечер; в окно моей маленькой комнаты сквозь зелень стоящих на окне цветов прорывался целый пук ярких косых лучей заходящего солнца и обливал меня светом. Я поскорее закрыл опять глаза, как бы жаждая возвратить миновавший сон, но вдруг как бы среди яркого-яркого света я увидел какую-то крошечную точку. Она принимала какой-то образ, и вдруг мне явственно представился крошечный красненький паучок. Мне сразу припомнился он на листке герани, когда так же лились косые лучи заходящего солнца. Что-то как будто вонзилось в меня, я приподнялся и сел на постель... (Вот всё как это тогда случилось!) Я увидел пред собою (о, не наяву! если бы, если бы это было настоящее видение!), я увидел Матрешу, исхудавшую и с лихорадочными глазами, точь-в-точь как тогда, когда она стояла у меня на пороге и, кивая мне головой, подняла на меня свой крошечный кулачонок. И никогда ничего не являлось мне столь мучительным! Жалкое отчаяние беспомощного десятилетнего существа с несложившимся рассудком, мне грозившего (чем? что могло оно мне сделать?), но обвинявшего, конечно, одну себя! Никогда еще ничего подобного со мной не было. Я просидел до ночи, не двигаясь и забыв время. Это ли называется угрызением совести или раскаянием? Не знаю и не мог бы сказать до сих пор. Мне, может быть, не омерзительно даже доселе воспоминание о самом поступке. Может быть, это воспоминание заключает в себе даже и теперь нечто для страстей моих приятное. Нет — мне невыносим только один этот образ, и именно на пороге, с своим поднятым и грозящим мне кулачонком, один только ее тогдашний вид, только одна тогдашняя минута, только это кивание головой. Вот чего я не могу выносить, потому что с тех пор представляется мне почти каждый день. Не само представляется, а я его сам вызываю и не могу не вызывать, хотя и не могу с этим жить. О, если б я когда-нибудь увидал ее наяву, хотя бы в галлюцинации! У меня есть другие старые воспоминания, может быть получше и этого. С одной женщиной я поступил хуже, и она оттого умерла. Я лишил жизни на дуэли двух невинных передо мною. Я однажды был оскорблен смертельно и не отмстил противнику. На мне есть одно отравление — намеренное и удавшееся и никому не известное. (Если надо, я обо всем сообщу). Но почему ни одно из этих воспоминаний не возбуждает во мне ничего подобного? Одну разве ненависть, да и то вызванную теперешним положением, а прежде я хладнокровно забывал и отстранял. Я скитался после того почти весь этот год и старался заняться. Я знаю, что я бы мог устранить и теперь девочку, когда захочу. Я совершенно владею моею волей по-прежнему. Но в том всё и дело, что никогда не хотел того сделать, сам не хочу и не буду хотеть; я уж про это знаю. Так и продолжится вплоть до моего сумасшествия. В Швейцарии я смог, два месяца спустя, влюбиться в одну девицу, или, лучше сказать, я ощутил припадок такой же страсти с одним из таких же неистовых порывов, как бывало это лишь когда-то, первоначально. Я почувствовал ужасный соблазн на новое преступление, то есть совершить двоеженство (потому что я уже женат); но я бежал, по совету другой девушки, которой я открылся почти во всем. К тому же это новое преступление нисколько не избавило бы меня от Матреши. Таким образом, я решился отпечатать эти листки и ввезти их в Россию в трехстах экземплярах. Когда придет время, я отошлю в полицию и к местной власти; одновременно пошлю в редакции всех газет, с просьбою гласности, и множеству меня знающих в Петербурге и в России лиц. Равномерно появится в переводе за границей. Я знаю, что юридически я, может быть, и не буду обеспокоен, по крайней мере значительно; я один на себя объявляю и не имею обвинителя; кроме того, никаких или чрезвычайно мало доказательств. Наконец, укоренившаяся идея о расстройстве моего рассудка и, наверно, старание моих родных, которые этою идеею воспользуются и затушат всякое опасное для меня юридическое преследование. Это я заявляю, между прочим, для того, чтобы доказать, что я в полном уме и положение мое понимаю. Но для меня останутся те, которые будут знать всё и на меня глядеть, а я на них. И чем больше их, тем лучше. Облегчит ли это меня — не знаю. Прибегаю как к последнему средству. Еще раз: если очень поискать в петербургской полиции, то, может быть, что-нибудь и отыщется. Мещане, может быть, и теперь в Петербурге. Дом, конечно, припомнят. Он был светло-голубой. Я же никуда не уеду и некоторое время (с год или два) всегда буду находиться в Скворешниках, имении моей матери. Если же потребуют, явлюсь всюду.
Федор Михайлович Достоевский, долгими годами был и является для меня «лучшим другом», а его романы моими любимыми:
На 1- месте для меня стоят «Бесы», на 2-м «Братья Карамазовы», на 3-м «Мертвый дом», на 4-м «Записки из подполья», на 5-м «Подросток» и т.д. которые я перечитывала по 10-раз, как минимум.
Но вернемся к 1-му - «Бесам» - самому, как считают, трудному философскому роману, написанному отчасти по биографическому периоду жизни в бытность революционером, которым Достоевский стал под влиянием «Премудрого Змия» Николая Спешнева - лидера левого крыла петрашевцев, которого и воплотил впоследствии в образе главного героя «Бесов» - прекрасного и опасного Николая Ставрогина. Многие его другие герои романов (напр. Версилов в «Подростке») также были списаны со Спешнева, человека которого он ненавидел и обожал одновременно и из-за которого попал на 4 года в каторгу, жизнь в которой описана в романе "Мертвый дом".
(На картине отмененная в последнюю минуту казнь "петрашевцев", Спешнев стоит в середине, Петрашевский (справа) сошел с ума и сорвал с себя капюшон, а Достоевский стоит в очереди в ограде с остальными 18-тью приговоренными. Позже он намекнет на эту историю в романе "Идиот", когда Епанчины попросят рассказать его что-нибудь интересное.)
Себя же в "Бесах" он персонифицировал отчасти, как Шатова, отчасти, как Верховенского, отчасти всех, кто окружал Ставрогина, и даже некоторыми своими чертами наделил и самого главного героя, и, как утверждали далеко не лучшими, если не совсем скандальными…
Стандартный роман «Бесов» насчитывает 633 странницы, но это не все, существует запретная глава «У Тихона», также известная, как «Исповедь Ставрогина». Первоначально, в рукописи, эта глава нумеровалась девятой и должна была заключать вторую часть; затем, в корректуре, она была переименована в первую главу, и, вероятно, ею должна была начаться третья часть, напечатанная в журнале "Русский Вестник" 1872 г., и начинавшаяся в журнале со следующей главы романа: "Степана Трофимовича описали".
Глава "У Тихона" мыслилась Достоевским как композиционный и идейный центр романа . В этой главе, на исповеди у местного старца Тихона, Ставрогин рассказывает о своем прошлом, как совратил 12-тилетнюю девочку, которая вскоре повесилась.
Близкий друг Достоевского Страхов и разные другие сплетничали, будто Достоевский сам растлил 10-летнюю девочку. Редактор "Русского вестника", где печатался роман, отказался публиковать эту главу из-за ее "невыносимого реализма", и Достоевский, утверждали, читал ее Страхову, Майкову и многим другим, спрашивая их мнение. В письме к Льву Толстому Страхов писал, будто сам Достоевский похвалялся ему отношениями с девочкой, приведенной к нему в баню гувернанткой.

Подобные слухи о Достоевском ходили в петербургских литературных кругах еще в 60-е годы, за шесть лет до написания "Бесов". Говаривал об этом и приятель молодости Достоевского писатель Григорович. По его словам, во время какого-то судебного процесса об изнасиловании 10-летней девочки Достоевский воспылал к ней страстью, пошел за нею после суда и воспользовался ею. А литератор Фаресов со слов близкой знакомой Достоевского Назарьевой, передавал, будто сам Достоевский ей рассказывал, как он соблазнил одну гувернантку, а заодно и несовершеннолетнюю девочку, к которой та была приставлена.
В книжное издание Достоевский главу "У Тихона" не включил, будучи уверен, что цензура её не пропустит. Поговаривали, также, что он отказался печатать эту главу из-за возможного возникновения сплетен. При жизни Достоевского она так и не была напечатана.
Вдова писателя Анна Григорьевна в своих "Воспоминаниях" пишет:
"Эту гнусную роль Ставрогина, Страхов в злобе своей не задумался приписать самому Федору Михайловичу, забыв, что исполнение такого изощренного разврата требует больших издержек и доступно лишь для очень богатых людей".
--Мне кажется, женщина не стала бы в таком вопросе покрывать и защищать мужа.
Как известно, Достоевский страдал тяжелой формой эпилепсии. Эпилепсия кроме припадков сопровождается экстатическими состояниями, которые Достоевский не раз описывал в том же «Идиоте». В промежуток перед припадком (которого может и не случиться), начинается сумеречное состояние, экстаз, как от приема галлюциногенов, который переходя через все тело, выливается в неутолимое половое влечение. Описаны случаи, когда перед эпилептическим приступом больной видел прекрасную обнаженную женщину, бросался на прохожих, другой испытывал такие взрывы желания, что насиловал собственную жену, невзирая на время и место. При височной эпилепсии, наряду с учащением припадков и нарастанием изменений личности, нередко отмечается склонность к сексуальным извращениям.
Кроме того болезнь меняет личность . Больные становятся придирчивыми, мелочными, педантичными, принимают на себя роль судей и поборников справедливости, нередко трактуя эту справедливость в свою пользу. В то же время эти наносные черты характера внезапно могут сменяться злобностью и агрессивностью. Такие внезапные приступы гнева - одна из самых ярких черт эпилептического характера.
Как бы там ни было на самом деле, но рукописных источников главы «У Тихона» не сохранилось, а только копия сделанная рукой его жены с неизвестной рукописи. Сами же рукописи предусмотрительно пропали. В посмертных изданиях эта глава под предлогом недостоверности текста, как правило, не включалась в роман, и в лучшем случае, публиковалась после текста "Бесов" как приложение.
Почти оригинал 1922 года, изданный в Мюнхене (на славянском письме), в формате pdf :
Вложение:
» были задуманы, как грандиозный иконный диптих: темной створке противополагалась светлая; демонической личности – «положительно-прекрасный человек». Христианский идеал красоты воплощает архиерей Тихон, образ которого Достоевский «давно с восторгом принял в свое сердце». Выпадением главы «У Тихона» замысел этот был разрушен, и от диптиха осталась только темная сторона: картина ада, всеобщей гибели, бушевания бесовской метели. (Эпиграфом взяты пушкинские стихи: «В поле бес нас водит видно, да кружит по сторонам».)
У Тихона. Фрагмент из фильма «Бесы»
«Величавый» лик святителя написан благоговейно и робко. Автор признавался, что «страшно боялся» и что эта задача была ему не по силам. Но в неуверенности рисунка и аскетической строгости изображения чувствуется огромная сдержанная сила. Тихон – антитеза Ставрогину : сильному человеку противопоставляется слабый, гордому – смиренный, мудрецу века сего – юродивый. Тихон – «высокий и сухощавый человек лет 55-ти, в простом домашнем подряснике и на вид как будто несколько больной, с неопределенной улыбкой и странным, как бы застенчивым взглядом». Отец архимандрит осуждает его «в небрежном житии и чуть ли не в ереси»... «По слабости ли характера или по непростительной и несвойственной его сану рассеянности, он не сумел внушить к себе, в самом монастыре особливого уважения». Монахи о нем умалчивали, «как будто хотели утаить какую-то его слабость, может быть, юродство». У него закоренелая ревматическая болезнь в ногах и по временам, какие-то нервные судороги.
«Великолепию» Ставрогина Тихон противопоставляет свое убожество: болезненность, слабость, беспомощность и юродство. С посетителем он говорит, смущаясь и робея, «стыдливо потупляя глаза с какой-то совсем ненужной улыбкой». Гость иронически поучает его: «Вы, вы почтенный отче Тихон... Я слышал от других, – в наставники не годитесь... Вас здесь сильно критикуют. Вы, говорят, чуть увидите что-нибудь искреннее и смиренное в грешнике, тотчас приходите в восторг, каетесь и смиряетесь, а пред грешником забегаете и юлите». – «Конечно, правда, что я не умею подходить к людям. Я всегда в этом чувствовал великий мой недостаток, – со вздохом промолвил Тихон и до того простодушно, что Ставрогин посмотрел на него с улыбкой».
Тихон не проповедует смирение гордецу – он сам воплощенное смирение. Но под юродством скрывается духовная мудрость, дар ясновидения и пророчества. Он боится обидеть грешника, старается выражаться мягко, конфузится и просит прощения. Но чтение исповеди производит на него отталкивающее впечатление и в голосе его слышится «решительное негодование». Он осторожно и бережно касается больного места гостя: ничего героического нет в его исповеди – она некрасива и смешна . Произнеся этот смертный приговор над человекобогом, святитель спохватывается и умоляет его не отчаиваться в спасении. «О, не верьте тому, что не победите! – воскликнул он, спохватившись, но почти в восторге... – Всегда кончалось тем, что наипозорнейший крест становился великой славой и величайшею силою...» «Если веруете, что можете простить сами себе, и токмо сего прощения и ищете достигнуть страданием своим, то уж во все веруете... И Христос простит». Если грешник признает свой грех и мучится им, он уже вернулся к Богу. «Вам за неверие Бог простит, ибо по истине Духа Святого чтите, не зная его... Ибо нет ни слов, ни мысли в языке человеческом для выражения всех путей и поводов Агнца, «дондеже пути Его въявь не откроются нам». «Кто обнимет Его необъятного, кто поймет всего , бесконечного». Но Ставрогин не знает ни смирения, ни покаяния; его исповедь – новый вызов Богу и людям, новое возношение дьявольской гордыни. Слова «проклятого психолога» вызывают в нем неутолимую злобу. Тихон видит его обреченность. «Он стоял перед ним, сложив перед собой вперед ладонями руки и болезненная судорога, казалось, как бы от величайшего испуга прошла мгновенно по лицу его. «Я вижу... я вижу, как наяву, что никогда вы, бедный, погибший юноша, не стояли так близко к новому и еще сильнейшему преступлению, как в сию минуту!»
Бездонное смирение, застенчивая нежность, юродивая мудрость и сдержанный восторг не только идейно обозначены, но и художественно показаны в Тихоне. Духовным сокровищем своим он поделится со странником Макаром Ивановичем Долгоруким в «Подростке » и со старцем Зосимой в «Братьях Карамазовых ».
Но преобладающая черта святителя не нравственная, а эстетическая . Тихон – духоносный праведник, осиянный красотой Святого Духа. Красивая маска человекобога распадается тленом в лучах истинной красоты духа. Эстетическая сторона подчеркнута в его облике и обстановке. Разлагающемуся стилю Ставрогина противопоставляется его высокий, строгий архаизированный слог; словесная бесформенность у одного, целомудрие церковной формы у другого. В келье Тихона: «три изящные вещи: богатейшее покойное кресло, большой письменный стол превосходной отделки, изящный резной шкаф для книг; столик, этажерка, дорогой бухарский ковер, гравюры «светского содержания»; в библиотеке вместе с духовными книгами – романы и театральные сочинения.
При анализе подготовительных материалов к романам Достоевского обращает на себя внимание, что при неизменности главной философско-психологической темы (некой экзистенциальной ситуации, бесконечно философски углубляющейся при разработке)Достоевским ведутся бесконечные поиски сюжетных линий: исходные видоизменяются, расширяясь или редуцируясь, вплоть до полного упразднения; вводится новый материал, вскоре тесно переплетающийся со старым. При этом одни и те же сюжетные ходы и психологические мотивы часто с легкостью передаются от одного героя к другому, вследствие чего неизбежно варьируются и характеры (относительно более устойчивым остается характер главного героя).
К примеру, образ Ставрогина перешел в роман «Бесы» из более раннего замысла «Исповеди великого грешника», и в общих чертах задумывался как безмерно сильная личность, равно способная на любой подвиг или же злодеяние (что открывало автору бесконечные сюжетные возможности). Герой должен был совершить преступление, «только очень подлое и... смешное, так что запомнят люди на тысячу лет и плевать будут тысячу лет», после чего претерпеть немыслимые душевные муки, которые и стали бы главной психологической темой романа .
Но конкретные детали психологической обрисовки «великого грешника» мы можем затем обнаружить у Ставрогина («И огромный замысел владычества»; «Сам дивится себе, сам испытывает себя и любит опускаться в бездну» - 129; «Он бросает всё и после ужасных преступлений с горечью предает себя сам» - 135), Коли Красоткина («Умнов доказывает ему, что больше его знает» - 134, «Зарезали гуся» - 135), Аркадия (Мальчик дикий, но ужасно много о себе думающий» - 134; «У Альфонск<ого> — не братья. Ему дают знать» - 132; «У Сушара, Альф<онски>й сечет его» - 132; «Стал упражнять силу воли» - 135), Смердякова («Секут за гадливость» - 132; «С лакеями» - 132, «Представляется грубым, неразвитым и дураком» - 132 «болезнь» - 132), Lambert ’а («Привычка ее бить; не хотел поцеловать ее» - 135, «А<льфонски>й знает, что сын знает, что у него рога и что у мачехи любовник» - 135), при этом целый ряд мотивов (незаконнорожденность, «полный разврат») могут быть отнесены к нескольким из этих героям одновременно.
Знакомство с «Житием великого грешника», одним из многочисленных промежуточных замыслов, убеждает нас в том, что первичными для Достоевского являются не герои, а сюжетные мотивы, развивающие главную тему и лишь постепенно находящие свое воплощение в персонажах и их судьбах. Переходя из романа в роман, они образуют единый художественный метатекст пятикнижия. Однако и в поэтике каждого отдельно взятого романа мы можем найти следы многократного варьирования замысла на предварительных стадиях. Например, у героя сохраняются рудименты первоначальной сюжетной роли (так влюбленность Лебядкина в Лизу Тушину как остаток первоначального замысла о капитане Картузове в «Бесах» не получает сюжетного развития и низводится до психологического мотива).
Иногда один герой по ходу романа воплощает разные, не связанные между собой сюжетные и психологические мотивы, и тогда его характер претерпевает неожиданные трансформации (так Рогожин, представленный в первой части «Идиота» широкой, разгульной русской натурой, превращается в мрачного и скрытного убийцу в последующих частях; Грушенька внезапно утрачивает свою «инфернальность» при новой встрече с Митей в Мокром). Зачастую Достоевский объединяет несколько сюжетных функций в лице одного героя просто во избежание чрезмерного разрастания системы персонажей. Как следствие появляется такие черты поэтики Достоевского, как бесконечная и часто алогичная изменчивость характеров большинства персонажей и переплетение множества сюжетных мотивов, многозначных до неопределенности благодаря многократной смене их функции в процессе работы над романом.
В другом случае один и та же функция (или характерологическая черта) в конечном тексте распределяется между несколькими героями: роль непредсказуемой, гордой красавицы-мучительницы в «Идиоте» воплощается в образах Аглаи и Настасьи Филипповны, там же функции шута распределяются между Фердыщенко и Келлером, Липутин выступает в роли трикстера до появления в романе в той же роли Петра Верховенского и т.д.
Возникает сложная система взаимоотражений героев. В случае наличия у персонажей идейной нагрузки, их параллелизм получает философско-символическое значение. Примером может служить взаимосвязь образов Кириллова и Шатова в «Бесах»: им обоим Ставрогин проповедует свои идеи, которые впоследствии станут для них судьбоносными; затем они вместе уезжают в Америку работать на плантации; уволившись, бедствуют, четыре месяца лежа на полу в одном сарае без копейки денег, за это время оба меняют убеждения, окончательно укореняясь в идее, некогда внушенной Ставрогиным (Шатова «придавила», а Кириллова «съела»). В Швейцарии они оба входят в нигилистический кружок Верховенского, но вскоре «отшатываются» от него, сохраняя лишь номинальную связь (Кириллов брал деньги на дорогу в Россию, а Шатов брал на сохранение печатный станок). Идеи обоих носят ярко выраженный религиозный характер: в случае Кириллова это - «человекобожество», в случае Шатова - вера в «народ-богоносец». Дело в том, что, порвав с «нигилизмом», они стремятся уверовать в Христа, но путь их оказывается долгим и мучительным. В губернский город, где происходит действие «Бесов», Кириллов и Шатов приезжают независимо друг от друга, но поселяются, не сговариваясь, в одном доме на разных этажах, при этом совершенно не общаются - без всякой ссоры - просто так, - «не злимся, а только отворачиваемся. Слишком долго вместе в Америке пролежали» (10; 292). Когда кто-то из героев заходит поговорить с одним из них, то тут же навещает и второго (вплоть до того, что Шатов открывает ворота Ставрогину, идущему к Кириллову). Но когда к Шатову возвращается жена, тот идет за помощью к Кириллову, как будто их отношения ничем не омрачались, и инженер не удивляется этому, а помогает, чем может, и искренно радуется: «Ступайте к жене, я останусь и буду думать о вас и о вашей жене» (10; 436). Наконец, в ту же ночь, когда «пятерка» расправляется с Шатовым, должен, по уговору с Верховенским, покончить с собой Кириллов, обвинив себя в убийстве друга в предсмертной записке. Кириллов потрясен, но, не в силах отступить от своей идеи (сделаться через самоубийство богом), в конце концов идет у Верховенского на поводу и пишет под его диктовку письмо и застреливается. Получается, что Кириллов и Шатов умирают почти одновременно, и их смерти связаны одним сюжетным и идейным узлом.
Если сопоставить все эти факты, то напрашивается вывод, что эти два героя символически (и даже почти аллегорически) представляют неустоявшееся, расколотое и раздробленное сознание человека 60-х годов, отшатнувшегося от «бесов», но не могущего уверовать. Идеи Шатова и Кириллова, при их сложении, как раз и дадут полноту истины - любовь к Христу через любовь к народу и жажду самопожертвования ради его спасения.
Данный пример слишком характерный, чтобы быть единичным. Слишком многие герои «пятикнижия» объединяются сходными мотивами - сюжетными, детальными, не говоря уже о психологических. (Взять хотя бы мотив хромоты, объединяющий Марью Тимофеевну и Лизу Тушину в «Бесах» .) Наиболее общеизвестные из подобных случаев описываются как двойничество, но каждый конкретный случай сходства героев настолько своеобразен и не похож на прочие, в свою очередь различные по степени явности параллелизма и смысловой нагрузке, что в итоге само понятие двойничества крайне размывается, ибо в эпоху романтизма феномен двойничества был далеко не столь разнообразен в проявлениях .
Скорее следует говорить о поэтике взаимоотражений, возникающей как рефлекс множественности замыслов на подготовительных этапах создания романа и используемой автором для установления специфических, намеренно до конца непроясненных метасвязей героев в символико-аллегорическом плане романа , открывающемся за реалистически построенной системой персонажей . Первооткрывателем подобного метода стал Н.Бердяев в своей статье «Ставрогин», в которой рассматривал «БесОВы» как «метафизическую истерию русского духа», где «за внешней реалистической фабулой» проступает «мировая символическая трагедия» с «только одним действующим лицом - Николаем Ставрогиным и его эманациями» .
Разумеется, подобные метасвязи, непроясненные и недоговоренные автором, открыты в бесконечности своих толкований, что не позволяет считать романы пятикнижия символическими (в том плане, что в романах не существует целостной и законченной метасистемы символов, символический уровень в некоторых случаях очевиден, в других - тщательно скрыт, в третьих - деформирован и почти недоказуем), что и обуславливает неизменный интерес к их разгадыванию.Символистская критика Достоевского (Бердяев, В.Иванов, Дм.Мережковский) во многом остается в рамках своего времени и не может претендовать на научность. Попытки символико-мифологических трактовок Достоевского зачастую оборачиваются легковесными построениями и спекуляциями. Однако вряд ли какой-либо исследователь будет оспаривать существование в романах пятикнижия символического (отчасти даже мистического, наследственного от готики) плана, ибо только при обращении к нему возможно осмыслить многие алогические сцепления и повороты в судьбах героев. Но доказательство их правомерности этих планов требует крайней осторожности и детального текстологического обоснования.
Выдвинутые нами положения мы хотим проиллюстрировать на примере анализа образа Хромоножки - одного из самых загадочных и многозначных в пятикнижии - не только потому, что с ним связана одна из главных тайн сюжетной интриги (вследствие ее «невозможного» брака со Ставрогиным), но также благодаря своему причудливому жанровому рисунку. Речь героини выдержана в русской фольклорной традиции (при полном отсутствии таковой у остальных персонажей романа), она озвучивает народные представления о том, что «Богородица - мать сыра земля есть» (единственный раз за все пятикнижие, что не позволяет отождествить их с позицией автора). Одновременно Лебядкина связана аллюзиями с целым рядом персонажей европейской литературы: это и Гретхен («Фауст» И.-В.Гете ), И Офелия («Гамлет» У.Шекспира ), И Антония де Монлион («Жан Сбогар» Ш.Нодье ). Понимание образа усложняется также ввиду проблемы включения или невключения в роман главы «У Тихона», где существенно уточняется мотивация брака Ставрогина.
В 1914 г. появились софиологические интерпретации образа Марьи Лебядкиной Вяч. Ивановым («Вечная Женственность в аспекте русской Души», «самое Богородица», «Душа-Земля русская») и Н.А.Бердяевым, повторяющим, что Хромоножка «русская земля, вечная женственность, ожидающая своего жениха» . Для С.Аскольдова она - «идея ипостасного женского начала, то отождествляемая с церковью, то с Софией Премудростию Божией, то с душой мира» . Подобную фольклорно-мифологическую трактовку образа можно встретить и в наши дни, например, у В.А.Смирнова («Мария Лебядкина не только носительница тайных, сакральных знаний, выраженных в стригольнической ереси, она сама воплощение созидающей силы Матери—сырой земли. Ее “убогость”, неказистость лишь тайный знак для посвященных») и Г.М.Васильевой .
А.С.Долинин отзывается о Лебядкиной гораздо резче, расценивая «нелепый брак со скудоумной юродивой Лебядкиной» как «месть» Ставрогина «самому себе» . В то же время он видит в ней «высший идеал цельности и доподлинное знание высшей правды». «Она им всем противостоит как начало противоположное, как существо, которому дано постижение мистической тайны жизни» .
Позже безумие Хромоножки стало истолковываться не только как юродство (вписывающееся в традиции русской святости), но и как беснование, роковая болезнь русского духа, раскрытию которой посвящен весь роман, в связи с чем в образе акцентировались демонические черты. Так, Ю.М.Лотман сравнивал сюжет брака Ставрогина с «повестью о бесноватой жене Соломонии»: «Если даже не считать, что Достоевский сознательно ориентировался... на образ Соломонии, которая совершала грехопадения с бесами, порождала их и становилась их же жертвой, то нельзя не признать, что народная легенда во многом «предвосхитила» художественную форму воплощения мысли о засилии зла, которую Достоевский избрал в «Бесах»» .
В современных работах подчеркивается противоречивость этого образа. Л.И.Сараскина тонко отмечает, что с предполагаемой богородичной символикой не согласуется тот факт, что Лебядкина «согласилась стать тайной женой Ставрогина в ту пору, когда он вел в Петербурге жизнь “насмешливую”» ; что поэтические пророчества Хромоножки о матери-земле, о радостном приятии «всякой тоски земной и всякой слезы земной» странно сочетаются с ее поведением в церкви и дома у Ставрогиных, так же странно сочетается в ее комнате стоящая икона Богородицы с предметами, явно подобранными как атрибуты ведовства: зеркало, истрепанный песенник и старая колода карт (явно по аналогии с гадающей Светланой или Татьяной). Ее привычка чрезмерно румяниться и белиться приближают ее лицо к «маске», с которой рассказчик постоянно сравнивает лицо Ставрогина. Физическая хромота кажется исследовательнице также несомненным признаком «некой душевной порчи», бесноватости . Еще Вяч. Иванов видел в увечье Марьи Тимофеевны до конца не понятную метафору: «И уже хромота знаменует ее тайную богоборческую вину — вину какой-то изначальной нецельности, какого-то исконного противления Жениху, ее покинувшему» .
Странности образу придают и ее ощущение некоей своей неизбывной вины перед Ним, а особенно выдуманные воспоминания о будто бы рожденном и утопленном ею в пруду ребенке. «Что же заставляет ее оплакивать якобы родившееся дитя — неужели сознание, что оно от греховной связи: «родила я его, а мужа не знаю»? Но ведь Марья Тимофеевна повенчана. И тем более — что понуждает ее топить в пруду «некрещеного» новорожденного (оставляя его тем самым вне церкви)? Трудно представить себе такие культы, мистерии, мифы, на которых могло бы строиться убийство ребенка матерью: именно преклонение перед матерью — землей рождающей — не допускает возможности даже символического жертвоприношения» .
Необыкновенно причудливы и изломаны отношения Марьи Тимофеевны к самому Ставрогину, которому она и поклоняется, будто Богу, но которого тут же проклинает как самозванца и будущего своего убийцу. Явная демоничность сквозит в ее образе, когда выскакивает из дома вслед за убегающим от нее Ставрогиным: «Она тотчас же вскочила за ним, хромая и прискакивая, вдогонку, и уже с крыльца, удерживаемая изо всех сил перепугавшимся Лебядкиным, успела ему еще прокричать, с визгом и с хохотом, вослед в темноту - Гришка От-репь-ев а-на-фе-ма!» (10; 219)
Если мы обратимся к подготовительным материалам «Бесов», то увидим, что мотив хромоты настойчиво прослеживается у многих героинь подготовительных материалов конца 60-х - нач. 70‑х годов, получая самое разнообразное психологическое наполнение.
В «ПЛАНЕ ДЛЯ РАССКАЗА (В “ЗАРЮ”)» герой при разрыве с возлюбленной устремляется «к хромой девчонке , чтоб любить, вышла история, ему глубокий щелчок». При этом сама героиня оказывается мстительной: «хромоногая не выдержала в ненависти, ревности (тщеславной и эгоистической), что он всё еще любит ее [первую возлюбленную - А.Б.] и хочет возвратить, и бежала от него из дому. Ночью преследование по улицам. Мертвая девочка, из злобы сама себя довела до смерти. Искалеченная от избитости.)»
Интересно, что «хромая девчонка», фактически покончившая с собой, совмещает в себе черты сразу двух героинь «Бесов» - хромой Марьи Тимофеевны и «девчонки» Матреши (а сюжетно отсылает и к третьей героине - Лизе Тушиной, забитой толпой). Мстительность и злоба хромой - не найдут отражения в романе (но зато проявятся в Братьях Карамазовых -в образе Лизы Хохлаковой, тоже страдавшей хромотой, - в главе «Бесенок»). Закончить сюжет Достоевский предполагал самоубийством героя. «(Может быть, застрелился)» (9; 118).
В набросках «Романа о князе и ростовщике» также возникает сюжет «изнасилования влюбленной в него и живущей на дворе Хромоножки » которая затем ревнует героя к Жене и пишет ей анонимные письма. После того как она вошла в сношения с каторжником Кулишовым, тот «ее и изнасильничал и убил». (9; 122). Комментируя данный пассаж, Г.М.Фридлендер придерживается мнения, что это «прообраз будущей Марьи Тимофеевны Лебядкиной в «Бесах» и в то же время девочки Матреши из «Исповеди Ставрогина», в то же время как Кулишов — «прообраз Федьки-каторжного в ”Бесах”» (9; 497-498).
В плане «Жития великого грешника » тоже с самого начала появляется Хроменькая - подружка детства главного героя. Отношение к ней последнего изначально двойственное: она является самым верным и преданным его конфидентом («Хроменькая хранит тайну из всего, что он говорит ей» - 9; 131), кому герой доверяет самые заветные и неловкие по наивной детскости мечтания («Мечты о путешествиях, Кук с Хроменькой» - 9; 134), но в то же время он же ведет себя с ней крайне высокомерно («Обо всех своих мечтах. “Когда я буду большой”. “Я женюсь не на тебе”» - 9; 134). В продолжении замысла герой то спасает ее («Никогда не нежничает с Хроменькой до самого того времени, как нес ее на руках» - 9; 134), то постоянно и жестоко издевается над ней («Хроменькую бьет, чтоб дралась с мальчиками. Та и выскочила бы, но ее отколотили. и она плакала. Полный разврат» - 133), вплоть до того что «посягает на Хроменькую » (9; 133).
Основой характера Хроменькой в «Житии» становится жертвенность и смирение, она наделяется интуитивною религиозностью («Хроменькая не соглашается быть атеисткой. Он ее за это не бьет» - 9; 131), а об агрессивности нет и речи (кроме разве пассажа: «Хроменькая: а я расскажу, как ты говорил, что будешь королем (или что-нибудь смешное) - режет ее за это» - 9; 135).
Во всех трех набросках можно увидеть совмещение в одной героини черт последующих двух - Марьи Тимофеевны и Матреши.
Чтобы понять принцип возникновения данных инвариантов, надо иметь в виду, что в сюжетной поэтике романов «пятикнижия» четко прослеживаются четыре основных модуса отношения героя к женщине, определяемых не столько силой страсти, сколько степенью самолюбия героя:
1) Жертвенная покорность, вплоть до предупредительного отказа от возлюбленной в пользу счастливого соперника (с готовностью носить к нему любовные записки), ограничиваясь при этом ролью преданного друга и конфидента (Иван Петрович, Мышкин, Алеша, Маврикий Николаевич)
2) «Война» с инфернальной красавицей (на равных), выливающаяся в любовь-ненависть (Митя, Иван, Рогожин, Версилов, Ставрогин с Лизой Тушиной, Свидригайлов с Дуней)
3) «Приручение» униженного и несчастного создания, с «возвышением» до себя (так Раскольников намеренно Соню сажает рядом с матерью и сестрой, подобные отношения пытаются создать Подпольный человек, Лужин, Ростовщик из «Кроткой», Ставрогин с Хромоножкой и Дашей).
4) Надругательство над беззащитной, часто ведущее к ее смерти или самоубийству (Ставрогин Матрешей, Свидригайлов с девочками-жертвами).
5) Истинная, спасающая любовь (Митя и Грушенька в Мокром, Раскольников и Соня в эпилоге, Шатов и его жена роковой ночью), которая, однако, показывается лишь на миг перед разлукой или перед концом романа.
Героине, которой была предпослана одна сюжетная роль, может быть затем уготована другая - не только на подготовительных стадиях, но и по ходу романного сюжета. Хромота же дополнительно придает героине, при любой ее роли, эксцентричность, болезненный надрыв, изломанность в отношениях с со всеми персонажами.
Изменение характера преступления Ставрогина - с убийства на насилие - впервые намечается в записи от 9 июня 1970 года:
«NB) необходимо сцену с Воспитанницей в Скворешниках. Подкуплена экономка. Сцену оскорбления В<оспитанницы> Князем и ужасного его раскаяния. Шекспир. Расстаются врагами. (Уродливое лицо.) Сперва изнасиловал, потом просит прощения. Ей же письмо об Ури (впрочем, простое). (11; 153)
NB) Необходимо тоже историю с чиновником и его женой.
NB Убил кого-нибудь (сильно под сомнением).
Князь исповедует Ш<атову> свою подлость с ребенком (изнасиловал), написал исповедь, хочет напечатать, показал Шатову, прося совета. Говорит, что хочет, чтоб ему плевали в лицо. Но после того возненавидел Ш<атова> и рад был, что его убили». (11; 153).
Примечательно, что сперва предполагается насилие над Воспитанницей, и почти тут же над ребенком. В любом случае оно изначально замысливается как повод к последующему покаянию (то самой Воспитаннице, то Шатову), а герои, как жертвы, так и конфиденты, свободно варьируются и оказываются взаимозаменяемыми.
Видно, как в «Житии» Хроменькой вначале была уготована роль кроткого конфидента, которой герой исповедуется во всем в судьбе героя (наподобие Сони Мармеладовой: характерно, что она, как и Соня; называется юродивой). И вдруг, по новому повороту мысли, преступление должно совершиться именно над ней — «Надругался над Хроменькой».
Сопоставление данных фрагментов позволяет сделать вывод о генетической связи образов Хромоножки и Матреши на первоначальных этапах работы над романом, что уже частично отмечалось Г.М.Фридлендером. Однако возможно сделать и следующий шаг: наличие многих общих мотивов позволяет говорить о явной взаимосвязи этих образов и в самом романе, что позволяет по-новому интерпретировать образ Хромоножки. (При этом, конечно, мы делаем допущение, рассматривая исключенную главу «У Тихона» в целостности мотивной структуры романа .)
Психологическим стимулом, определяющим все поступки Ставрогина в исповеди, является чувство безмерного наслаждения собственным унижением или низостью - «Упоение от сознания глубины моей подлости» («Всякое чрезвычайно позорное, без меры унизительное, подлое, а главное, смешное положение, в каковых мне случалось бывать в моей жизни, всегда возбуждало во мне, рядом с безмерным гневом, неимоверное наслаждение» - 11; 14) . В этом ряду стоят: воровство кошелька, наслаждение поркой Матреши, надругательство над ней и женитьба на Хромоножке.
В своей исповеди Ставрогин хочет представить надругательство над Матрешей и женитьбу на Хромоножке двумя совершенно не связанными между собой поступками. Женился Ставрогин якобы от скуки, доходившей «до одури», когда он о происшествии на Гороховой «было совсем забыл», а «вовсе не почему-нибудь» (11; 20). Как бы вскользь герой замечает:
«Я уже с год назад помышлял застрелиться ; представилось нечто получше . Раз, смотря на хромую Марью Тимофеевну Лебядкину, прислуживавшую отчасти в углах, тогда еще не помешанную, но просто восторженную идиотку, без ума влюбленную в меня втайне (о чем выследили наши), я решился вдруг на ней жениться. Мысль о браке Ставрогина с таким последним существом шевелила мои нервы. Безобразнее нельзя было вообразить ничего. Но не берусь решить, входила ли в мою решимость хоть бессознательно (разумеется, бессознательно!) злоба за низкую трусость, овладевшая мною после дела с Матрешей . Право, не думаю; но во всяком случае обвенчался не из-за одного только „пари на вино после пьяного обеда”» (11; 20).
В этом отрывке показано сплетение воедино трех мотивов: мысль о женитьбе на Марье Тимофеевне ставится в один рад с желанием самоуничтожения и со «злобой за низкую трусость» после дела с Матрешей (утверждение героя, что воспоминание о нем могло повлиять лишь бессознательно, с подчеркиванием этого в скобках - излюбленный Достоевским прием «невольного саморазоблачения» героя и акцентирования внимания читателей на его тайных мыслях). При этом женитьба на Хромоножке - единственный эпизод из жизни Ставрогина, о котором он считает необходимым подробно рассказать в исповеди, помимо собственно преступления.
Итак, брак Ставрогина находится в одном смысловом ряду с «делом с Матрешей», и оба поступка имеют одну цель - испытать сладострастие унижения и падения, уничтожить себя духовно. Шатовым брак с Хромоножкой расценивается как «падение» и «позор», что идет вразрез с истолкованием этого брака Вяч.Ивановым, но почти дословно повторяет признания исповеди: «Знаете ли, почему вы тогда женились, так позорно и подло? Именно потому, что тут позор и бессмыслица доходили до гениальности! О, вы не бродите с краю, а смело летите вниз головой. Вы женились по страсти к мучительству, по страсти к угрызениям совести, по сладострастию нравственному. Тут был нервный надрыв... Вызов здравому смыслу был уж слишком прельстителен! Ставрогин и плюгавая, скудоумная, нищая хромоножка!» (10; 201-202). Именно за духовное преступление над собой дает Ставрогину пощечину Шатов («Я за ваше падение… за ложь» - 10; 191). Одновременно Шатов догадывается и о злодеянии: «А правда ли, что вы <...> принадлежали в Петербурге к скотскому сладострастному секретному обществу? Правда ли, что маркиз де-Сад мог бы у вас поучиться? Правда ли, что вы заманивали и развращали детей?» - на что Ставрогин дает отрицательный ответ, но с трудом, который его дезавуирует: («- Я эти слова говорил, но детей не я обижал, - произнес Ставрогин, но только после слишком долгого молчания. Он побледнел, и глаза его вспыхнули » - 10; 201).
Таким образом, и в окончательном тексте романа, куда исповедь Ставрогина не вошла, женитьба на Лебядкиной рассматривается в ассоциативной связи с преступлением над Матрешей. Все это свидетельствует в пользу нашего предположения, что брак был домысленным Ставрогиным продолжением преступления. Насколько ужасным в своей извращенности было изнасилование, настолько же ненормальным оказался и брак. Отношения с Хромоножкой в подсознании Ставрогина оказались продолжением и замещением так жутко оборванных отношений с девочкой. Брак с Хромоножкой сравним с клеймом, видимым выражением преступления.
Когда Ставрогин после брака страстно влюбляется в Лизу Тушину, то от «ужасного соблазна на новое преступление» (то есть совершить двоеженство») его удерживает сознание, что «это новое преступление нисколько не избавило бы [его] от Матреши » (11; 23). Этими словами Ставрогин уже прямо признает, что его брак был психологически мотивирован насилием. Лиза тоже интуитивно чувствует взаимосвязанность странной женитьбы с некой страшной тайной - преступлением, выставляющим Ставрогина в очень подлом и смешном виде.
Главная причина появления Ставрогина в губернском городе - это снять с души тяжесть греха. Он «ищет бремени», самоказни и покаяния. Действенными для этого ему представляются два средства: опубликовать исповедь и объявить брак с Хромоножкой, опять-таки объединяя двух своих жертв одной интенцией покаяния. Но желание Ставрогина объявить во всеуслышание о своем грехе (заодно и о странном браке) и «замуроваться заживо» вместе с женой в швейцарском углу не может его облегчить и может служить лишь последним испытанием своей «беспредельной силы» перед лицом неизбежного духовного умирания. Поскольку это уже «все равно», он не публикует исповедь, попускает гибели Хромоножки и Шатова, а сам вешается.
Прежде всего, в имени Марии Тимофеевны отзываются все звуки имени Матрены , что при наличии главы «У Тихона» в романе создало бы дополнительную ассоциативную связь между героинями.
В облике их обеих подчеркиваются детскость и чрезвычайная тихость:
Хромоножка : «Когда-нибудь, в первой молодости, это исхудавшее лицо могло быть и недурным; но тихие, ласковые, серые глаза ее были и теперь еще замечательны; что-то мечтательное и искреннее светилось в ее тихом, почти радостном взгляде. Эта тихая, спокойная радость, выражавшаяся и в улыбке ее, удивила меня» (10; 114)
Матреша : «Она была белобрысая и весноватая, лицо обыкновенное, но в нем много детского и тихого, чрезвычайно тихого». (11; 13)
Тихость героинь сказывается в их способности подолгу пребывать в неподвижности. Про Хромоножку Шатов рассказывает, что она одна-одинешенька сидит «по целым дням и не двинется» (10; 114). Матреша, когда Ставрогин застал ее дома одну и выжидал как подойти к ней, целый час «сидела в своей каморке, на скамеечке, к [Ставрогину] спиной, и что-то копалась с иголкой» (11; 16). При следующем появлении Ставрогина на квартире она долго стоит и «неподвижно» (11; 17) смотрит на него.
Временами, среди неподвижности и молчания, обе героини тихо поют. Марья Тимофеевна напевает: «Мне не надобен нов-высок терем, Я останусь в этой келейке, Уж я стану жить-спасатися, За тебя Богу молитися» (10; 118), а Матреша, пока Ставрогин к ней подкрадывался, «вдруг тихо запела, очень тихо; это с ней иногда бывало» (11; 16).
Детскость сказывается у Матреши в том, как она вдруг рассмеялась, когда Ставрогин в первый раз поцеловал ей руку («То, что я поцеловал ей руку, вдруг рассмешило ее, как дитю , но только на одну секунду» - 11; 16), а у Лебядкиной в том, как она сама «прыскает со смеху», сказавши у Ставрогиной лакею merci.
Следующая акцентируемая общая черта героинь - их худоба. Когда Ставрогин увидел Матрешу через несколько дней после соблазнения, ему показалось, «что она очень похудела и что у нее жар» (11; 17). При следующей встрече, когда Матреша встает после горячки, чтобы погрозить ему и повеситься, Ставрогин опять отмечает невольно, она «действительно похудела очень. Лицо ее высохло и голова наверно была горяча». Когда хроникер в первый раз видит Хромоножку, ему сразу бросается в глаза ее болезненная худощавость и жиденькие волосы, «свернутые на затылке в узелок, толщиной в кулачек двухлетнего ребенка». При втором ее описании опять маркируется, что «она была болезненно худа и прихрамывала» (10; 122).
Показательно, что худоба как знак болезни, появившийся у Матреши после посягательства Ставрогина, во внешности Марьи Тимофеевны объявляется сразу. Таким образом, она несет на себе видимую печать ставрогинского преступления как закрепленный признак.
Наблюдается параллелизм и в ряде сцен и деталей. Во-первых, встреча Ставрогина с Хромоножкой у матери вызывает у несчастной Матрены Тимофеевны реакцию, схожую с той, какую вызвала у Матреши приближение к ней Ставрогина передпреступлением, где сочетаются восторг и ужас:
(«Бесы»: глава «Премудрый змий») «Но он продолжал молчать. Поцеловав руку, он еще раз окинул взглядом всю комнату и по-прежнему не спеша направился прямо к Марье Тимофеевне. <...> Мне, например, запомнилось, что Марья Тимофеевна, вся замирая от испуга, поднялась к нему навстречу и сложила, как бы умоляя его, пред собою руки; а вместе с тем вспоминается и восторг в ее взгляде, какой-то безумный восторг, почти исказивший ее черты, - восторг, который трудно людьми выносится. Может, было и то, и другое, и испуг и восторг; но помню, что я быстро к ней придвинулся (я стоял почти подле), мне показалось, что она сейчас упадет в обморок» (10; 146).
(«У Тихона») «Я встал и начал к ней подходить. <...> Я тихо сел подле на полу. Она вздрогнула и сначала неимоверно испугалась и вскочила. Я взял ее руку и поцеловал, принагнул ее опять на скамейку и стал смотреть ей в глаза. <...> потому что она стремительно вскочила в другой раз и уже в таком испуге, что судорога прошла по лицу. Она смотрела на меня до ужаса неподвижными глазами, а губы стали дергаться, чтобы заплакать, но всё-таки не закричала. <...> Я что-то всё шептал ей <...> вдруг случилась такая странность, которую я никогда не забуду и которая привела меня в удивление: девочка обхватила меня за шею руками и начала вдруг ужасно целовать сама. Лицо ее выражало совершенное восхищение…» (11; 16)
Обе героини испытывают в связи с их взаимоотношениями со Ставрогиным неизбывное чувство вины: Матреша решила в глубине души, что «она сделала неимоверное преступление и в нем смертельно виновата» (11; 16) в болезни бредит она «ужасти», будто бы она «Бога убила». Марья Тимофеевна тоже винит себя в том, что Ставрогин ушел от нее и скрывается («Виновата я чем-нибудь перед ним» - 10; 217), и даже обвиняет себя, будто в умопомрачении, что она утопила в пруду незаконнорожденного ребенка. Чувствуя себя «великой грешницей», она не хочет более возвращаться в монастырь.
Наступает момент, когда беспомощная жертва грозит своему мучителю. Прежде всего, это сцена, когда Матреша грозит соблазнителю своим детским кулачком:
«Она вдруг часто закивала на меня головой, как кивают, когда очень укоряют наивные и не имеющие манер, и вдруг подняла на меня свой маленький кулачок и начала грозить с места. Первое мгновение мне это движение показалось смешным, но дальше не мог вынести <...> На ее лице было такое отчаяние, которое невозможно было видеть в лице ребенка. Она всё махала на меня своим кулачонком с угрозой и всё кивала укоряя» (11; 18).
Когда Ставрогин в ярости уходит от Хромоножки, «она тотчас же вскочила за ним, хромая и прискакивая, вдогонку, и уже с крыльца, удерживаемая изо всех сил перепугавшимся Лебядкиным, успела ему еще прокричать, с визгом и с хохотом, во след в темноту: - Гришка От-репь-ев а-на-фе-ма!». Кстати, крошечный узелок волос на затылке у Марьи Тимофеевны Достоевский сравнивает все время с «кулачком двухлетнего ребенка» (10; 114).
Повешение Матреши тоже получает мотивное отображение в казусе, приключившимся с Хромоножкой при выходе от Варвары Петровны: «Должно быть, она неосторожно как-нибудь повернулась и ступила на свою больную, короткую ногу, словом, она упала всем боком на кресло, и не будь этих кресел, полетела бы на пол. Он мигом подхватил ее и поддержал, крепко взял под руку, и с участием, осторожно повел к дверям. Она видимо была огорчена своим падением, смутилась, покраснела и ужасно застыдилась. Молча смотря в землю, глубоко прихрамывая, она заковыляла за ним, почти повиснув на его руке » (10; 147).
В идейной системе романа очевидна соотнесенность и изнасилования и тайного брака с убийством, что подчеркивается введением символического мотива ножа. Идея преступления над Матрешей приходит к Ставрогину после того, как ее высекли на его глазах за якобы украденный у него ножик, который на самом деле Ставрогин вскоре нашел, но спрятал, желая посмотреть на экзекуцию. В главе «Ночь (продолжение)» нож как страшное орудие разбойника видит во сне Хромоножка в руке Ставрогина, после чего не верит более ни одному его слову и прогоняет его со словами: «…не боюсь твоего ножа! - Ножа! - Да, ножа! у тебя нож в кармане. Ты думал, я спала, а я видела: ты как вошел давеча, нож вынимал!» (10; 219).
В духовном плане фиктивный брак с любящим человеком, ради злого эксперимента над собой, объявление его тут же тайной и последовавшее заключение жены в монастыре - такое же оскорбление, нравственное убийство, как насилие над ребенком. Это также убийство любви, надругательство над браком.
Хромоножка же только теперь понимает, чувствует при встрече, что ее обманули, убили. И в монастырь ей не с чем идти. Ее сетования князю, что ее подменили, проклятья анафемой, эквивалентны угрозе Матреши кулачком.
Безумие Хромоножки тоже воспринимается как некое лежащее на ней бремя греха, может быть, чужого. Ее душа помрачилась в результате ставрогинского преступления. Важно упоминание, что когда Ставрогин женился на ней, она еще не была безумной: «тогда еще не помешанную, но просто восторженную идиотку, без ума влюбленную в меня втайне» (11; 20).
Ставрогин, однако, не убивает своих жертв прямо, хотя временами страстно желает их смерти (Матрешу он думает убить от страха разоблачения: «Вечером, у меня в номерах, я возненавидел ее до того, что решился убить» (11; 17), а на Хромоножку при свидании он украдкой так ненавистно глядит, что «в лице бедной женщины выразился совершенный ужас; по нем пробежали судороги, она подняла, сотрясая их, руки и вдруг заплакала, точь-в-точь как испугавшийся ребенок; еще мгновение, и она бы закричала» - 10; 215). В конечном итоге героини погибают при его молчаливом согласии и прямом попустительстве: Ставрогин хладнокровно выжидает, пока Матреша покончит с собой, а в случае Хромоножкой ведет себя совершенно невразумительно и загадочно: сначала он отказывается от предложения Верховенского убить Марью Тимофеевну и хочет объявить открыто о своем браке, после чего уехать с женой Швейцарию, но потом неожиданно дает деньги наемному убийце Федьке, что тот истолковывает как согласие на «дело» и задаток. Так или иначе, обе героини гибнут по вине Ставрогина - сначала духовно, а потом и физически.
Выявленный параллелизм двух женских образов приводит нас к выводу, что в идейно-символической схеме романа Хромоножка по крайней мере на длительном отрезке работы (до переработки и исключения главы) должна была играть роль символического воплощения преступления Ставрогина, и только в контексте данной несостоявшейся схемы возможна правильная интерпретация образа Лебядкиной.
Брак с ней был для Ставрогина замещением брака с Матрешей, как продолжение страшного эксперимента над собой. В идейно-символическом плане, он повенчался со своим преступлением .
Этим и объясняется причудливое сочетание в натуре Марьи Тимофеевны религиозной просветленности и «падшести», выраженной в смущающих деталях ее внешности, поведения и в ее бреде о потопленном ребенке. Так проецируются на нее ангельская детскость Матреши и одновременно невольное ее соучастие в преступлении Ставрогина («Я <...> дескать, Бога убила». 11; 18) . Та же двойственность сказывается и в отношении Хромоножки к Ставрогину: она и боготворит его, как возлюбленная, и проклинает за поругание - ибо предчувствует свое убийство. Ставрогин убил в себе светлого князя, каким видела его Хромоножка. Загадочные фразы Марьи Тимофеевны «Мой - ясный сокол и князь, а ты - сыч и купчишка!», «Мой-то и Богу, захочет, поклонится, а захочет, и нет» (10; 219) выражает двойственность взгляда автора на совершенное Ставрогиным преступление. Его можно понять как высшую «пробу» и доказательство безграничной силы, подвиг Люцифера, осмелившегося встать выше Бога (поправшего не только Божий закон нравственности, но и Божью красоту), а можно понять как подлое преступление, безмерно унижающее и уничижающее его совершившего.
Это не мешает Хромоножке оставаться персонажем многофункциональным и многозначным, в частности воплощением таинственных мистических глубин народной души. Возможна аналогия между ней и Катериной из «Хозяйки»: в образе Катерины яркий фольклорный колорит (неестественный в петербургской повести) также совмещается с мотивами преступной вины, тайной и недоговоренной, следствием которой становится безумие героини и восторженный бред. Данная аналогия косвенно подтверждает предложенную нами интерпретацию образа Хромоножки.
Символический мотив любовного воссоединения убийцы с его жертвой имеет место и в «Преступлении и наказании», Он проводится на символико-ассоциативном уровне, благодаря сложной системе взаимоотражения ряда женских образов, причем охватывает сюжетные линии сразу двух героев - Раскольникова и Свидригайлова, что лишний раз подтверждает их идейную взаимосвязанность («двойничество»).
В Соне Раскольников обретает духовное подобие убитой им Лизаветы и понимает, что только в ее любви может получить прощение. Еще Г.Мейером было прослежено родство и взаимное отражение «в Духе», «в высшей реальности бытия» Лизаветы и Сони , вплоть до их «мистической не-разлучимости , не только в идейном плане романа, но и в сознании Раскольникова («Не умом, не рассудком, но глубиною души он ведал, что Лизавета и Соня для него одно. И вот то, что приоткрывалось лишь его глубинному ведению, обращалось в явь»). Поэтому в символико-мистическом плане романа «Соня — крестовая сестра Лизаветы, избранная в посредницы смиренной жертвой. Соня — живой проводник на земле благотворных лучей всепрощения, исходящих от безвинно казненной к палачу»; «Земное существование убитой Лизаветы продолжается для Раскольникова в образе Сони». «Соня по отношению к Раскольникову есть инобытие, живой символ разбойно умерщвленной Лизаветы» . Раскольников после убийства Лизаветы приходит к Соне, которая явно объединена с убитой множеством общих мотивов (они крестовые сестры, они обе ведут жизнь блудниц, сохраняя внутреннюю чистоту, веру и смирение, Соня читает Раскольникову о воскрешении Лазаря по Евангелию Лизаветы, во время признания Раскольникова в убийстве она заслоняется от него, подняв руки над головой, - тем же движением, что и Лизавета от занесенного над нею топора). Сам Раскольников многократно отождествляет Соню и Лизавету в своих мыслях . Приходя к Соне, Раскольников тем самым сближается с убитой им Лизаветой и кается перед ней, а в эпилоге, понеся наказание и выстрадав любовь к Соне, получает прощение свыше. Получается, что убиенная простила своего убийцу и, более того, он спасся ее любовью (когда Раскольников идет доносить на себя, у него шее крест, данный ему Соней, то есть крест Лизаветы).
Важные дополнительные коннотации разбираемым образам придают литературные аллюзии, в частности параллели с «Пиковой дамой» А.С.Пушкина. При общепринятом соотнесении сюжета убийства старухи-процентщицы с попыткой Германна завладеть тайной старой графини, исследователи ни разу не обращали внимания на совпадение имен воспитанницы Лизы, возлюбленной Германна, и Лизаветы, двоюродной сестры Алены Ивановны, в то время как оно представляется многозначительным. Лиза в новелле Пушкина также живет у старухи (графини) на положении бедной родственницы. Подобно тому как Лиза помогает Германну проникнуть в дом графини, так же и Лизавета невольно сама «назначает свидание» Раскольникову в подслушанном им разговоре. Таким образом, контекст «Пиковой дамы» задает (пусть и условно) семантику любовных отношений Раскольникова и Лизаветы, которая и реализуется в последующей встрече Раскольникова с Соней.
Далее обращает на себя внимание, что Раскольников в одном из своих внутренних монологов называет Лизавету «бедной»: «Бедная Лизавета! Зачем она тут подвернулась!..» (6; 212). Этот эпитет неоднократно прилагается к Лизавете и в подготовительных материалах, часто в качестве самостоятельной мысли или устойчивого мотива , что делает правдоподобной аналогию Лизаветы с «бедной Лизой» Н.М.Карамзина, которая гибнет по вине своего соблазнителя.
С другой стороны, Раскольников, приоткрывая свое прошлое, рассказывает, что он едва было не женился на… хромоножке . «Она больная такая девочка была <...> совсем хворая; нищим любила подавать, и о монастыре всё мечтала , и раз залилась слезами , когда мне об этом стала говорить; да, да… помню… очень помню. Дурнушка такая… собой. Право, не знаю, за что я к ней тогда привязался, кажется за то, что всегда больная… Будь она еще хромая аль горбатая, я бы, кажется, еще больше ее полюбил…» (6;177). Умершая дочь хозяйки связана общими мотивами, как с Соней, так и с Лизаветой. Раскольников оказывается сюжетно и психологически связан с тремя героинями-жертвами: больной дочерью хозяйки, Соней, Лизаветой, по отношению к которым он выступает, в разных случаях, то как убийца, то как возлюбленный, причем в отношении Сони - главного и связующего звена в данном ассоциативном ряду - в обеих ролях (ср. «Странное, неожиданное ощущение какой-то едкой ненависти к Соне прошло по его сердцу» - 6; 314).
В случае Свидригайлова (как и впоследствии Ставрогина) преступление понимается прежде всего как насилие (как грех еще более страшный, чем убийство, но неразрывно с ним связанный, притом что убийства Свидригайлов тоже совершал). При этом в сознании самого героя постоянно возникает представление о женитьбе на своей жертве, выраженное не прямо, но в различных инвариантах. Уже то, что ему является убитая им Марфа Петровна, внушает мысль, что с убитой жертвой можно продолжать общение как с живой. Невзирая на страсть к Дуне, приведшей Свидригайлова в Петербург, он незамедлительно находит себе здесь малолетнюю невесту. Попутно он интересуется девочкой, которую мать привела на танцевальный вечер, и выступает ее «покровителем». Наконец, перед самоубийством ему снится его жертва, девочка-самоубийца, лежащая в гробу в белом, будто подвенечном, платье .
Утверждение Свидригайлова, что они с Раскольниковым «одного поля ягоды», подтверждается целым рядом мотивов. Из преступных замыслов Раскольникова исключена идея разврата. Однако вспомним эпизод с пьяной девочкой («еще совсем девочкой») на бульваре в начале романа. Франта, преследующего несчастную, Раскольников презрительно называет Раскольниковым «Свидригайловым», чем противопоставляет себя реальному Свидригайлову. Но в следующий миг Раскольников с хохотом предлагает городовому предоставить девочку франту («Пусть позабавится!») с поистине свидригайловским цинизмом. Это - первое сближение героев в романе, показывающее, что между ними действительно имеется «общая точка». Преступления Раскольникова и Свидригайлова также сближены рядом мотивов: «глухонемая» девочка напоминает «косноязычную» Лизавету, постоянно подвергавшуюся насилию и «вечно беременную» .
У своей шестнадцатилетней невесты Свидригайлова поражает «личико вроде Рафаэлевой Мадонны», в то время как у самой Сикстинской Мадонны он видит «лицо фантастическое, лицо скорбной юродивой» (6; 369). В этом образе и метафоре выражаются, как фокусе, чистота, детскость, безвинная скорбь, и болезненная ущербность всех героинь-жертв «Преступления и наказания» (Сони, Лизаветы, дочери хозяйки), а в перспективе - и образа Хромоножки в «Бесах». И Свидригайлов способен прочувствовать эту «фантастическую» красоту страдания, а потому трудно судить, какую мысль подскажет ему его «духовное» сладострастие: хочет ли он погубить беззащитную, по-ставрогински наслаждаясь безобразной противоестественностью брака, или хочет получить в полное обладание свою Мадонну, «чистейшей прелести чистейший образец», чтобы смочь «простить сам себе» (11; 27) вину перед несчастной повешенной? (так можно истолковать его последний сон). Равно как и в случае с Дуней Свидригайлов был одинаково готов преклониться перед ее красотой и надругаться над ней.
Раскольников, в свою очередь, сталкивается с неким подобием Сони и Лизаветы в лице Полечки, в обещании которой «молиться за раба Родиона» герой ощущает прощение себе: «меня целовало сейчас одно существо , которое, если б я и убил кого-нибудь, тоже бы… одним словом, я там видел еще другое одно существо … с огненным пером…» (6; 150). Намечается сюжетная параллель между Поленькой и малолетней невестой Свидригайлова : в словах Раскольникова о поцелуе девочки (и в прямом отождествлении ее с проституткой сестрой) можно уловить эротическую «свидригайловскую» коннотацию. Да и поцелуй ноги Сони, который Раскольников истолковывает возвышенно как поклон «всему человеческому страданию» (стало быть, и Лизавете), несет в себе скрытый эротический смысл: вспомним, как в главе «У Тихона» именно с этого символического жеста начинается соблазнение Ставрогиным девочки. Наконец, в биографии самого писателя этот жест (попытка поцелуя ноги А.Сусловой) имел отчетливо эротический характер. Вот до какой пронзительной амбивалентности может доходить один и тот же мотив у Достоевского, совмещая в себе «идеал содомский» и «идеал Мадонны»!
Разумеется, предполагаемая женитьба Раскольникова на больной дурнушке имеет в «Преступлении и наказании» совершенно другой смысл, нежели желание Свидригайлова жениться на шестнадцатилетней невесте. Странная привязанность Раскольникова должна была свидетельствовать о его чувствительности и способности к любви-жалости (в одном ряду с поцелуем ноги Соне - «поклоном страданию»), в то время как женитьба Свидригайлова - о его извращенности. Впоследствии в «Бесах» тот же сюжетный мотив - намеренная женитьба на «жалком создании» - достигает полного сюжетного развертывания в женитьбе Ставрогина на Хромоножке и становится внутренне амбивалентным - являясь одновременно проявлением духовного разврата и возможностью спасения для героя. Получается, что Ставрогин одновременно совмещает в себе возможности, идейные и сюжетные, - Раскольникова и Свидригайлова. В конечном итоге обнаруживается лишь духовная мертвенность и обреченность Ставрогина, а его судьба повторяет судьбу Свидригайлова.
Интересно, что отмеченные мотивы, позже развитые в «Бесах», в «Преступлении и наказании» даны свернутыми до вставных рассказов (воспоминаний или слухов), то есть вне времени романного действия, и относятся к разным сюжетным линиям. Факт женитьбы Ставрогина на Хромоножке полностью достоверен, но все же отнесен к предыстории романа. Эпизоды с Матрешей и Хромоножкой, хоть они теперь и центральные - опять остаются за рамками романного действия, за кадром.
В «Преступлении и наказании» одна жертва - старуха - имеет демонический лик, а другая - Лизавета - лик детской чистоты. Не совмещаются ли они оба в бесноватости-юродстве Хромоножки - жертвы Ставрогина? За отсутствием подготовительных материалов к «Преступлению и наказанию» мы можем ограничиться только предположениями…
Итак, мы видим, что и «Бесах» и «Преступлении и наказании» воплощается мотив «воссоединения убийцы со своей жертвой». В обоих романах он не проговаривается прямо, но лишь намечается так, что его возможно вычленить благодаря целому ряду деталей. В рамках реалистического метода такой сюжетный мотив не мог быть воплощен (ибо невозможно сближение с уже погибшей жертвой), а потому проводился лишь символически, будучи явленным во сне героя или на ассоциативном уровне, когда черты жертвы получают сразу несколько героинь, становясь тем самым взаимоотражениями одна другой.
Дополнительно его наличие подтверждается подготовительными материалами и сопоставлением мотивных структур романов между собой.
Этот мотив может приобретать чисто христианское звучание в духе идей Достоевского: рай на земле наступит тогда, когда осуществится всеобщее любовное единение и всепрощение и жертва обнимется со своим мучителем (и даже мать затравленного собаками мальчика простит его убийце, как в «Братьях Карамазовых»), но может воплощаться в мистико-фантастических формах (пусть завуалированных) и отзываться в болезненных грезах и преступлениях героев.
Данные примеры (как и параллель Хромоножки с Катериной из «Хозяйки») наглядно демонстрируют сквозное, проходящее сквозь все творчество Достоевского движение мотивов и их развитие. Взаимоотражение героев происходит не только в пределах одного произведения, но и в интертексте творчества Достоевского.
Итак, широта и бесконечная противоречивость человеческого сознания, постулируемые Достоевским на психологическом («психология о двух концах» - 6; 350), и идейном уровнях («широк человек, слишком даже широк…» - 14; 100), на уровне поэтики находит свое проявление в неуловимой многозначности одного и того же мотива, вплоть до того, что один и тот же поступок может быть приобретать значение безграничной силы и опустошенного бессилия (нежелание Ставрогина ответить на пощечину Шатова), соблазна и преклонения (поцелуй ноги Соне). В романах пятикнижия амбивалентность мотивов проявляется в следующих формах: 1) один мотив допускает двойственное истолкование, часто вербализуемое героем или рассказчиком; 2) два мотива созвучны между собой, но противоположны по своему смыслу; 3) мотив переосмысляется (может быть переосмыслен) на ином содержательном уровне (в символическом плане) романа. Сказанное применимо к символическим деталям, жестам, поступкам, сюжетным ходам и образам героев.
Признаться, когда я прочел это письмо, душу охватила некая оторопь: черным по белому было написано, что «более 200 писателей со всего мира призвали власти России отменить законы о и ».
Но еще более поразился, узнав, что среди этих писателей аж 27 Нобелевских лауреатов.
Вот это да!
Значит, весь писательский мир «шагает в ногу» (вместе с некоторыми из российских писателей, тоже подписавшимися под этим письмом) а мы, русские, поддержавшие эти законы, в том числе и писатели, безнадежно отстали и никак не можем понять, что значит быть свободным человеком и что такое свобода творчества.
Когда стал размышлять, посмотрел имена Нобелевских лауреатов из «подписантов», стала несколько яснее позиция писателей, потому что вспомнились некоторые их произведения. Потом вспомнилась и позиция Нобелевского комитета, выдающего премии, особенно в последние годы, не то чтобы странно, но лучше сказать, к удивлению читательской публики. Впрочем, если вспомнить Салтыкова-Щедрина, который писал, что «правительство всегда должно держать народ в удивлении», я несколько успокоился, соотнеся это высказывание нашего великого сатирика с сегодняшним Нобелевским комитетом.
И все же ночью ворочался с боку на бок, не мог заснуть.
И вспомнил девочку Матрешу из романа «Бесы» и ту главу «У Тихона», которая не публиковалась почти сто лет.
Здесь необходимо сделать пояснение обо всем, что связано с этой главой из великого романа, — о чем мне вспомнилось ночью и что я утром записал, уточнив детали.
Про Матрешу я узнал уже зрелым человеком, когда в солидном томе «Литературного наследства» (Издание Института мировой литературы им. Горького) прочел впервые опубликованную главу «У Тихона» из романа «Бесы» Федора Михайловича Достоевского.
В 1872 году Михаил Никифорович Катков, редактор журнала «Русский вестник», где публиковался роман, решительно настоял на том, чтобы эта глава была вычеркнута из текста романа. Аргументация авторитетного литературного критика и публициста была столь категорична, что даже умевший блистательно вести полемику Федор Михайлович был вынужден сдаться.
Катков говорил писателю, что все в этой главе безнравственно, описаны мерзкие поступки и выносить их на свет Божий ни в коем случае нельзя, пусть даже герой признается в том, что он поступил как негодяй.
Проходит почти сто лет, и глава о девочке Матреше наконец-то предстала перед читателями — да и то лишь перед теми, кто всерьез изучал творчество великого русского писателя.
Я в то время, в семидесятые годы прошлого века, решился написать повесть о последних днях жизни Федора Михайловича. Потому что узнал поразительную подробность жизни и смерти писателя: оказывается, в ночь с 26 на 27 января 1881 года, когда у него горлом пошла кровь, в соседней квартире, за стеной кабинета, где работал именно по ночам Федор Михайлович, была устроена засада и арестован некто Александр Баранников, один из руководителей «Народной воли» — организации, которая готовила покушение на императора Александра Второго. Федор Михайлович не мог не слышать, как «брали» Баранникова и его друзей: ночью все звуки во сто крат громче. Значит, кровь пошла горлом не столько потому, что он доставал из-под этажерки упавшую ручку, как написала в «Воспоминаниях» его жена Анна Григорьевна, а скорее потому, что он знал красавца-революционера, с которым не раз сталкивался на лестнице дома или во дворе, около него. Поразительно, но по этой же лестнице поднимался в квартиру к Федору Михайловичу и обер-прокурор Священного Синода Константин Петрович Победоносцев, жизнь посвятивший именно борьбе с такими людьми, как Баранников и ему подобные.
Изучая подробности и обстоятельства малоизвестного даже литературоведам факта, который так ярко проливал свет на жизнь любимого писателя, в квартиру которого буквально ломилась страшная правда действительности, я узнал, что Баранников был молод, красив, умен — ну прямо Ставрогин из романа «Бесы»! (Об этом и написал в повести «Я жажду»).
И вот я прочел в очередном томе фундаментального «Литературного наследства», предназначенного в основном для специалистов, изучающих литературу, главу «У Тихона» — ту самую, исключенную Катковым, которая, по сути, является краеугольным камнем, объясняющим и замысел романа «Бесы», и главную подробность характера центрального персонажа романа — Ставрогина.
Впечатление от прочитанного было такое, что я, потрясенный, чувствовал себя так, как будто только что сам побывал в той комнате, где произошло страшное событие. Будто я воочию увидел, как к человеку по фамилии Ставрогин, наделенному не только изумительной по красоте внешностью, физической силой, но и умом и талантами, но одновременно столь же впечатляющими пороками, вышла навстречу девочка лет двенадцати — четырнадцати. До того она лежала на кровати в лихорадке, исхудавшая, с розовыми пятнами на щеках, с заострившимся носом, догорающая, как тонкая церковная свечка.
И вот она встала с кровати, подошла к распахнутой двери в комнату, которую нанимал ее мучитель, уже несколько дней наблюдавший, как умирает его жертва.
«Она глядела на меня молча. В эти четыре или пять дней, в которые я с того времени ни разу не видал ее близко, действительно очень похудела. Лицо ее как бы высохло, и голова, наверно, была горяча. Глаза стали большие и глядели на меня неподвижно, как бы с тупым любопытством, как мне показалось сначала. Я сидел в углу дивана, смотрел на нее и не трогался. И тут вдруг опять я почувствовал ненависть. Но очень скоро заметил, что она совсем меня не пугается, а, может быть, скорее в бреду. Но она и в бреду не была. Она вдруг часто закивала на меня головой, как кивают, когда очень укоряют, и вдруг подняла на меня свой маленький кулачок и начала грозить им мне с места. Первое мгновение мне это движение показалось смешным, но дальше я не мог его вынести: я встал и подвинулся к ней. На ее лице было такое отчаяние, которое невозможно было видеть в лице ребенка. Она всё махала на меня своим кулачонком с угрозой и всё кивала, укоряя».
Так пишет как бы не сам Достоевский, а Николай Ставрогин в исповедальных листках, с которыми он приходит к старцу Тихону. Этот прием «отстранения», дающий возможность говорить от лица самого персонажа, а вроде бы не писателя, используется Достоевским для того, чтобы читатель сам присутствовал при событии, которое он описывает.
По крайней мере, именно так со мной и произошло.
Увидел я, как ради забавы или иного чувства, когда «человеку все позволено, если Бога нет», Ставрогин зашел в комнату, где Матреша была одна. Как подошел к ней, начал ласкать, как бы играть, преодолел испуг девочки и совратил ее.
После случившегося Ставрогин испытал нешуточный страх, понимая, что ему грозит каторга, если Матреша расскажет, что произошло. Но она молчит, заболевает, истаивает в лихорадке. А тут еще выручает Ставрогина пришедшая кстати гувернантка его любовницы. И с гувернанткой у него тоже амуры. И хотя она ему безразлична, все же «недурна», и потому Николай Всеволодович закрывает двери и тотчас забывает и о своих страхах, и о Матреше.
Многочисленные исследователи творчества Достоевского в один голос пишут о его удивительном умении проникнуть в психологию своих героев, дающем возможность создания глубоких и сложных характеров людей, которые населяют его произведения. Много пишут, в особенности в последнее время, о его пророчествах — особенно когда речь заходит о романе «Бесы».
Да, это действительно так: создание «пятерок», которые показаны в «Бесах», бессмысленные и жестокие убийства, кровью связывающие «подпольщиков», на полстолетия вперед предсказали результаты, которые декларировали «борцы за счастье народа». «Сто миллионов голов», которые не жалко, а даже необходимо снести ради «светлого будущего», как декларирует в романе некто Шигалев, действительно были снесены после октября 1917 года.
И , подобные Петруше Верховенскому, способные взбаламутить не только губернский город, как показано в романе, но и целые страны, тоже есть, тоже реальны, и их появление поразительно точно предсказано Достоевским.
Но со времен Михаила Никифоровича Каткова и по сей день как-то вскользь говорится о главном преступлении главного персонажа романа — а именно о том, что Ставрогин написал «в листках», с которыми пришел к старцу Тихону.
А между тем это и есть основная глава, тот фундамент, на котором и построен великий роман.
Что же хотел показать Достоевский, делая героем человека, у которого прекрасные черты лица вдруг превращаются в маску, а благородные порывы — в преступления? Уж не порождение ли сатаны явилось перед читателем?
Современники вынесли Федору Михайловичу чудовищный приговор: автор помешался, вошел в сумасшедший дом и не вышел оттуда. Персонажей он выдумал, таких на самом деле нет.
Как писатель он закончился, можно поставить на нем крест.
Современники наши пишут о «Бесах» как о романе гениальном, пророческом. В полном собрании сочинений опубликована наконец и глава «У Тихона».
Но опять происходит та же, что и раньше, «фигура умолчания» о Православии писателя, его пламенной вере, которая помогла ему, не страшась, броситься в страшную бездну. Броситься и не разбиться, а выйти победителем и когда писался роман, и теперь, когда каждый может прочесть главу «У Тихона» и увидеть худенький кулачок, которым умирающая девочка Матреша грозит своему убийце.
Да, написать такую главу под силу только гению, только православному человеку.
Таким гением оказался русский писатель Федор Михайлович Достоевский.
Но о каких же преступлениях, человеческих уродствах пишут сегодняшние Нобелевские лауреаты, «подписанты», призывающие отменить «драконовские законы», которые у нас приняты в последние полтора года?
Вот, к примеру, Эльфрида Елинек — австрийская романистка, драматург, поэт и литературный критик. Наиболее читаемые и экранизированные ее романы — «Пианистка» и «Любовницы». Главная героиня «Пианистки» наделена всеми мыслимыми и немыслимыми , какие, вероятно, писательница знает по «секспросвету», столь широко насаждаемому в благополучных европейских странах с младенческих лет.
Но в то же время героиня — тонкий знаток музыки, преподаватель консерватории. То есть автор нам доказывает, что порок неразрывно соединен с талантом, с музыкой в данном случае. Извращения не просто названы, даны «опосредованно», как у Достоевского. Нет, они подробно описаны, подробно воспроизведены и на экране в фильме режиссера Ханеке, за который он удостоен «Золотой пальмовой ветви» на кинофестивале в Каннах.
Во время демонстрации этого фильма в Каннах многие зрители и даже критики не выдерживали, выбегали из зала от приступа рвоты.
И роман, и фильм профессионально сделаны на высоком уровне. И тем ужаснее смысл и литературы, и кино, воспевающих порок, отчетливо говорящих, что от темного, ужасного человеку никуда не деться.
Выход один — пустить себе пулю в лоб, как это делает героиня «Пианистки».
Я потому остановился на этом произведении, что оно отчетливо показывает, в каком направлении сегодня движутся литература и искусство Европы, США, какие произведения удостаиваются высших наград некогда самыми авторитетными жюри и комитетами.
Изо всех сил поддерживается сексуальная извращенность, а нравственное падение выдается за норму, насаждается и ограждается законом.
Народ может протестовать, как во Франции, но все равно закон об однополых браках принят в этой стране. То есть самое отвратительное, гнусное мужеложество объявлено нормой.
«А что вы хотите, — вразумляют нас, — природа именно так создала некоторые личности, так не мешайте им жить, как они хотят».
Да, действительно бывают подобные отклонения. Но ведь таких людей общество избегало, даже изолировало. Да и они сами прятали свою извращенность, обуздывали свои страстишки, зная, что у нас в России, например, издревле этих людей называли презрительно — не буду произносить это слово вслух.
Сейчас же подавай им «парады» — они стали законодателями мод — то есть норм жизни.
Давно замечено, что романы Достоевского как бы вдруг становятся поразительно актуальными.
То юноша, мечтающий стать Ротшильдом, оказывается суперсовременным («Подросток»); то явится очередной Родя Раскольников, считающий, что убить старуху с деньгами очень даже правильно, ибо она «гнида», а он может и должен стать Наполеоном.
Но вот почему-то никто не говорит о новых Ставрогиных, о тех людях, которые сегодня для забавы своей растлевают и убивают детей.
В последние время, в прошлом году особенно, так часто стали говорить об извращенцах, которые подняли головы не только в «просвещенной Европе», но и у нас в стране, что мне невольно вспомнился Ставрогин, вспомнилась и Матреша и все, что связано с «Бесами».
Ибо Ставрогин, начавший как вдохновенный носитель национальных, революционных идей, покоривший ими тех, кто пошел за ним (это поразительные по художественной силе персонажи — Шатов, Кириллов), постепенно превращается не только в бездельника, прожигающего жизнь. Он бросается в авантюры (надо проверить силу воли!), которые возбуждают, щекочут нервы, дух захватывают — «вброс адреналина» — так говорят сегодня!
И банальное распутство прямо приводит в такую вот комнату, описанную в «Бесах», где с матерью живет девочка Матреша.
Нам усиленно втолковывают, в том числе и наши доморощенные либералы, что человек свободен, что у него есть право выбора: хочет, например, мужчина жить с мужчиной - это его право. Женщина хочет жить с женщиной — и это нормально. Хотят они зарегистрировать свои браки — не смейте им мешать, примем закон, разрешим им делать то, что они хотят.
«Права человека»!
Они превыше всего!
А то, что подобные отношения являются подлыми, преступными, — этого не смейте говорить, это ваша ретроградская мораль. И то, что Церковь на вашей стороне, — так потому, что и Церковь ретроградская, безнадежно отставшая от современной жизни.
В просвещенных и благополучных скандинавских странах, например, половое бессилие наступает у многих юношей в 17-18 лет — это стало почти закономерностью, в чем они вынуждены признаться даже уже открыто. Потому что так называемое «половое воспитание» начинается у них с младенчества. И получается, что от естественных половых отношений, в которых проявляется полнота любви, путь к извращениям, к насилию детей — очень короткое расстояние.
Сегодня пресса Соединенных Штатов, да и всего Запада, ошарашена письмом приемной дочери широко известного кинорежиссера Вуди Аллена. Девушка открыто заявила, что подвергалась сексуальному насилию со стороны приемного отца с детских лет. Теперь режиссер живет с другой приемной дочерью, на этот раз женившись на девушке, которая достигла совершеннолетия. Между тем кинорежиссеру скоро 80 лет.
А ведь Аллен номинирован на «Оскара» как раз в этом году. Я нисколько не удивлюсь, если киноакадемики Америки объявят Аллена победителем, а письмо приемной дочери объявят фальшивкой.
Привожу этот пример для того, чтобы мы поняли, кто «вразумляет» нас, учит «свободе», «цивилизованному» образу жизни.
Однако, по моему мнению, есть писатели, которые подписали письмо, не разобравшись, кто такие «Пуси», устроившие оргию в главном храме нашего Отечества и по заслугам получившие наказание. Вполне возможно, что они оказались одурачены той лавиной злобной дезинформации, которая появляется на страницах даже солидных западных изданий. Ну откуда нигерийскому писателю Воле Шойинка, например, знать о том, что извращенки, выдающие себя за артистов, богохульствовали, а не выступали с «акцией протеста», как пишет западная пресса? Скорее всего, просто прочел, что написано в СМИ теми авторами, что стоят «за свободу самовыражения», и подписал письмо, раз к нему обратились.
Но вот Салману Ружди, автору романа «Сатанинские стихи», Нобелевскому лауреату, хорошо известно, как поступают с теми, кто заходит в мечеть, даже громко говоря и не сняв обуви. Что же он поддерживает кривляк, бесчинствующих на амвоне в нашем главном храме?
«Драконовский», как они называют принятый Думой закон о защите чувств верующих, как раз и направлен против «ставрогинских» страстей.
Замечу, что повернулся к нам суперактуальностью роман Федора Михайловича» «Бесы» неожиданной гранью, которая засверкала, как лезвие бритвы.
И со всею силою вновь встал вопрос о том, надо ли литературе, искусству обращаться к столь острой проблематике.
Да, с моей точки зрения, надо — если у писателя, режиссера, актера есть сила трагического таланта, которую явил всему миру Федор Михайлович Достоевский.
Да, надо — если вера твоя крепка, если ты твердо веришь в силу и правду Христа.
Сердце писателя на всю жизнь было обожжено и не разорвалось именно благодаря вере Православной.
Потому он молился не только на каторге, не только в солдатчине.
К вере он был обращен с детства. Да, на какое-то время забывал Христа, но неизменно возвращался к Нему.
Не все, кто любит творчество Достоевского, знают, что он был потрясен одним страшным преступлением, свидетелем которого стал девяти лет от роду.
На его глазах умирала девочка, изнасилованная мерзавцем. Девочка истекала кровью, и отец Феди, врач, не смог спасти истерзанного ребенка.
Это впечатление на всю жизнь осталось в сердце писателя.
Может быть, поэтому он с такой бесстрашностью бросился описывать самое низкое падение Ставрогина, чтобы всему миру показать худенький кулачок девочки Матреши.
Думаю, что только вера помогла ему выдержать и то, что он описывал, и то, с каким мужеством пережил ругань и даже неприличную брань современников в адрес своего романа и себя — как гражданина и как писателя.
В последний год жизни Федор Михайлович отмечал в своих «Записных тетрадях»:
«Мерзавцы дразнили меня необразованною и ретроградною верою в Бога. Этим олухам и не снилось такой силы отрицания Бога, какое положено в Инквизиторе и в предшествовавшей главе, которому ответом служит весь роман. Не как дурак же (фанатик) я верую в Бога. И эти хотели меня учить и смеялись над моим неразвитием! Да их глупой природе и не снилось такой силы отрицания, которое прошел я. Им ли меня учить!»
Он ссылается на свою главу о «Великом инквизиторе» в романе «Братья Карамазовы».
Да, сила его таланта, конечно же, держалась на силе веры.
И потому сквозь время, через просторы, океаны и горные хребты видят кулачок Матреши и в Америке, и в Европе, и в Азии — во всех странах, ибо его романы переведены почти на все языки.
Видят худенький кулачок , который грозит всем мерзавцам мира.
А Ставрогин, «гражданин швейцарского кантона Ури», повесится на чердаке своего именья именно потому, что кулачок Матреши оказался грозным, сильнее, казалось бы, непобедимой сатанинской силы.