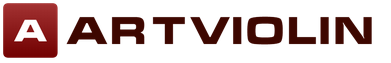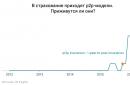Литературная критика № 49
Алла Новикова-Строганова
Алла Анатольевна Новикова-Строганова - доктор филологических наук, член Союза писателей России, публиковалась в нашем журнале в № , и
К вечному торжеству добра (в год 205-летия Чарльза Диккенса)
Великий английский романист Чарльз Диккенс (1812-1870), которому 7 февраля 2017 г. исполнилось бы 205 лет, - наиболее родственный по духу русской классике зарубежный писатель.
В России Диккенс стал известен уже с появления первых переводов в 1830-е годы, в «гоголевский период» развития русской литературы. Отечественная критика сразу обратила внимание на общность художественной манеры Н.В. Гоголя и Диккенса. Критик журнала «Москвитянин» С.П. Шевырёв, подчеркнув в английском авторе «талант свежий и национальный», одним из первых заметил, что «Диккенс имеет много сходства с Гоголем» . Близкое родство талантов отразилось и в таких определениях христианского богослова, славянофила А.С. Хомякова: «Два родных брата», «Диккенс, меньшой брат нашего Гоголя» .
Деятельная и могучая вера в Бога, умение видеть то, чего, как говорил Гоголь, «не зрят равнодушные очи», сближали Диккенса с русскими классиками. «Великим христианином» называл английского романиста великий русский писатель-христианин Ф.М. Достоевский. В «Дневнике писателя» (1873) он подчёркивал: «Между тем мы на русском языке понимаем Диккенса, я уверен, почти так же, как и англичане, даже, может быть, со всеми оттенками; даже, может быть, любим его не меньше его соотечественников. А, однако, как типичен, своеобразен и национален Диккенс!» . Достоевский признавал благотворное влияние, которое оказывало на него диккенсовское творчество: «Никто меня так не успокаивает и не радует, как этот мировой писатель» .
Л.Н. Толстой ценил Диккенса как писателя безошибочного нравственного чутья. Н.С. Лесков, шедший в литературе своим самобытным путём «против течений», также высоко оценивал «английского писателя с именем, с которым очень приятно ставить своё имя» , узнавал в нём родственную душу, был увлечён его творчеством. Русские писатели были внимательными читателями и знатоками произведений Диккенса, видели в нём своего союзника.
В.Г. Короленко в очерке «Моё первое знакомство с Диккенсом» (1912) описал потрясение и восторг, испытанные в отрочестве от прочтения романа «Домби и сын» (1848). С.М. Соловьёв - племянник религиозного философа и поэта Вл. Соловьёва, внук историка С.М. Соловьёва - создал цикл стихотворений, навеянных сюжетами и образами романа «Дэвид Копперфилд» (1850). Даже в художественном сознании всенародно любимого певца русской деревни, русской природы, русской души Сергея Есенина неожиданно оживает образ главного героя романа «Оливер Твист» (1839):
Мне вспомнилась печальная история -
История об Оливере Твисте. («Русь бесприютная», 1924)
Примеры цитат, реминисценций, ассоциаций с Диккенсом в русской литературе можно продолжить.
Среди произведений английского романиста, которые оказывали глубокое духовное воздействие, облагораживали ум и чувства, призывали к торжеству справедливости, особенно полюбились в России «Рождественские повести» (1843-1848), благодаря которым их автор был признан классиком святочной литературы. Диккенс создал образ поющего Рождества, воспел святочную радость, победу над силами зла.
Показательна история восприятия этих повестей русскими читателями. Ещё в 1845 году литературная критика отметила диккенсовский рождественский цикл среди так называемой массовой святочной литературы: «К нынешним Святкам неутомимый Диккенс опять написал повесть Имя Диккенса ручается уже за достоинство ея, и её действительно никак нельзя смешивать с остальною кучею изданий, которые родятся к празднику и умирают с праздником» . Журнал «Современник» писал в 1849 году о Диккенсе: «Он как будто пожелал быть ещё более народным, ещё более моральным, лет пять тому назад начал ряд народных сказок, избрав эпохой их появления Святки, самый народный праздник в Англии» . Лесков также выделил «Рождественские повести» из всего обширного круга святочной литературы: «они, конечно, прекрасны»; признал их «перлом создания» .
Диккенс в совершенстве овладел тайной эстетического воспроизведения самого духа празднования Рождества Христова, которому сопутствует особенная, одухотворённо-приподнятая, ликующая атмосфера. Г.К. Честертон - автор одной из лучших книг о Диккенсе - увидел суть праздника Рождества «в соединении веры и веселья с земной, материальной стороны в нём больше уюта, чем блеска; со стороны духовной - больше милосердия, чем экстаза» . Ещё в Апостольских Постановлениях (Кн. V, гл. 12) сказано: «Храните, братия, дни праздничные, и, во-первых, день Рождества Христова». Следует отложить все житейские заботы и попечения, всецело посвятить себя празднику. Молитвенное настроение сочетается в этот святой день и с беззаботным весельем, и с размышлениями о великом событии Священной истории, и со служением тем душеспасительным истинам, которым учит людей Рождество.
Святочная словесность в других странах, в том числе и в России, формировалась и существовала до Диккенса, отличаясь национально своеобразным колоритом, стилистикой, деталями и т.д. До диккенсовского рождественского цикла создал свою дивную «Ночь перед Рождеством» (1831) Гоголь. И всё же художественный опыт английского классика повлиял на дальнейшее развитие святочной литературы: в одних случаях вызвал целый шквал ученических подражаний, в других - был освоен и преобразован творчески. Во многом именно от диккенсовской традиции отталкивался Лесков, вступая с мэтром рождественской беллетристики в творческое состязание, создавая свой цикл «Святочные рассказы» (1886).
В цикле повестей Диккенса «Рождественская песнь в прозе» (1843) и «Колокола» (1844) признавались наиболее значительными с точки зрения их социально-критического, обличительного пафоса, направленного против жестокости и несправедливости, в защиту угнетённых и обездоленных.
Следующие три повести: «Сверчок за очагом» (1845), «Битва жизни» (1846), «Одержимый, или Сделка с призраком» (1848) - написаны более в камерной, «домашней» тональности.
Литературный критик-почвенник Аполлон Григорьев, сопоставляя Диккенса с Гоголем, указывал на «узость» идеалов английского романиста: «Диккенс так же, пожалуй, исполнен любви, как Гоголь, но его идеалы правды, красоты и добра чрезвычайно узки, и его жизненное примирение, по крайней мере, для нас, русских, довольно неудовлетворительно» . Но тот же Григорьев, которого не подводят художественное чутьё и литературный вкус, восторженно отозвался о повести «Сверчок за очагом»: «действительно прекрасное, доброе и благородное произведение высокоталантливого Чарлса Диккенса “Домашний сверчок” - это светлая, поэтическая идиллия со своей милой прихотливостью фантазии, со своим вполне человеческим взглядом на вещи, со своим юмором, трогающим до слёз» .
О доброй силе воздействия образов этой повести на зрителя к 200-й постановке «Сверчка за очагом» на сцене студии Художественного театра ровно 100 лет назад было написано стихотворение «Сверчок 200-й, 1917» .
Вряд ли уместно подразделять «Рождественские повести» Диккенса на «социальные» и «домашние». Все они обладают идейно-художественной целостностью, обусловленной единством проблематики, общей для всех повестей атмосферой и главное - авторским замыслом, согласно которому писатель рассматривал свой цикл как «рождественскую миссию». Уильям Теккерей справедливо назвал Диккенса «человеком, которому святым Провидением назначено наставлять своих братьев на путь истинный» .
Начиная с 1843 года Диккенс ежегодно выпускал по одной рождественской повести. Став редактором журнала «Домашнее чтение», он включал в каждый рождественский номер специально написанный рассказ. Писатель был к тому же превосходным актёром и устраивал серию чтений своих «Рождественских повестей», заставляя слушателей то ликовать от восторга, то заливаться слезами от жалости. Так начался его «великий поход в защиту Рождества». Верность ему Диккенс пронёс через весь свой творческий путь.
Рождественская тематика присутствует уже в самом первом художественном творении Диккенса - «Очерки Боза» (1834), где есть глава «Рождественский обед». «Посмертные записки Пиквикского клуба» (1836-1837), выходившие как серийное издание, прославили молодого автора настолько, что «к осени 1836 года Пиквик пользовался в Англии большей известностью, чем премьер-министр» . И если современные захватывающие сериалы - в лучшем случае короткие антракты среди забот повседневной жизни, то в дни, когда выходил «Пиквик», люди «считали антрактом жизнь между очередными выпусками» .
В «Посмертных записках Пиквикского клуба» Диккенс снова затронул тему «благодатных святок». В 28-й «Весёлой рождественской главе...» показан праздник в Дингли Делл с изобильным застольем, танцами, играми, пением рождественского гимна и даже со свадьбой (святочная обрядность у многих народов тесно связана со свадебной), а также с непременным рассказыванием святочной истории о привидениях, которая вплетена в художественную ткань как рассказ в рассказе. В то же время повествование, на первый взгляд - весёлое и беззаботное, метафизически углубляется, уходит корнями в Священное Писание.
В цикле «Рождественских повестей» писатель уже был готов не только к красочному изображению любимого праздника. Диккенс последовательно излагает религиозно-нравственные задачи преобразования человека и общества; идеологию, которую он назвал «рождественской». Евангельская идея единения и сплочения во Христе - фундамент этой «рождественской идеологии», заложенный в упомянутой главе «Записок Пиквикского клуба»: «много есть сердец, которым Рождество приносит краткие часы счастья и веселья. Сколько семейств, члены коих рассеяны и разбросаны повсюду в неустанной борьбе за жизнь, снова встречаются тогда и соединяются в том счастливом содружестве и доброжелательстве» . В «Весёлой рождественской главе» диссонансом к её названию и общей радостной тональности вдруг начинают звучать печальные ноты, неожиданно возникает тема смерти: «Многие сердца, что трепетали тогда так радостно, перестали биться; многие взоры, что сверкали тогда так ярко, перестали сиять; руки, что мы пожимали, стали холодными; глаза, в которые мы глядели, скрыли свой блеск в могиле...» (2, 451). Однако в этих раздумьях заключён рождественский и пасхальный пафос преодоления смерти и христианское чаяние жизни вечной. Рождество Спасителя даёт благодатную возможность живущим сплотиться, а с ушедшими соединиться в памяти. Так что с полным основанием Диккенс может воскликнуть: «Счастливые, счастливые Святки, которые могут вернуть нам иллюзии наших детских дней, воскресить для старика утехи его юности и перенести моряка и путешественника, отделённого многими тысячами миль, к его родному очагу и мирному дому!» (2, 452).
Этот образ подхватывается и углубляется в первой повести рождественского цикла. Здесь автор раздвигает узкие рамки «уютной запертой рождественской комнатки», и мотив сплочения, преодолевая узкосемейный, домашний характер, становится универсальным, приобретает вселенское звучание. «Рождественская песнь в прозе» содержит символический образ корабля, который под завывание ветра несётся «вперёд во мраке, скользя над бездонной пропастью, столь же неизведанной и таинственной, как сама смерть» (12, 67). Жизнь человеческая, подобно этому кораблю, ненадёжна, но надежда на спасение, уверен писатель, - в человеческом единении на основе любви по Христовой заповеди «возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 22: 39). Рождество Христово более других праздников призвано напомнить людям, сколь бы различными они ни казались, об их общей человеческой природе: «И каждый, кто был на корабле, - спящий или бодрствующий, добрый или злой, - нашёл в этот день самые тёплые слова для тех, кто был возле, и вспомнил тех, кто и вдали ему был дорог, и порадовался, зная, что им тоже отрадно вспоминать о нём» (12, 67).
Существо «рождественской идеологии» Диккенса составили важнейшие новозаветные идеи: покаяние, искупление, духовно-нравственное возрождение через милосердие и деятельное добро. На этой основе строит писатель свою возвышенную апологию Рождества: «Это радостные дни - дни милосердия, доброты, всепрощения. Это единственные дни во всём календаре, когда люди, словно по молчаливому согласию, свободно раскрывают друг другу сердца и видят в своих ближних, - даже неимущих и обездоленных, - таких же людей, как они сами, бредущих одной с ними дорогой к могиле, а не каких-то существ иной породы, которым подобает идти другим путём» (12, 11).
В «Рождественских повестях» сама атмосфера намного важнее сюжета. Например, «Рождественская песнь в прозе», по замечанию Честертона, «поёт от начала до конца, как поёт счастливый человек по дороге домой Поистине это - рождественская песнь и ничто другое» .
Словно песенка, звучит «сказка о семейном счастье» «Сверчок за очагом». Сюжет развивается под мирную мелодию песенок чайника и сверчка, и даже главы называются «Песенка первая», «Песенка вторая»...
А повесть «Колокола» - это уже не «песенка» и даже не «рождественская песнь», но «рождественский боевой гимн. Нигде не обнаруживал Диккенс столько гнева, ярости и презрения» к власть имущим изуверам, угнетателям народа, обрекающим простых людей на голод, нищету, болезни, невежество, бесправие, нравственное вырождение, физическое вымирание. Писатель рисует картины такой «предельной безнадёжности, такого жалкого позора» (12, 167-168) и отчаяния, что читатель будто слышит скорбное заупокойное пение: «Дух твоей дочери, - сказал колокол, - оплакивает мёртвых и общается с мёртвыми - мёртвыми надеждами, мёртвыми мечтами, мёртвыми грёзами юности» (12, 156).
Диккенс не просто жалел народ и боролся за него. Писатель горячо выступал в защиту народа, потому что сам был неотделимой его частью, «не просто любил народ, в этих делах он сам был народом» .
Диккенс словно бьёт в набат, призывно звонит во все колокола. Повесть венчает открытое авторское слово. Верный своей «рождественской миссии», Диккенс обращается к читателю с пламенной проповедью, стремясь донести её до сердца каждого человека - того, «кто слушал его и всегда оставался ему дорог» (12, 192): «старайся исправить её, улучшить и смягчить. Так пусть же Новый год принесёт тебе счастье, тебе и многим другим, чьё счастье ты можешь составить. Пусть каждый Новый год будет счастливее старого, и все наши братья и сёстры, даже самые смиренные, получат по праву свою долю тех благ, которую определил им Создатель» (12, 192). Колокол - «Духов церковных часов» - повелительно и настойчиво призывает человечество к совершенствованию: «Голос времени, - сказал Дух, - взывает к человеку: “Иди вперёд!” Время хочет, чтобы он шёл вперёд и совершенствовался; хочет для него больше человеческого достоинства, больше счастья, лучшей жизни; хочет, чтобы он продвигался к цели, которую оно знает и видит, которая была поставлена, когда только началось время и начался человек» (12, 154).
Такое же священное убеждение воодушевляло русских писателей. Та же, что и у Диккенса, горячая вера в конечное торжество добра и правды отразилась в одной из ранних статей Лескова «С Новым годом!»: «Взгляните на мир - мир идёт вперёд; взгляните на нашу Русь - и наша Русь идёт вперёд Не приходите в отчаяние от тех сил и бедствий, которые ещё преследуют человечество даже в самых передовых странах мира; не пугайтесь, что ещё далеко не одни нравственные законы правят миром и что произвол и насилие нередко и во многом преобладают в нём рано или поздно кончится торжеством нравственных, благих начал» .
Мысль, с таким пафосом высказанная «великим христианином» Диккенсом, в начале ХХ века с новой силой зазвучала у Чехова: «Теперешняя культура - это начало работы во имя великого будущего, работы, которая будет продолжаться, может быть, ещё десятки тысяч лет, для того чтобы хотя в далёком будущем человечество познало истину настоящего Бога...» .
Диккенс не считал себя обязанным выполнять чью бы то ни было волю, кроме воли Божьей. В марте 1870 года - последнего в жизни писателя - состоялась его встреча с королевой Викторией, которая намеревалась пожаловать прославленному романисту титул баронета. Однако Диккенс заранее отверг все толки о том, что согласится «прицепить к своему имени побрякушку»: «Вы, без сомнения, уже читали, что я будто бы готов стать тем, кем пожелает меня сделать королева, - замечал он в одном из писем. - Но если моё слово что-либо значит для Вас, поверьте, что я не собираюсь быть никем, кроме самого себя» . По утверждению Честертона, сам Диккенс ещё при жизни был признан «королём, которого можно предать, но свергнуть уже нельзя».
В начале 1840-х годов Диккенс сформулировал своё credo: «Я верю и намерен внушить людям веру в то, что на свете существует прекрасное; верю, невзирая на полное вырождение общества, нуждами которого пренебрегают и состояние которого, на первый взгляд, не охарактеризуешь иначе, чем страшной и внушающей ужас перифразой Писания: “Сказал Господь: да будет свет, и не было ничего”» . Эта «вера в прекрасное», несмотря на «полное вырождение общества», питала проповеднический энтузиазм английского автора.
Столь же неустанным в своей «художественной проповеди» был в России Лесков. В сюжете его раннего романа «Обойдённые» (1865) воспроизводится нравственная коллизия рождественской повести Диккенса «Битва жизни». В развёрнутой метафоре английский писатель представил жизнь человеческую как нескончаемое сражение: «в этой “битве жизни” противники сражаются очень яростно и очень ожесточённо. То и дело рубят, режут и попирают друг друга ногами. Прескверное занятие» (12, 314). Однако Диккенс вместе со своим героем Элфредом - рупором авторских идей - убеждён, что «бывают в битве жизни бесшумные победы и схватки, встречаются великое самопожертвование и благородное геройствоЭти подвиги совершаются каждый день в глухих углах и закоулках, в скромных домиках и в сердцах мужчин и женщин; и любой из таких подвигов мог бы примирить с жизнью самого сурового человека и внушить ему веру и надежду» (12, 314).
Зримые и незримые «битвы жизни» показал Диккенс в историческом романе «Повесть о двух городах» (1859), изобразив Лондон и Париж в грозную эпоху французской революции конца XVIII века, залившей страну реками крови.
«Великое самопожертвование и благородное геройство» во имя любви проявил Сидни Картон, добровольно взошедший на гильотину вместо приговорённого к казни мужа Люси, в которую Картон был безответно влюблён.
«Я так остро пережил и перечувствовал всё то, что выстрадано и пережито на этих страницах, как если бы я действительно испытал это сам», - признавался Диккенс в предисловии к роману.
Основная идея повести «Битва жизни» и романа «Повесть о двух городах» - евангельская: «Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой» (12, 318-319).
В согласии с новозаветной заповедью: «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними» (Лк. 6: 31) - внёс и Лесков в свою записную книжку следующую запись: «Всё, что желаете, чтобы делали для вас люди, то делайте им» .
«Семейными писателями» назвал академик Д.С. Лихачёв Диккенса и Лескова: «Лесков как бы “русский Диккенс”. Не потому что он похож на Диккенса вообще, в манере своего письма, а потому, что оба - и Диккенс, и Лесков - “семейные писатели” , которых читали в семье, обсуждали всей семьёй, писатели, которые имеют огромное значение для нравственного формирования человека» .
Лесков призывал созидать, «беречь свою семью не только от дурных мыслей и намерений, привносимых в неё пустомысленными друзьями, но и от собственного нашего суемыслия, порождающего хаос в понятиях всех чад и домочадцев» .
Будучи главой большого семейства, в котором росли десять детей, Диккенс задумал сплотить в единую обширную семью своих читателей. В обращении к ним в диккенсовском еженедельнике «Домашнее чтение» были такие слова: «Мы смиренно мечтаем о том, чтобы обрести доступ к домашнему очагу наших читателей, быть приобщёнными к их домашнему кругу». Атмосфера «семейной поэзии» художественного мира Диккенса имеет особое очарование. Критик журнала «Современник» А.И. Кронеберг в статье «Святочные рассказы Диккенса» верно отметил: «Основной тон всего рассказа - непереводимый английский home» .
Говоря о доме, писатель всегда использует превосходную степень: «самый счастливый дом»; его обитатели - «самый лучший, самый внимательный, самый любящий из всех мужей на свете», его «маленькая жёнушка» и домашний сверчок как символ семейного благополучия: «Когда за очагом заведётся сверчок, это самая хорошая примета!» (12, 206). Открытый огонь домашнего очага - «алое сердце дома» - выступает в рождественской повести прообразом «материального и духовного Солнца», Христа.
Дом, семья у Диккенса становятся священным местом, вмещают целую Вселенную: потолок - это свои «родные домашние небеса» (12, 198), по которым плывут облачка от дыхания чайника; очаг - «алтарь», дом - «храм». Добрый свет очага украшает незамысловатый быт простых тружеников, преображает самих героев. Так, Джон уверен, что «хозяюшка сверчка» - «сама для него сверчок, который приносит ему счастье» (12, 206). В итоге выходит, что не сверчок, и не феи, и не призраки огня, а сами они - Джон и Мэри - главные хранители своего семейного благополучия.
«Мы радуемся теплу, - писал Честертон о повести, - исходящему от неё, как от горящих поленьев» . Рождественский дух повестей Диккенса (даже самой «домашней» из них) не умилительно-примиряющий, но активный, даже в каком-то смысле наступательный. В самом идеале уюта, воспеваемого Диккенсом, различима, по выражению Честертона, «вызывающая, почти воинственная нота - он связан с защитой: дом осадили град и снег, пир идёт в крепости дом как снабжённое всем необходимым и укреплённое убежище Ощущение это особенно сильно в ненастную зимнюю ночь... Отсюда следует, что уют - отвлечённое понятие, принцип» . Чудо и благодать разлиты в самой атмосфере этих рождественских историй: «Очаг истинной радости освещает и согревает всех героев, и очаг этот - сердце Диккенса» . В его книгах постоянно ощущается живое присутствие автора: «я мысленно стою у вас за плечом, мой читатель» (12, 31). Диккенс умеет создать неповторимую обстановку дружеского общения, доверительной беседы автора с обширной семьёй его читателей, устроившихся в ненастный вечер у камелька: «Ох, помилуй нас, Господи, мы так уютно уселись в кружок у огня» (12, 104).
В то же время, каким бы благодушным, на первый взгляд, ни было повествование, оно всегда сопряжено с ощущением шаткости и неблагополучия современной действительности, искажённой греховным произволом сильных мира сего - предателей Христа, служителей бесовского «князя тьмы». Своим ученикам Господь возвестил: «Уже немного Мне говорить с вами; ибо идёт князь мира сего, и во Мне не имеет ничего» (Ин. 14: 30); предающим же Его Христос сказал: «теперь ваше время и власть тьмы» (Лк. 22: 53),
Писатель гневно выступал против угнетателей и эксплуататоров, мошенников и аферистов, злодеев и хищников всех мастей; обличал их мерзостное моральное уродство, тлетворную власть денег.
Под пером Диккенса оживают образы не знающих жалости капиталистов, использующих рабский, в том числе детский, труд на своих заводах и фабриках, в работных домах («Оливер Твист», «Дэвид Копперфилд»).
Безсердечные буржуа, владельцы коммерческих фирм, эгоисты-предприниматели озабочены только получением прибыли любой ценой. Во имя наживы их сердце окаменело, превратилось в кусок льда даже по отношению к родным и близким («Рождественская песнь в прозе», «Домби и сын»).
Высокомерные, чопорные аристократы, брезгливые по отношению к низшим социальным слоям, тем не менее следуют омерзительному правилу «деньги не пахнут» и не гнушаются принять в своё общество мусорщика, разбогатевшего на бизнесе от мусорных груд и помойных ям («Наш общий друг», 1865).
Крупные финансовые махинаторы-банкиры под прикрытием государственной власти выстраивают мошеннические схемы-«пирамиды», разоряя тысячи вкладчиков («Мартин Чеззлвит» (1844), «Крошка Доррит»).
Ловкие юристы-крючкотворы, продажные адвокаты и сутяжники, преступные в своей сущности, приискивают легальные оправдания криминальным деяниям своих клиентов-толстосумов, плетут интриги и плутни («Лавка древностей» (1841), «Дэвид Копперфилд»).
Судейские проволочки тянутся годами и десятилетиями, так что людям порой не хватает целой жизни, чтобы дождаться решения суда. Они умирают, не дожив до окончания судебного процесса («Холодный дом», 1853).
В школах для бедных преподаватели с повадками чудовищ-людоедов истязают и притесняют беззащитных детей («Николас Никльби», 1839).
Злобный карлик-садист Квилп преследует маленькую девочку («Лавка древностей»). Старик-еврей Фейгин - злокозненный главарь лондонского воровского притона - собирает в своём преступном логове бесприютных мальчишек, заставляя их работать на него, обучая уголовному ремеслу, каждый миг грозящему им виселицей («Оливер Твист»). Образ Фейгина был нарисован столь гротескно и в то же время типически, что вызвал недовольство английских евреев. Некоторые даже просили писателя убрать или смягчить черты национальной принадлежности верховода шайки детей-карманников. В итоге гнусный старикашка, обращавший детей в преступников, оканчивает свои дни на виселице, где ему и положено было быть.
Диккенс, как никто, умел понять детскую душу. Детская тема в его творчестве - одна из важнейших. Призыв Христа «будьте как дети»: «если не обратитесь и не будете как дети, не войдёте в Царство Небесное» (Мф. 18: 3) - живёт в художественном мире Диккенса - в мире, где бьётся его собственное сердце, сохранившее детскую непосредственность и веру в чудо.
В маленьких героях своих романов автор отчасти воспроизвёл своё собственное детство, отмеченное суровыми лишениями и тяжкими морально-нравственными испытаниями. Он никогда не забывал своё унижение и отчаяние, когда родители угодили в долговую тюрьму Маршалси; когда маленьким мальчиком ему пришлось работать на фабрике по производству ваксы. Писатель психологически точно сумел передать самую суть детской ранимости: «Мы страдаем в отрочестве так сильно не потому, что беда наша велика, а потому, что мы не знаем истинных её размеров. Раннее несчастье воспринимается как гибель. Заблудившийся ребёнок страдает, словно погибшая душа» .
Но Оливер Твист и в сиротском приюте, и в воровском притоне сумел сберечь веру в Бога, добрую душу, человеческое достоинство («Оливер Твист»). Маленькая девочка-ангелочек Нелли Трент, бредущая с дедушкой по дорогам Англии, находит в себе силы поддерживать и спасать близкого человека («Лавка древностей»). Отвергнутая родным отцом-буржуа Флоренс Домби сохраняет нежность и чистоту сердца («Домби и сын»). Малютка Эми Доррит, рождённая в долговой тюрьме Маршалси, самоотверженно заботится об отце-узнике и обо всех, кто нуждается в её заботах («Крошка Доррит»). Эти и многие другие герои, добрые душой и кроткие сердцем, призваны, как и малыш-калека Тим из «Рождественской песни в прозе», напомнить людям о Христе - о Том, «Кто заставил хромых ходить и слепых сделал зрячими» (12, 58).
«Дэвид Копперфилд» - роман, написанный от первого лица, во многом автобиографический, по справедливому отзыву Дж. Б. Пристли, - «истинное чудо психологической прозы»: «Главную неиссякаемую силу “Копперфилда” составляет детство Дэвидав литературе и по сей день нет лучшего изображения детства. Здесь есть игра теней и света, присущая началу жизни, зловещей тьмы и лучезарной, снова возникающей надежды, бесчисленные мелочи и тайны, подслушанные у волшебной сказки, - с какой тонкостью и совершенством всё это написано!»
Одна из финальных глав романа, венчающая обширное, масштабное повествование-хронику, называется «Свет озаряет мой путь». Источник света здесь - метафизический. Это духовный свет, кульминация внутреннего возрождения героя после пережитых испытаний: «И в памяти моей возникла длинная-длинная дорога, и, всматриваясь вдаль, я увидел маленького, брошенного на произвол судьбы оборвыша…» (16, 488). Но былой мрак сменяется «светом в конце тоннеля» - такова внутренняя художественная логика произведений Диккенса. Герои, наконец, обретают полноту счастья: «сердце моё так полноМы плакали не о минувших испытаниях, через которые прошлиМы плакали от радости и счастья» (16, 488).
Писателю удалось художественно отобразить евангельские «полноту сердца» и «полноту времён», когда происходит встреча человека с Богом, - то состояние, которое лаконично выражено у апостола Павла: «И уже не я живу, но живёт во мне Христос» (Гал. 2, 20).
Именно отсюда - счастливые или, по крайней мере, благополучные финалы творений Диккенса; тот happy end, который стал характерной чертой его поэтики. Писатель верил в идеалы Нового Завета, верил, что Добро, Красота и Правда - скрытые пружины жизни, и наверняка испытывал «особую творческую радость, заставляя медлительное Провидение поторопиться, распоряжаясь несправедливым миром по закону справедливости» , ведь «для Диккенса это словно вопрос чести - не дать победы злу» . Таким образом, ставший притчей во языцех диккенсовский happy end - не сентиментальный анахронизм, а напротив - решающий духовно-нравственный рывок вперёд.
Надо только открыть книгу, и тогда даже самый предубеждённый читатель почувствует не отталкивание, а магическое притяжение, сможет отогреться душой. Чудом и благодатью своего художественного мира Диккенс способен изменить нас: очерствевшие сердцем смогут смягчиться, скучающие - развеселиться, плачущие - утешиться.
Сегодня книги писателя переиздаются большими тиражами, множатся экранизации его произведений. Причудливый и трогательный диккенсовский «мир истинный, в котором душа наша может жить» (Г. Честертон), на удивление отвечает нашему жизненному стремлению к внутренней гармонии и равновесию, затаённой надежде на то, что мы сможем преодолеть горести, беды и отчаяние, что душа человеческая выстоит, не погибнет.
Алла Анатольевна Новикова-Строганова,
доктор филологических наук, профессор
Орловского государственного университета
город Орёл
Если физически сытому, но изголодавшемуся духовно, «духовной жаждою томимому» читателю, захочется перевести дух от «беспорядочной суеты и сутолоки» современной жизни, в которой «всё желающее зла - сплачивается» (11, 524), можно выбрать минутку-другую для знакомства с малоизвестной сказкой Николая Семёновича Лескова (1831 - 1895) «Рассказ про чёртову бабку» (см.ниже). В её основе - вечная тема борьбы человека с силами тьмы, бесовскими наущениями.
Небольшое произведение из творческого наследия великого писателя земли русской, созданное после 1886 года, при жизни автора опубликовано не было. Несмотря на крохотный объём (по-чеховски: «меньше воробьиного носа»), рассказ обращает вдумчивого читателя к религиозно-философской мысли, духовно-нравственному опыту христианства.
Писатель излагает легенду из переведённой с датского языка «благочестивой книжки» «Письма из ада» - «о том, как сатана портил «божественный образ» в человеке и приходил разговаривать об этом с своей бабкой» .
 Тема одоления чёрта волновала многих русских классиков, в особенности - Гоголя - одного из любимых писателей Лескова. «Гоголь - моя давняя болезнь и завороженность», - признавался он. Гоголь явственно ощущал реальность и действенность метафизических тёмных сил, духов злобы и тьмы. Писатель призывал не поддаваться, противостоять им.
Тема одоления чёрта волновала многих русских классиков, в особенности - Гоголя - одного из любимых писателей Лескова. «Гоголь - моя давняя болезнь и завороженность», - признавался он. Гоголь явственно ощущал реальность и действенность метафизических тёмных сил, духов злобы и тьмы. Писатель призывал не поддаваться, противостоять им.
Об этом идёт речь, например, в письме к С.Т. Аксакову, где Гоголь предлагает использовать в борьбе с «общим нашим приятелем» простое, но радикальное средство в духе кузнеца Вакулы, отхлеставшего напоследок чёрта хворостиной: «Вы эту скотину бейте по морде и не смущайтесь ничем. Он - точно мелкий чиновник, забравшийся в город будто бы на следствие. Пыль запустит всем, распечет, раскричится. Стоит только немножко струсить и податься назад - тут-то он и пойдёт храбриться. А как только наступишь на него, он и хвост подожмёт. Мы сами делаем из него великана, а на самом деле он чёрт знает что. Пословица не бывает даром, а пословица говорит: “Хвалился чёрт всем миром овладеть, а Бог ему и над свиньей не дал власти”» .
Мысль о бессилии любой нечисти перед лицом твёрдого духом и в вере человека была одной из любимейших ещё в древнерусской литературе. Так, в «Повести временных лет» сказано: «бесы ведь не знают мыслей человека, тайны его не зная. Бог один знает помышления человеческие. Бесы же не знают ничего, ибо немощны они и скверны видом» .
В финале гоголевской «Ночи перед Рождеством» , где одоление чёрта становится собственной темой повести, плач ребёнка перед «намалёванной» Вакулой картиной ада, намекает на «несмягчаемую силу чертовщины», ибо последнюю можно высмеять, травестировать, унизить <…> - но всё это останется лишь полумерой <…> Радикальное средство <…> может быть найдено на принципиально ином уровне. Другими словами, в каком бы комическом или неприглядном свете ни представал “враг рода человеческого”, только вмешательство противоположно направленной высшей силы способно оказать ему достаточное противодействие» .
От самого человека требуется большое духовно-нравственное усилие, чтобы в чистоте сохранить в себе образ Божий. Здесь встаёт вопрос не только о духовной силе личности, но и проблема нравственного выбора, самоопределения.
Тема сознательного выбора добра, необходимости одоления бесовских сил - одна из ведущих в творчестве Лескова. Однако в «Рассказе про чёртову бабку» дьявольские козни не главное. В центре внимания здесь христианская антропология, постижение человеком собственной сущности, отношений человека и Бога, богочеловеческого сотрудничества.
«Смысл легенды следующий, - передаёт Лесков. - Когда сатана узнал о намерении Бога создать человека, он сейчас же решился во что бы то ни стало испортить человека» (417) . Но как можно испортить «божественный образ»?
Сотворив человека по Своему «образу и подобию», Господь тем самым наградил его величайшим даром, прославил, вознес над «всею тварью». Однако ясно, что это не только дар, но и величайшая ответственность: не уронить в себе образ создавшего Отца. Именно здесь и подкарауливает беспечного человека дьявол (в переводе одно из значений слова «диаболос» - «разделитель», то есть стремящийся разделить, разрушить связь творения с Творцом): «Я подпортил человека так, что ему все будет того хотеться, чего ему нельзя. Он через это начнёт делать нехорошее - будет и лгать, и отнимать, и ненавиствовать, и даже самого Бога станет осуждать: зачем Он ему одно дал, а другого недодал. Сделаю, что человек станет самим Богом недоволен и оскорбит своего Создателя» (417). Однако лукавые происки бессильны. «Бога оскорбить никак нельзя. Он это всё простит и всю твою порчу в людях исправит» (417), - наставляет чёртова бабка своего злокозненного внука.
Божий образ в человеке в свете православной антропологии не только «данность» и «задание» , но также сотворчество: «В Богочеловеческом процессе важно сочетание Божественного действия и человеческого усилия» . Духовно возрастающий человек стремится исполнить своё истинное назначение - «жить по-Божьи» - и страшится своего несоответствия высшему идеалу. Это религиозно-нравственное переживание глубоко исследовал архиепископ Иоанн Сан-Францисский (Шаховской): «Человек страшится греха, но не как внешней роковой силы, а как чего-то созвучного своей слабости <...>
Эту истину 90 Псалма знает верная Богу душа и не боится ни тьмы окружающего, ни своей. Она боится лишь одного: страшно огорчить Любимого! <...> Это - высший круг страха, вводящий в небесную гармонию духа и эту гармонию охраняющий <...> Св. Иоанн Златоуст говорил, что для него ужаснее вечных мук было бы увидеть кроткий лик Господа Иисуса Христа, с печалью отворачивающийся от него... Вот психология истинной веры: страх огорчить любимого Господа, не принять с безмерностью духа Его безмерную любовь... »
Сотрудничество Божественного и человеческого - «синергия» как «содействие, соучастие» - выражено в лесковском тексте следующим образом: «при свете разума, который Бог дал человеку, люди не утратили, однако, способности понимать, что не всё им полезно, что хочется» (417).
Однако «враг человеческий» не сдаётся, помышляя, «как ему человека в корень испортить так, чтобы и Бог его поправить не мог» (417). Сатана задумывает, как бы «рассыпать», разделить единую сущность человека, непомерно взрастив его страсти, которые заслонят и сердце, и разум. «- Я, - говорит, - такого подпустил в человека, что он будет ко всякому другому без жалости. Каждый раз будет один другого превосходить, всё себе одному забирать, а других без сил оставить и со свету сжить. Вот увидишь, какая теперь пойдёт на земле между людей мерзость - и суды, и доводчики, и темницы, и нищие» (418).
Писатель предупреждает о том, какую опасность несёт утрата личностью цельности, внутреннего единства, заданного Богом. Когда душа, разум и тело пребывают в хаотическом разладе, мир также оказывается в безблагодатном нестроении. Для «врага рода человеческого» «это недурно», но только, по мнению многоопытной «чёртовой бабки», «Бог и эту порчу сумеет исправить. И действительно, замечает сатана, что в тех самых сердцах <выделено мной. - А.Н.-С.>, в которых он глубоко засеял семена “эгоизма”, рядком начинает пробиваться что-то иное, - совсем от другого корня» (418).
Здесь важнейшее - «сердце» - тот центр в христианской антропологии, куда должна быть сведена вся работа по «самособиранию» тела, души и ума «рассыпанного» человека.
Лесков верует в возможность спасения, в восстановление человеческой духовности. Но для изображения закосневшего в грехах «телесного» существа писатель подбирает экспрессивное сопоставление - не просто насмешливое, а уничижительное, обидное для звания человека: «черный таракан», «тараканий век». Той же задаче - выявить всю мерзость, ничтожество и отталкивающие стороны отпадших от Бога, забывших о душе, беспечно предавших её на поругание дьяволу, - служит и стилистически сниженная лексика, разговорно-бытовая интонация: «Живёт, живёт человек, наживает себе всякого добра много, и со всех сторон всё рвёт и хапает, и всё себе за голенища пхает.
До того тяжело наберётся, что даже ходить ему неловко, - как чёрный таракан на стенке корячится: “мы-ста, не мы-ста: на своих животах катаемся, в своей бане паримся”. И прёт его в тараканий век меры нет, а вдруг прихватит хорошенько этого тараканишку - он и раздумается: Господи мой! Что это я?.. Камо бегу и кому понесу?.. С собой ничего не возьмешь...» (418). Здесь писатель перефразирует библейское: «камо пойду от Духа Твоего, Господи, и от Лица Твоего камо бежу?» - так вопрошает человек, всю жизнь боявшийся самоуглубления, но, наконец, узревший глубины своего бессмертного «я». Также и у Лескова «человек-таракан», погрязший в житейской суете и отпавший от Бога, вдруг начинает умолять Всевышнего: «Господи! Дай мне очувствоваться...» (418).
Этого первоначального духовно-нравственного усилия со стороны человека достаточно, чтобы началась работа «самособирания» : «И вот рассудок в человеке просветлеет, и он не одобряет себя и начнет остепенять, и свой проклятый эгоизм удерживать. Всё, значит, есть ещё спасение» (418). Начало жизни по духу , как учит православная аскетика, очищает и собирает воедино омрачённые и разбитые черты образа Божия.
«Отврати лице Твое от грех моих и вся беззакония моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей» , - так звучит горячая молитва к Создателю человека, осознавшего свои грехи, в «покаянном» 50-м Псалме Давида. Это настоящий «прорыв» из мира греховности в мир духовный.
Духовного преображения человека желает Спаситель. Сатана же стремится исказить человеческую сущность: «Хочется ему на отделку испортить человека, так, чтобы он совсем завернулся, и чтобы его ни стыд, ни совесть, ни сострадание ни с какой стороны не могли дощупаться» (418), - пишет Лесков. Атака злокозненного врага ведётся именно на сердце, на душу человеческую. Увлекает злого духа и возможность затуманить людской разум: «- Я, - говорит, - переверну в человеке всё понятие на вын -тараты, - будет ему казаться умное глупым, а глупое умным, и ни в чем он не разберёт истины» (419).
«Не мудрствуйте лукаво...» - учит христианская заповедь. «Что значит Мудрость? - размышляет архиепископ Иоанн Сан-Францисский. - Мудрость есть Господь Бог <...> есть две мудрости, различные между собой. Остерегайтесь этой последней, лукавой, потому что исходит она от царя лжи и лукавства. Что значит “ложь” вам понятно, потому что часто встречается она в жизни у вас и распознать её вы умеете. Лукавство же есть ложь, которую трудно для всех распознать сразу. Лукавство и состоит в том, что имеет неясное основание... Ясно теперь, что человек должен быть мудр, но мудрость его должна исходить от Господа Бога.
Этой мудростью вы можете отличить доброе от злого, этой мудростью вы можете заслужить прощение и достигнуть Царствия Божия»; «разные мысли борются в человеке. Многие насильно замыкает он в своей голове, хочет принять только мозгом, а мозг не может всего принять, бунтует. Не принимает иногда мозг того, что уже знает дух... Ясное здесь и прямое указание на связь истины с духом, духоведением более, чем с интеллектуальностью» .
По резонному замечанию «чёртовой бабушки» в тексте лесковской сказки, Бог сразу может исправить злонамеренную выдумку: «Он пошлёт на землю Посла, Который покажет людям настоящую истину, и разрастется это малое семя, и выйдет великое древо» (419). Здесь предсказывается христианская рождественская концепция: «Христос рождается прежде падший восставити образ» .
И вновь писатель показывает синергийное соединение Божественной благодати и человеческой природы. Человек, переживающий свою греховность, стремится к самопревосхождению. В ответ на это свободное устремление Бог посылает ему дар спасения, сравнимый по масштабам только с даром творения.
Крохотный лесковский рассказ вмещает в себя тысячи и тысячи лет - это поистине вселенское время, воплощающее евангельскую идею “полноты времён”: “Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного) <…>, Чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление”(Гал. 4: 4 - 5) ; “В устроение полноты времён, дабы всё небесное и земное соединились под главою Христом” (Ефес. 1: 10).
Лесков горячо верует в поступательное движение истории человечества и вместе с «великим христианином» Диккенсом, в котором русские писатели узнавали «родственную душу», мог бы повторить мощный и настойчивый призыв Духа Церковных Колоколов из рождественской повести английского писателя: «Голос времени, - сказал Дух, - взывает к человеку: “Иди вперёд!” Время хочет, чтобы он шёл вперёд и совершенствовался; хочет для него больше человеческого достоинства, больше счастья, лучшей жизни; хочет, чтобы он продвигался к цели, которую оно знает и видит, которая была поставлена, когда только началось время и начался человек» .
В лесковской сказке снова промелькнуло тысячелетие - после пришествия Христа. А вот и последняя выдумка беса: «Я выдумал касающееся к этой самой Истине. Пришла Истина, ну и пришла. Так ей и быть. Теперь назад не воротишь, а я теперь буду вперять человеку, что он один познал эту Истину самым лучшим родом, и он тогда во всех смыслах зайдётся. Не станет ничем не поверять и ни о чём ни с кем спокойно и умно не посоветует, а всех почтёт в заблуждении, и что ему в лоб вступит, то и велит всем почитать за истину. Тогда ему во весь век не услыхать слово Истины» (419).
И, кажется, на этот раз коварная шутка удалась. Рассказ заканчивается похвалой лукаво умудрённой «чёртовой бабки» в адрес неугомонного внука: «“Живу я давно, и очень я опытна, а эта твоя выдумка меня озадачила. Хорошо ты выдумал ”. И начали чёрт с бабкою на весь ад громко смеяться» (419).
В датском источнике, который обрабатывал Лесков, этот сюжет преподносится довольно сухо и рационально. Русский писатель не только расцветил легенду новыми красками, придал ей русский национально-сказочный колорит, отшлифовал с филигранным мастерством, но и углубил религиозно-философский смысл рассказа.
Датский фрагмент завершается следующим образом: «Конечно, для Господа всё возможно! Но со всею моею опытностью, не знаю, как Он убедит тщеславного человека в том, что он живёт в грехе?!» (565). Лесковский же рассказ венчает мощный - и в эмоциональном, и в идейно-художественном, и в нравственно-философском смысле - финал, в котором сосредоточена концепция произведения. Метафизический адский хохот, раздающийся на весь мир, не может не насторожить, не ужаснуть.
Из Священного Писания известно, что Христа часто видели плачущим, «а чтобы Он смеялся или хотя мало улыбался, этого никто никогда не видел». Конечно, Он плакал и о людях, отвернувшихся от своего доброго Отца и предавших самих себя злому духу.
В отличие от «Легенды о великом инквизиторе» в романе Достоевского «Братья Карамазовы» (1881), где рисуется пришествие Христа и дан Его светоносный образ, окружённый лучами любви и правды, в легенде Лескова изображения Христа мы не найдём. Зато злые силы выписаны пластически зримо. Сатана здесь не символ и не аллегория. Лесков считает, что обнаружение бесовской силы - это уже её поражение, полезное людям, которым необходимо быть духовно пристальными.
«Самое большое поражение бесов, - пишет архиепископ Иоанн Сан-Францисский, - когда их обнаруживают, срывают с них личину, которой они прикрываются в мире» . «Бесплотный враг - диавол, и слуги его - злые духи - суть наиреальнейшие явления в мире, действующие в смятенной, суетной или озлобленной душе. Бесы - такая же реальность, как светлые силы мира невидимого - ангелы, действующие в глубинах духа человеческого и его мира совести <...> вся внутренняя борьба должна вестись не против людей же, себе во всем подобных по греховности, но против сознательно воинственной бесплотной силы зла, поработившей душу человека и человечества, душу всех интересов мира, ставших совершенно плотскими, земными, не имеющими горнего духа вечности» .
Гордыня и тщеславие - по сути своей дьявольские качества - более всего мешают человеку в стяжании благодати. В легенде из датского перевода указывается: «Когда тщеславие станет второй природой человека, когда он сам влюбится в неё, будет дураком - он погибнет наверное! <...> Даже совесть не заговорит в человеке против тщеславия. Он не увидит в нём зла и с закрытыми глазами бросится в бездну» (563 - 564).
Здесь усматривается прозрачная аналогия с эпизодом Евангелия от Луки (8: 26 - 39) - о том, как Иисус повелел нечистому духу выйти из бесноватого и войти в свиней, и те бросились в бездну. Так и человек, по своей воле устремляющийся в бездну, подобен свинье, занятой только пищей земной. «Естественно, бесы хотят устремиться к свиньям. Только бы им не остаться без всякой жертвы, без всякой пищи, то есть без возможности кого-либо мучить и терзать в Божьем мире <...> На бесах поучим мы, люди, себя! - призывает архиепископ Иоанн Сан-Францисский. - Всё зло, которое мы другим (то есть, прежде всего, самим себе) делаем, есть зло, выходящее из пустоты нашей, не заполненной светом Божьим. Гордые, мы, будучи пустыми, заполняем себя не жизнью Божественной, но призраками радостей, чтобы только не чувствовать ужасного своего - без Бога - одиночества. Адская бездна непрестанно отверста пред нами, и мы, слепо страшась её, слепо привязываем себя к тому, что само не вечно, что есть лишь туман над бездной...» .
Преподобный Максим Исповедник называет самолюбие «матерью всех зол»: «Начало всех страстей есть самолюбие, а конец - гордость». «Самолюбие, сластолюбие и славолюбие изгоняют из души память Божию» , - вторит св. Феодор Едесский. Против «безумной гордости» направлено истовое по эмоциональному накалу и совершенное в художественном отношении Слово 23 «Лествицы» аввы Иоанна Лествичника: «Гордость есть отвержение от Бога, бесовское изобретение, презрение человеков, матерь осуждения, исчадие похвал, знак бесплодия души, отгнание помощи Божией, предтеча умоисступления, виновница падений, причина беснования, источник гнева, дверь лицемерия, твердыня бесов, грехов хранилище, причина немилосердия, неведение сострадания, жестокий истязатель, бесчеловечный судья, противница Богу, корень хулы» .
По слову Апостола, «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» (Иак. 4: 6). Христос призывал: «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем» (Мф. 11: 29).
Лесков считал, что гордость - «ужасное слово, которое совсем не идёт к тону и противно тому настроению, которого должна держаться муза поэта-христианина» (11, 413). Писатель вывел следующую истину: «Гордость - чувство пустое: ничем не надо гордиться и никем» . Так незадолго до смерти наставлял он своего сына. В книге Н.П. Макарова «Энциклопедия ума» из личной библиотеки Лескова, хранящейся в лесковском Доме-музее в Орле, подчёркиванием и крестиками на полях рукой писателя выделено: «скромность относительно души есть то же самое, что стыдливость относительно тела» .
Горячо чтимый Лесковым святитель Тихон Задонский поучал: «Познаётся христианин не от восклицания: “Господи, Господи”, но от подвига против всякого греха <...> Труден, признаюсь я, всякому против вышеописанных противников подвиг, но необходим и почётен». В подвиге этом особо подчеркнуто сотрудничество Божественного и человеческого: «Бог старающимся и заботящимся помогает, подвизающихся укрепляет и побеждающих венчает» . Поистине это богатырский подвиг, идею которого неустанно проповедовал Лесков в своих творениях о праведниках земли русской.
В свою записную книжку писатель занёс глубоко выстраданную молитву: «Отче! Подай мне сил избежать зла, сотворить благо и перенесть испытание. Аминь» .
ПРИМЕЧАНИЯ
Лесков Н.С. Собр. соч.: В 11 т. - М.: ГИХЛ, 1956 - 1958. - Т. 11. - С. 587. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием номера тома и страницы.
Лесков Н. С. Легендарные характеры. - М.: Сов. Россия, 1989. - С. 417. Далее страницы этого издания указываются в тексте.
Гуминский В. М. Открытие мира, или Путешествия и странники: о русских писателях XIX века. - М.: Современник, 1987. - С. 20.
Иоанн Сан-Францисский (Шаховской), архиепископ. Агония одиночества (пневматология страха) // Иоанн Сан-Францисский (Шаховской), архиепископ. Избранное. - Петрозаводск: Святой остров, 1992. - С. 142 - 143.
Иоанн Сан-Францисский (Шаховской), архиепископ. Записи голоса чистого // Иоанн Сан-Францисский (Шаховской), архиепископ. Избранное. - Петрозаводск: Святой остров, 1992. - С. 101 - 102.
Диккенс Ч. Рождественские повести // Диккенс Ч. Собр. соч.: В 30 т. - М.: ГИХЛ, 1959. - Т. 12. - С. 154
Иоанн Сан-Францисский (Шаховской), архиепископ. Семь слов о стране Гадаринской (Лук. VIII: 26 - 39) // Иоанн Сан-Францисский (Шаховской), архиепископ. Избранное. - Петрозаводск: Святой остров, 1992. - С.170.
Иоанн Сан-Францисский (Шаховской), архиепископ. Белое иночество // Иоанн Сан-Францисский (Шаховской), архиепископ. Избранное. - Петрозаводск: Святой остров, 1992. - С. 127.
Иоанн Сан-Францисский (Шаховской), архиепископ. Семь слов о стране Гадаринской (Лук. VIII: 26 - 39) // Иоанн Сан-Францисский (Шаховской), архиепископ. Избранное. - Петрозаводск: Святой остров, 1992. - С. 169.
Когда sотон узнал о намерении Бога создать Человека, он сейчас же решился во что бы то ни стало испортить Человека. Но чем и как?
Думал sьтон, думал и приходит к своей чёртовой бабушке.
Я,- говорит,- бабушка, выдумал.
А что такое ты, моё дитятко, выдумал?
Я подпортил Человека так, что ему всего будет того хотеться, чего ему нельзя. Он через это начнёт делать нехорошее - будет и лгать, и отнимать, и ненавиствовать, и даже самого Бога станет осуждать: зачем Он ему одно дал, а другого недодал. Сделаю, что Человек станет самим Богом недоволен и оскорбит своего Создателя.
Чёртова бабка помотала головою и говорит:
Это ты не хорошо выдумал: Бога оскорбить никак нельзя. Он это всё простит и всю твою порчу в Людях исправит.
И точно: хотя много Людей сказанным манером было испорчено, но при свете Разума, который Бог дал Человеку, Люди не утратили, однако, способности понимать, что не всё им полезно, что хочется, и что Люди умеренные, с обладанием в своей воле живут спокойнее неумеренных.
Чёрт сейчас заметил это и бежит к своей бабушке: - Бабушка! - зовёт,- так и так, вон какой завод в людях завёлся, нам это не под стать. Так Люди, пожалуй, оборотятся к простоте и тогда все довольны Богом станут.
А что я тебе говорила? - отвечает чёртова бабка. - Я тебе говорила, что Бог твою порчу может поправить!
Пошёл чёрт от своей бабки и не видался с нею целую тысячу лет, всё думал: как ему Человека в корень испортить так, чтобы и Бог его поправить не мог.
Наконец, показалось ему, что он выдумал, и бежит он опять к бабушке. - Выдумал! - кричит с радостью.
Что же ты выдумал?
Я,- говорит,- такого подпустил в Человека, что он будет ко всякому другому без жалости. Каждый раз будет один другого превосходить, всё себе одному забирать, а других без сил оставлять и со свету сживать. Вот увидишь, какая теперь пойдёт на земле между людей мерsоsть - и суды, и доводчики, и темницы, и нищие.
Что ж, это недурно,- отвечала чёртова бабка,- но только Бог и эту порчу сумеет исправить.
И действительно, замечает sотон, что в тех самых сердцах, в которых он глубоко засеял семена «эгоизма», рядком начинает пробиваться что-то иное - совсем от другого корня. Живёт, живёт человек, наживает себе всякого добра много, и со всех сторон всё рвёт и хапает, и всё себе за голенища пхает. До того тяжело наберётся, что даже ходить ему неловко,- как чёрный таракан на стенке корячится: «мы-ста, не мы-ста: на своих животах катаемся, в своей бане паримся». И прёт его в тараканий век - меры нет, а вдруг прихватит хорошенько этого тараканишку - он и раздумается: Господи мой! Что это я?.. Камо бегу и кому понесу?.. С Собой ничего не возмёшь... Жене - на нового мужа припасёшь: с ним будет прохлаждаться, за моим столом барствовать. Дети!.. Да надо ли моим детям больше других? Те дети, кои сами о себе думать должны часто, лучше выходят. Господи! дай мне очувствоваться - очень я тёмен стал.
И вот рассудок в человеке просветлеет, и он не одобряет себя, и начнёт остепенять и свой проклятый эгоизм удерживать. Всё, значит, есть ещё спасение.
Увидал это sьтон и задумался. Нехорошо! Не нравится! Хочется ему на отделку испортить Человека, так, чтобы он совсем завернулся, и чтобы его ни стыд, ни совесть, ни сострадание ни с какой стороны не могли дощупаться.
Думал sотон, думал, опять тысячу лет не поднимался с места и наконец выдумал и опять спешит к своей чёртовой бабушке.
Та встречает его вопросом:
Что, моё милое дитятко?
Теперь, бабушка, выдумал крепко.
Радуй же скорее меня,- сказывай.
Я,- говорит,- переверну в человеке всё понятие на вын-тараты,- будет ему казаться умное глупым, а глупое умным, и ни в чём он не разберёт истины.
Да, хороша эта твоя выдумка,- отвечает бабушка, - но только Бог её сразу может исправить.
Каким манером?
А таким манером, что Он пошлёт на землю Посла, который покажет Людям Настоящую Истину, и разрастётся это малое Семя, и выйдет Великое Дерево.
Смотрит sотон, и в самом деле начинается что-то совсем похожее на то, что ему бабка сказывала. Сел он опять,- уткнулся перстом в лоб и тысячу лет просидел, но уж зато выдумал.
Что же ты выдумал? - спрашивает бабка.
Да, уж теперь я хорошо выдумал,- отвечает sотон.
Говори - послушаем.
Я выдумал касающее к этой Самой Истине. Пришла Истина, ну и пришла. Так ей и быть. Теперь назад не воротишь, а я теперь буду вперять Человеку, что он один познал эту самую истину самым лучшим родом, и он тогда во всех sмыsлах sайдётsя. sтанет НИчем поверять и о чём-либо с кем-то спокойно и умно не посоветует, а всех почтёт в заблуждении, и что ему в sлоб вsтупит, то и sвелит всем почитать за Истину. Тогда бы ему во весь век не услыхать Слово Истины.
Чёртова бабка улыбнулась.
Что же, бабушка, скажешь? - спросил sотон.
Гм, гм, гм!.. Не знаю, что тебе, внучек, и сказать,- развела руками чёртова бабушка.- Живу я давно, и очень я опытна, а эта твоя выдумка меня озадачила. sлавно ты sдумал!
И начали чёрт с бабкою на весь ад громко sмеяться.
Давайте вместе подумаем: не эта ли чертовщина вгрыsана в Нашей Стране: пре sелом идущий энтот действительно считает, что «он один познал эту самую истину самым лучшим родом», гос.дума и правительство, якобы, уже что-либо не значат. Именно ничегошьем ни о чём из первой колонии иsраиля получаемы указания «поверять о чём-либо». Со своими же «спокойно и умно не посоветует, а всех почтёт в заблуждении».
Алла НОВИКОВА-СТРОГАНОВА
Алла Анатольевна Новикова-Строганова , доктор филологических наук, профессор. Живет в городе Орле.
К 195-летию И. С. Тургенева
«Записки охотника» И. С. Тургенева (1818–1883) — одна из тех книг отечественной классики, где наиболее сильно выражен «русский дух», где в прямом смысле «Русью пахнет»: «Вы раздвинете мокрый куст — вас так и обдаст накопившимся теплым запахом ночи; воздух весь напоен свежей горечью полыни, медом гречихи и „кашки”; вдали стеной стоит дубовый лес и блестит и алеет на солнце» («Лес и степь») 1 . В рассказе «Певцы» Тургенев пишет о своем герое: «Он пел, и от каждого звука его голоса веяло чем-то родным и необозримо широким, словно знакомая степь раскрывалась перед вами, уходя в бесконечную даль» (3, 222). Писатель явил себя таким же певцом благословенной Русской земли, с тем же одухотворенно-проникновенным голосом: «Русская, правдивая, горячая душа звучала и дышала в нем и так и хватала вас за сердце, хватала прямо за его русские струны» (3, 222). Этими тургеневскими словами можно было бы выразить пафос цикла рассказов в целом.
Не случайно И. А. Гончаров, прочитав «Записки охотника» во время своего кругосветного путешествия, у берегов Китая — за тысячи верст от России — ощутил ее дух, ее живое присутствие: «…заходили передо мной эти русские люди, запестрели березовые рощи, нивы, поля и ‹...› прощай, Шанхай, камфарные и бамбуковые деревья и кусты, море, где я — все забыл. Орел, Курск, Жиздра, Бежин луг — так и ходят около». Гончаров отметил, что Тургенев не только с детства «пропитался любовью к родной почве своих полей, лесов», но и «сохранил в душе образ страданий населяющего их люда» 2 .
В год кончины Тургенева его друг и поэт Я. П. Полонский говорил: «И один рассказ его “Живые мощи”, если б он даже ничего иного не написал, подсказывает мне, что так понимать русскую честную верующую душу и так все это выразить мог только великий писатель».
Ф. И. Тютчев проницательно уловил в «Записках охотника» тургеневское стремление к синтезу реального и сакрального: «…поразительно сочетание реальности в изображении человеческой жизни со всем, что в ней есть сокровенного» 3 .
Известно, какое глубокое впечатление произвели «Записки охотника» на земляка Тургенева — Н. С. Лескова, заслуженно признанного «величайшим христианином среди русских писателей» 4 . Он испытал настоящее нравственно-психологическое потрясение, впервые прочитав тургеневский цикл: «весь задрожал от правды представлений и сразу понял: что называется искусством» 5 .
М. Е. Салтыков-Щедрин справедливо считал, что «Записки охотника» значительно повысили «нравственный и умственный уровень русской интеллигенции» 6 .
Л. Н. Толстой писал, что рассказы тургеневского цикла еще в юности открыли ему, что русского мужика «можно и должно описывать не глумясь и не для оживления пейзажа, а можно и должно описывать во весь рост, не только с любовью, но с уважением и даже трепетом» 7 .
В. Г. Короленко вспоминал, как, познакомившись в свои гимназические годы с «Записками охотника», впервые испытал чувство внутреннего обновления, ощутил духовное просветление: «Меня точно осияло. Вот они, те “простые” слова, которые дают настоящую, неприкрашенную “правду” и все-таки сразу подымают над серенькой жизнью, открывая ее шири и дали, ‹...› озаренные особенным светом» 8 .
М. Горький называл «Записки охотника» в числе книг, которые «вымыли» ему душу, «очистив ее от шелухи» 9 .
Сходное впечатление испытывает и нынешний вдумчивый читатель, хотя со дня публикации первого рассказа цикла «Хорь и Калиныч » (1847) минуло более 165 лет и более 160 лет — со времени первого отдельного издания «Записок охотника» (1852). «Склад жизни изменился, а звук души остается» 10 , — говорил Б. К. Зайцев о восприятии тургеневского творчества в статье «Непреходящее» (1961).
Быть неувядаемой, всегда новой и актуальной — таково свойство русской словесности, уходящей своими корнями в сакральные источники христианства. Так, Новый Завет, пребывая вечно новым, призывает человека любой исторической эпохи к обновлению, преображению: «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что (есть) воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Рим. 12: 2). Каждый, кто прикасается к Евангелию, всякий раз открывает для себя заново слово Бога живого. Живые голоса русских писателей звучат для нас, когда мы перечитываем классику и неизменно черпаем из ее глубин нечто такое, что до времени оставалось сокрытым от восприятия. Так, прочтение на новом уровне рассказов Тургенева в христианском контексте понимания может стать настоящим открытием, откровением.
Доминантой приведенного отзыва Лескова о «Записках охотника» является слово «правда» во всей его полисемантической объемности: правдивость реалистического изображения; реализм в «высшем смысле», одухотворенный романтической традицией; и главное — правда как вечное стремление к высшей Истине, к идеалу Христа, сказавшему: «Аз есмь Путь, и Истина, и Жизнь» (Ин. 14: 6).
Побеждая свои религиозные сомнения, в практике художественного творчества писатель изображал жизнь в свете христианского миропонимания. В «Записках охотника» Тургенев показал, что именно духовное, идеальное содержание — основа человеческой личности; ратовал за восстановление в человеке образа и подобия Божия.
Герои «Записок» — русские православные люди. Как известно, понятие «русский» исторически уже подразумевало: «православный христианин». Свидетельство полноценного, духовно не поврежденного чувства национального достоинства — народное самоназвание: «крестьяне», в простонародной артикуляции — «хрестьяне », то есть «христиане» — верующие во Христа.
В бытии и быте народа ощутимо живое Божье присутствие. Христос — в жизни, в сердце, на устах русского человека. «Господи, владыко живота моего!» (3, 37); «ах, Господи, Твоя воля!» (3, 16); «прости, Господи, мое прегрешенье!» (3, 137), — то и дело приговаривают герои тургеневских рассказов: старик Туман («Малиновая вода»), Калиныч («Хорь и Калиныч »), мужик Анпадист («Бурмистр»), многие другие. Наслушавшись в ночном зловещих поверий о нечистой и неведомой силе, маленькие герои рассказа «Бежин луг» ограждают себя крестом, именем Божьим. Все герои «Записок охотника» молятся, осеняют себя крестным знамением, божатся, призывают «Господа Бога в свидетели» (3, 182), просят «ради С амого Господа Бога нашего» (3, 42), уповают на «силу крестную» (3, 95), на то, что «Бог милостив» (3, 78), и т. д.
Все это не формализация застывших речевых оборотов, а духовная составляющая русского языка, словесное выражение православного духа русского народа, христианской языковой среды его обитания; показатель глубинной связи слова с самой его сущностью в таинстве языка: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин. 1: 1).
В каждом жилище русского человека — будь то помещичий дом или крестьянская изба — теплятся лампадки перед образами: «перед тяжелым образом в серебряном окладе» в богатой избе Хоря («Хорь и Калиныч ». 3, 9); в «чистенькой» комнатке провинциальной барышни («Уездный лекарь». 3, 42). Чистое пламя лампадок, свечей символизирует горение духовное, благоговение, внутренний трепет перед Богом в надежде покаяния и обновления души. Православный человек, входя под любой кров, прежде всего крестится на образа, показывая тем самым, что истинный хозяин дома — Господь Бог. Так, в больнице у фельдшера «мужик вошел в фельдшерову комнату, поискал глазами образа и перекрестился» («Смерть». 3, 202).
Тургенев упоминает также народный обычай с образами обходить пострадавшие от пожара лесные угодья — с тем чтобы с Божьей помощью возродить оскудевшую «производительную силу» земли на таких «„заказанных” (с образами обойденных) пустырях» («Смерть». 3, 198). «А с Богом-то завсегда лучше» (3, 352), — так выражает убеждение всякого православного человека Филофей — герой рассказа «Стучит!».
На Руси в каждом селе — в таком, например, как Шумихино, «с каменною церковью, воздвигнутой во имя преподобныхКозьмы и Дамиана» («Малиновая вода». 3, 31) — была церковь. Божьи церкви становились духовно-организующими центрами благословенных просторов родной земли. Они являлись и целью паломничества, и пространственными ориентирами, и условленным местом встречи для странников, путешествующих. Так, охотник сказал своим спутникам, что будет «ждать их у церкви» («Льгов». 3, 77), и «добрался наконец до большого села с каменной церковью в новом вкусе, то есть с колоннами» («Контора». 3, 139).
Все крестьяне в «Записках охотника» — люди Божьи. Каждый наделен своими талантами и дарованиями. Особо одаренные натуры: Яков Турок («Певцы»), Павлуша («Бежин луг»), Матрена («Петр Петрович Каратаев»), Акулина («Свидание»), Лукерья («Живые мощи»); главные герои одноименных рассказов Хорь и Калиныч , Бирюк, Касьян с Красивой Мечи и другие выписаны ярко, рельефно, выпукло.
Но есть и такие , которые кажутся совсем невзрачными, как бы невидимыми, живут, что называется, «Святым Духом». Но и эти с виду неприметные люди пребывают в лоне православных традиций. Так, церковный сторож Герасим проживал в каморочке «Христа ради» (3, 31), как и другой герой рассказа «Малиновая вода» — Степушка , который «не получал решительно никаких пособий, не состоял в родстве ни с кем, никто не знал о его существовании», и все же в «Светлое Воскресенье с ним христосовались» (3, 32).
Вглядываясь русскую литературу, известный духовный писатель XX века митрополит Вениамин (Федченков ) отмечал, как «мало в ней положительных типов! Все больше грешные, страстные. Хорошие люди почти исключение». Среди этих «исключений» названы герои «Записок охотника», где «изображены преимущественно люди из “простого народа”, немало хороших людей. Из всех выделяется истиннопреподобная Лукерья (“Живые мощи”)» 11 .
Писатель показал русских людей как искателей и носителей истины, Божьей правды. «Мысль народная» во всех ее ипостасях, в национально-русской, всемирно-исторической и метафизической перспективах — всепроникающая в цикле рассказов. Тургенев писал Полине Виардо: «Я продолжу мое изучение русского народа, самого странного и самого удивительного народа на свете».
Таков Касьян с Красивой Мечи из одноименного рассказа — образ странный и удивительный. В нем ярко выражены христианские черты и в то же время — много сложного , противоречивого. Недосказанность как художественный прием в создании образа особенно усиливает его загадочность, неоднозначность.
Охотник настолько потрясен встречей с Касьяном, что на мгновение теряет дар речи: «…до того поразила меня его наружность. Вообразите себе карлика лет пятидесяти с маленьким, смуглым и сморщенным лицом, острым носиком, карими, едва заметными глазками и курчавыми, густыми черными волосами, которые, как шляпка на грибе, широко сидели на крошечной его головке. Все тело его было чрезвычайно тщедушно и худо, и решительно нельзя передать словами, до чего был необыкновенен и странен его взгляд. ‹...› Звук его голоса также изумил меня. В нем не только не слышалось ничего дряхлого, — он был удивительно сладок, молод и почти женски нежен» (3, 110).
Карлик с диковинной внешностью выглядит как существо таинственное, полусказочное. Этот «странный старичок» (3, 110) чем-то напоминает гриб, высунувшийся из-под земли. И в самом деле герой органично связан с землей, с родной почвой, с русской природой. Касьян словно лесной гном — хранитель леса и его обитателей.
Гибель деревьев ради коммерческих интересов, срубленные места в лесу (на орловском диалекте — «ссечки ») вызывают в Касьяне душевную боль. Не имея возможности помешать хищнической вырубке, герой апеллирует к Божьему суду: «Тут у нас купцы рощу купили, — Бог им судья, сводят рощу-то, и контору выстроили, Бог им судья» (3, 111). Да и сам автор видит в рубке леса нечто трагическое, уподобляя срубленное дерево человеку, умирающему в последнем земном поклоне: «Вдали, ближе к роще, глухо стучали топоры, и по временам, торжественно и тихо, словно кланяясь и расширяя руки, спускалось кудрявое дерево...» (3, 114).
Касьян живет в полном симбиозе с миром природы, буквально говорит с ней на ее языке. Завидев маленьких птичек, «которые то и дело перемещаются с деревца на деревцо и посвистывают, внезапно ныряя на лету, Касьян их передразнивал, перекликался с ними; поршок 12 полетел, чиликая , у него из-под ног — он зачиликал ему вслед; жаворонок стал спускаться над ним, трепеща крылами и звонко распевая, — Касьян подхватил его песенку» (3, 113).
Природа в ответ открывает герою целительные тайны своей «Божьей аптеки»: «…есть травы, цветы есть: помогают, точно. Вот хоть череда, например, трава добрая для человека; вот подорожник тоже; об них и говорить не зазорно: чистые травки — Божии» (3, 118). Вместе с животворными «чистыми», «Божьими» травками Касьяну ведомы и другие растения — загадочные, «греховные», применяемые только вкупе с молитвой: «Ну, а другие не так: и помогают-то они, а грех; и говорить о них грех. Еще с молитвой разве...» (3, 118).
Так, в своей практике врачевания Касьян также предстает как христианин, оградивший себя молитвой, заручившийся Божьей помощью. Сопровождая охотника, таинственный знахарь «беспрестанно нагибался, срывал какие-то травки, совал их за пазуху, бормотал себе что-то под нос и все поглядывал на меня и на мою собаку, да таким пытливым, странным взглядом» (3, 113).
В обывательской среде знахарей часто считали колдунами, подозревали в сношениях с нечистой неведомой силой. Однако настоящий народный целитель не только наделен открытым ему знанием сил природы. Чтобы врачевать, лекарь должен быть нравственно чистым, духовно возвышенным. Касьян помогает людям бескорыстно, от души, не помышляя о вознаграждении за свои познания и труды. На вопрос, чем он промышляет, герой отвечает: «Живу, как Господь велит ‹...› — а чтобы, то есть, промышлять — нет, ничем не промышляю» (3, 117). В этом он следует евангельскому завету, данному Христом апостолам, — о том, чтобы беско-рыстно делиться с людьми тем талантом, который получен человеком от Бога в дар: «Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили, даром давайте» (Мф . 10: 8).
В народе целителя Касьяна справедливо именуют «лекарка» (3, 112), но он уверен, что и здоровье, и жизнь человека — все в Божьей воле: «Лекаркой меня называют... Какая я лекарка!.. и кто может лечить? Это все от Бога. ‹...› Ну, конечно, есть и слова такие... А кто верует — спасется, — прибавил он, понизив голос» (3, 118). В этих последних словах героя — сокровенная убежденность в действенной силе христианской веры. Согласно заповеди Христа, «если вы будете иметь веру с горчичное зерно», «ничего не будет невозможного для вас» (Мф . 17: 20). В новозаветном эпизоде воскрешения дочери Иаира Христос говорит: «Не бойся, только веруй, и спасена будет» (Лк. 8: 50).
Касьян с его идеалами добра и милосердия наделен чертами праведника. С другой стороны — сумеречная таинственность судьбы героя вносит диссонанс в его образ, не позволяя ему быть до конца открытым, светлым. Так, у Касьяна есть дочь, но он говорит о ней — «сродственница», скрывая ее происхождение, хотя их кровная связь для всех очевидна. Очередная загадка: о матери девушки никто не знает, герой об этом тоже умалчивает.
Кровь, ее пролитие особенно страшат Касьяна. Недоверчиво и неодобрительно относится он к охотникам. Герой смотрит на охоту как на жестокое истребление, бессмысленное убийство «Божьих тварей», напрасное пролитие невинной крови, смертный грех нарушения библейской заповеди «не убий»: «Пташек небесных стреляете, небось ?.. зверей лесных?.. И не грех вам Божьих пташек убивать, кровь проливать неповинную?» (3, 110).
Этот грех тем более непростительный, что совершается он для пустого развлечения, а не ради хлеба насущного, испрашиваемого в молитве Господней «Отче наш»: «…хлеб наш насущный даждь нам днесь» (Мф . 9: 11). И Касьян не страшится открыто уличить барина в грехе убийства «братьев наших меньших»:
«— Ну, для чего ты пташку убил? — начал он, глядя мне прямо в лицо.
— Как для чего?.. Коростель — это дичь: его есть можно.
— Не для того ты убил его, барин: станешь ты его есть! Ты его для потехи своей убил» (3, 116).
С этим наставлением «рифмуется» оценка, данная Лукерьей — героиней рассказа «Живые мощи»: «В позапрошлом году так даже ласточки вон там в углу гнездо себе свили и детей вывели. Уж как же оно было занятно! Одна влетит, к гнездышку припадет, деток накормит — и вон. Глядишь — уж на смену ей другая . Иногда не влетит, только мимо раскрытой двери пронесется, а детки тотчас — ну пищать да клювы разевать ... Я их и на следующий год поджидала, да их, говорят, один здешний охотник из ружья застрелил. И на что покорыстился ? Вся-то она, ласточка, не больше жука... Какие вы, господа охотники, злые!» (3, 331).
Касьян также не боится устыдить барина, внушает ему мысль отказаться от жестокой забавы: «…много ее, всякой лесной твари, и полевой и речной твари, и болотной и луговой, и верховой и низовой — и грех ее убивать, и пускай она живет на земле до своего предела... А человеку пища положена другая; пища ему другая и другое питье: хлеб — Божья благодать, да воды небесные, да тварь ручная от древних отцов» (3, 116).
В определении хлеба как Божьей благодати кроется священная сущность: «…хлеб Божий есть Т от, Который сходит с небес и дает жизнь миру» (Ин. 6: 33). Так хлеб — одно из евангельских самоименований Иисуса Христа: «Аз есмь хлеб жизни» (Ин. 6: 35), «ядущий его не умрет» (Ин. 6: 50). «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий» (Ин. 6: 27), — заповедал Господь.
Касьян в свои бесстрашные поучения барину вкладывает именно этот евангельский смысл. Крестьянин наделен поистине апостольским даром слова. Так, святые апостолы просили у Бога духовного укрепления, мужества на стезе христианского благовествования : «И ныне, Господи, ‹...› дай рабам Т воим со всею смелостью говорить слово Твое», «и исполнились все Духа Святого и говорили слово Божие с дерзновением» (Деяния. 4: 29, 31).
Одухотворенно-«дерзновенное» слово Божие на устах мужика не может в очередной раз не вызвать глубокого изумления автора-повествователя: «Я с удивлением поглядел на Касьяна. Слова его лились свободно; он не искал их, он говорил с тихим одушевлением и кроткоюважностию , изредка закрывая глаза. ‹...› Я, признаюсь, с совершенным изумлением посмотрел на странного старика» (3, 116). Так удивлялись словам апостолов «начальники народа и старейшины» в Новом Завете, «видя смелость Петра и Иоа нна и приметивши, что они люди некнижные и простые ‹...› между тем узнавали их, что они были с Иисусом» (Деяния. 4: 13).
Касьян говорит, как древний пророк, как прорицатель: «Его речь звучала не мужичьей речью: так не говорят простолюдины, и краснобаи так не говорят. Этот язык, обдуманно-торжественный и странный... Я не слыхал ничего подобного» (3, 116–117). Слова простолюдина по своей сути и по стилю уподобляются священнической проповеди. В «обдуманно-торжественной» речи Касьяна с большим духовным подъемом выражены представления о святости и грехе: «Кровь, — продолжал он, помолчав, — святое дело кровь! Кровь солнышка Божия не видит, кровь от свету прячется... великий грех показать свету кровь, великий грех и страх... Ох, великий!» (3, 116).
Мужик старается довести до сознания охотника библейское понятие о крови как предмете таинственном и священном. В Ветхом Завете кровь ассоциируется с самой жизнью, с живой душой: «кровь есть душа» (Второзаконие. 12: 23); «душа тела в крови», «ибо душа всякого тела есть кровь его, она душа его» (Левит. 17: 11, 14). Бог заповедал Ною: «…только плоти с душою ее, с кровью ее, не ешьте» (Бытие. 9: 5). В Новом Завете апостолы проповедуют язычникам «воздерживаться от идоложертвенного и крови» (Деяния. 15: 29), отказаться от использования крови в каких бы то ни было целях. Жертвенной кровью распятого на Голгофе Христа побеждена смерть, омыты грехи спасенного человечества.
Чаяния русского крестьянства о спасении Божьей милостью, о том, что «придут времена отрады от лица Господа» (Деяния. 3: 20), мечты о народном счастье находили воплощение в страннических скитаниях. Странничество, правдоискательство было своеобразной формой оппозиции неправедному устроению социальной жизни, протестом против угнетения и закрепощенности свободной в Боге человеческой души. Не только лучшей доли в социально-бытовом смысле искали простонародные странники, но и — прежде всего — духовно-нравственного идеала, Божьей «правды-истины», как она определилась в русском фольклорном сознании.
«Человек я бессемейный, непосед» (3, 119), — говорит о себе герой. Может быть, душу загадочного Касьяна, именующего себя «грешным», тяготит какой-то тайный грех, который требует искупления. Оттого он и мается, не находит душевного равновесия. Это гипотеза, но бесспорно другое: его неусидчивость, «непоседливость», «охота к перемене мест» вызваны томлением народного духа по высшей правде: «И не один я, грешный... много других хрестьян в лаптях ходят, по миру бродят, правды ищут...» (3, 119).
Универсальный в отечественной литературе мотив странничества в поэтике «Записок охотника» становится сквозным, находит свое разностороннее художественное выражение. Даже в рассказе об обездвиженной героине «Живые мощи» явственно звучит мотив паломничества, богомолья. Парализованная Лукерья представляет себя странницей среди других русских паломников-богомольцев: «Вижу я, что сижу я этак будто на большой дороге под ракитой, палочку держу оструганную, котомка за плечами и голова платком окутана — как есть странница! И идти мне куда-то далеко-далеко на богомолье. И проходят мимо меня все странники» (3, 336).
Вековечное русское странничество: «Сколько странников ходило и скитальцев по Руси… ‹...› Мало что переменилось, хоть сменялись, шли века» 13 — в наши дни нашло подкрепление в поэме Николая Мельникова «Русский крест». Здесь показана «дорога поисков силы и смысла жизни», «жажда чистоты душевной» 14 , как объясняет оптинский старец схиархимандрит Илий. В образе «странника с крестом» воплотились прошлое и настоящее России, ее грядущие судьбы, восхождение души к Богу:
Я грешил на свете много,
А теперь вот сам молюсь…
Е
сли все попросим Бога
За себя, за нашу Русь,
За грехи людские наши
И за весь позор и стыд —
Неужели ж Он откажет,
Неужели не простит? —
В пояс кланялся, прощался,
Крест на плечи поднимал
И
в дорогу отправлялся.
А куда — никто не знал… 15
Тургеневский Касьян в своих странствиях не находит искомого совершенства: «Справедливости в человеке нет, — вот оно что...» (3, 119). Но сам процесс поисков идеала приносит ему душевное облегчение: «Да и что! много, что ли, дома-то высидишь? А вот как пойдешь, как пойдешь, — подхватил он, возвысив голос, — и полегчит , право» (3, 119).
В образе героя духовный подъем, духовное раскрепощение соединяются с патриотическим чувством русского национального единства. Этот странник-правдоискатель — деятель и созерцатель одновременно. Ему открыта одухотворенная красота родной земли, любуясь которой Касьян испытывает глубокую любовь и нежность. Он одушевляет Русь, подбирает ласкательные имена ее городам и рекам — всем местам, где ему довелось побывать: «Ведь я мало ли куда ходил! И в Ромен ходил, и в Синбирск — славный град, и в самую Москву — золотые маковки; ходил на Оку-кормилицу, и на Цну-голубку , и на Волгу-матушку» (3, 119). Генетически герой связан с миром прекрасного : недаром он родом с Красивой Мечи. Места, где протекает эта река — Красивая Меча (или Мечь ), приток Дона, — считались одними из наиболее живописных в европейской части России.
Касьян не перестает удивляться чуду гармоничного Божьего мира. Для того чтобы видеть и всей душой воспринимать это чудо, нужно быть чудовидцем , духовно отзывчивым «очарованным странником». Именно таков Касьян. Религиозный характер носят его эстетические переживания красоты природы как Божьей благодати: «И солнышко на тебя светит, и Богу-то ты видней, и поется-то ладнее. Тут, смотришь, трава какая растет; ну, заметишь — сорвешь. Вода тут бежит, например, ключевая, родник, святая вода; ну, напьешься — заметишь тоже. Птицы поют небесные... А то за Курском пойдут степи, этакие степные места, вот удивленье, вот удовольствие человеку, вот раздолье-то, вот Божия-то благодать! ‹...› Эко солнышко! — промолвил он вполголоса, — эка благодать, Господи! эка теплынь в лесу!» (3, 119–120).
Любование героев «Записок охотника» своей Родиной — Русской землей —с ливается с голосом автора, рисующего с проникновенной любовью в каждом рассказе художественные картины природы. Точные до мельчайших деталей, узнаваемых примет тургеневские пейзажи представлены в их пространственной глубине, игре света и тени, оттенков красок, в переливах звуков и ароматов. В то же время картины эти настолько одухотворенные, что в них отчетливо ощутимо Божье всеприсутствие , незримое вышнее заступничество. Русский пейзаж, воссозданный не в линейной перспективе и даже не в трехмерном пространстве, а с выходом в некое четвертое — духовное — измерение, становится самостоятельным сквозным «героем» тургеневского цикла, формирует чувство национального единства, цельный и прекрасный образ Родины, богохранимой земли Русской.
Вот, например, как выглядят под пером Тургенева родные места на рассвете: «А между тем заря разгорается; вот уже золотые полосы протянулись по небу, в оврагах клубятся пары; жаворонки звонко поют, предрассветный ветер подул — и тихо всплывает багровое солнце. Свет так и хлынет потоком; сердце в вас встрепенется, как птица. Свежо, весело, любо! Далеко видно кругом. Вон за рощей деревня; вон подальше другая с белой церковью, вон березовый лесок на горе» («Лес и степь». 3, 355). Столь же христиански «осердечена » зарисовка летней ночи: «Картина была чудесная ‹...› Темное чистое небо торжественно и необъятно высоко стояло над нами со всем своим таинственным великолепием. Сладко стеснялась грудь, вдыхая тот особенный, томительный и свежий запах — запах русской летней ночи», и «тихо мигая, как бережно несомая свечка», затеплилась на небе «вечерняя звезда» («Бежин луг». 3, 90; 86).
В народнопоэтическом сознании живет неистребимая мечта о сказочном чуде, золотом «тридесятом царстве» — мире благоденствия, свободы и справедливости, где добро неизбежно одерживает верх над злом, правда пересиливает кривду.
Сказочность и странничество как формы духовной жизни народа соотносятся в жизни русского скитальца: «И идут они, люди сказывают, до самых теплых морей, где живет птица Гамаюн сладкогласная, и с дерев лист ни зимой не сыплется, ни осенью, и яблоки растут золотые на серебряных ветках, и живет всяк человек в довольстве и справедливости... И вот уж я бы туда пошел...» (3, 119).
С этими народно-странническими мечтами Касьяна с Красивой Мечи перекликаются детские грезы засыпающих в ночном маленьких героев «Бежина луга». Они убаюканы сладкими надеждами на дивное чудо в сказочной земле за «теплыми морями», куда отправляются птицы небесные:
«— Это кулички летят, посвистывают.
— Куда ж они летят?
— А туда, где, говорят, зимы не бывает.
— А разве есть такая земля?
— Далеко?
— Далеко, далеко, за теплыми морями.
Костя вздохнул и закрыл глаза» (3, 104).
В поэтизации странничества переплетаются мотивы фольклорные и христиан-ские . Священная, светлая птица Гамаюн в мифологическом ракурсе олицетворяет чудодейственное заступничество. Эта птица — Божья вестница, подательница надежды на чудо Божьего Промысла. Окрашенное в золотой цвет «иное царство, небывалое государство» соотносится с солнечным светом, с небесной сферой. В христианском контексте «золотое царство» соотносимо с евангельским откровением об уготованном для праведных светоносном «золотом граде» Небесном Иерусалиме, в котором «отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет»; «ночи там не будет»; «спасенные народы будут ходить во свете Его» (Откр . 21: 4, 24, 25).
Юродивец — третье прозвище Касьяна. Его поведение представляется окружающим странным, нелепым. И сам он выглядит человеком чудаковатым, почти безумным: «Неразумен я больно, с мальства » (3, 117). Касьян, не занятый, как все, крестьянским трудом, признается: «Ничем я этак не занят... Работник я плохой» (3, 117). Охотник мысленно соглашается с прозвищем героя, дивясь его необычной манере держаться, вести таинственные, малопонятные речи: «…последние слова Касьян произнес скороговоркой, почти невнятно; потом он еще что-то сказал, чего я даже расслышать не мог, а лицо его такое странное приняло выражение, что мне невольно вспомнилось название „юродивца ”» (3, 119).
На взгляд со стороны, «юродивец » подобен безумцу, хотя таким и не является. Касьян просветлен более многих крестьян, обладает широким кругозором, он грамотный человек: «Разумею грамоте. Помог Господь да добрые люди» (3, 117). В первоначальном издании рассказа герой говорил также о своем участии в церковных богослужениях: «Случается, так в церкви Божией на крылос меня берут по праздникам. Я службу знаю и грамоте тоже разумею» (3, 468).
Касьян скорее принимает вид безумца, как многие юродивые. Его «неразумность» — особого рода. Он не способен «промышлять», наблюдать свой эгоистический интерес. Христианская вера очищает ум и душу от маниакального стремления к наживе, корысти: «…не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками Царствия, которое Он обещал любящим Его?» (Иак . 2: 5)
В душе герой ведет напряженную внутреннюю работу, непрерывно размышляя об истинном предназначении человека в соответствии с Божьим замыслом: «Да это все под Богом, все мы под Богом ходим; а справедлив должен быть человек — вот что! Богу угоден, то есть» (3, 118). Недаром в нашем языке синонимы к слову «юродивый» — «блаженный», «Божий человек», «Христов человек». Духовное делание развивает в герое дар прозорливости, прорицания.
Таким же даром наделена Лукерья — героиня рассказа «Живые мощи».
Этот тургеневский шедевр с его глубинным религиозно-философским содержанием, весь проникнутый православным духом, вызывал заслуженное восхищение современников писателя и по сей день является предметом особого внимания читателей, литературоведов, философов, богословов, писателей.
Так, например, французский писатель и философ Ипполит Тэн признавался в письме Тургеневу: «Я прочел „Лукерью“ три раза кряду» (3, 514). Именно рассказ «Живые мощи» позволил И. Тэну осознать всемирное значение и духовное величие русской литературы по сравнению с литературами других стран: «Какой урок для нас, и какая свежесть, какая глубина, какая чистота! Как это делает явным для нас, что наши источники иссякли! Мраморные каменоломни, где нет ничего, кроме лужиц стоячей воды, а рядом неиссякаемый полноводный родник» (3, 514). Посвящая Тургеневу свой рассказ, навеянный «Касьяном с Красивой Мечи», Жорж Санд так отозвалась об авторе «Записок охотника»: «Вы — реалист, умеющий все видеть, поэт, чтобы все украсить, и великое сердце, чтобы всех пожалеть и все понять». После прочтения «Живых мощей» французская романистка на склоне лет признала превосходство русского писателя: «Учитель, — все мы должны пройти Вашу школу» (3, 426).
Даже более, чем Касьян, Лукерья вызывает у повествователя чувство безграничного изумления. Увидев ее, охотник буквально «остолбенел от удивления» (3, 327). Благоговение испытывает Тургенев перед мощью христианского духа, который обитает в немощном теле героини — в полном соответствии с антиномиями Нового Завета: «Господь сказал мне: „довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи”. ‹...› Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо, когда я немощен, тогда силен» (2 Кор . 12: 9–10).
С героиней рассказа — жизнерадостной крестьянской девушкой, красавицей Лукерьей, помолвленной невестой — незадолго до свадьбы приключилась неведомая болезнь, неподвластная лечению докторов. От начала болезни до кончины — без малого семь лет (семь — священное число духовного порядка) — обездвиженная Лукерья пролежала одна в плетеном сарайчике на пасеке. Внешне она так иссохла, что превратилась в почерневшую мумию, «живые мощи». Так медоносная пчела когда завершает свое благодатное земное предназначение, сохнет, чернеет, умирает.
Охотник, знавший девушку прежде, ошеломлен контрастным зрелищем: «Возможно ли? Эта мумия — Лукерья, первая красавица во всей нашей дворне, высокая, полная, белая, румяная, хохотунья, плясунья, певунья!Л укерья , умница Лукерья, за которою ухаживали все наши молодые парни, по которой я сам втайне вздыхал, я — шестнадцатилетний мальчик!» (3, 328).
Искрящаяся радостью и весельем физическая жизнь отлетела, сковалась неподвижностью, тишиной. Сарайчик Лукерьи напоминает усыпальницу, гробницу: «…темно, тихо, сухо; пахнет мятой, мелиссой. В углу приспособлены подмостки, и на них, прикрытая одеялом, какая-то маленькая фигура...» (3, 327).
Сакральный подтекст рассказа позволяет предположить, что Лукерья накануне замужества, то есть в один из переломных моментов жизни, когда человек становится наиболее уязвимым, подверглась бесовской атаке «врага рода человеческого». В это время она думала только о себе, о своей любви, о встречах со «статным, кудрявым» женихом: «Очень мы с Василием слюбились ; из головы он у меня не выходил» (3, 328–329). Безоглядное чувство, всепоглощающая сосредоточенность на личном счастье обезоруживают человека перед происками нечистой силы, выискивающей беззащитную жертву; могут привести к физической и духовной гибели.
Так, перед рассветом (согласно традиционным представлениям — время разгула нечисти , ее особой активности) девушке, завороженной ночными соловьиными трелями, почудился зов жениха: «…зовет меня кто-то Васиным голосом, тихо так: “Луша !..” Я глядь в сторону, да, знать, спросонья оступилась, так прямо с рундучка и полетела вниз — да ом землю хлоп! И, кажись, не сильно я расшиблась, потому — скоро поднялась и к себе в комнату вернулась. Только словно у меня что внутри — в утробе — порвалось... ‹...› — С самого того случая, — продолжала Лукерья, — стала я сохнуть, чахнуть; чернота на меня нашла; трудно мне стало ходить, а там уже — и полно ногами владеть; ни стоять, ни сидеть не могу; все бы лежала. И ни пить, ни есть не хочется: все хуже да хуже» (3, 329).
М. М. Дунаев считал, что в этой истории болезни кроется не только «несчастная случайность», но и «слабый намек, хоть и не вполне проявленный, на бесов-ское вмешательство» 16 . Из приведенного рассказа Лукерьи не «слабо», а вполне явственно проступает метафизический характер недуга, сразившего девушку. Лукавый голос, злокозненно маскируясь под призыв жениха, влечет ее в гибельную бездну («так прямо ‹...› и полетела вниз»).
Отголосок этой сцены — в рассказе «Бежин луг», когда Павлуша услышал ночью над рекой предвестие его скорой гибели — зовущий голосок утопленника Васи: «Только стал я к воде нагибаться, слышу вдруг зовут меня этак Васиным голоском и словно из-под воды: „Павлуша, а Павлуша!” Я слушаю; а тот опять зовет: „Павлуша, подь сюда”» (3, 104). Характерна реакция героев «Бежина луга», стремящихся при помощи крестного знамения отразить вредоносные нападки нечистой силы: «Ах Ты, Господи! ах Ты, Господи! — проговорили мальчики, крестясь» (3, 104).
В то же время в народном сознании живет убеждение, что истинная христиан-ская душа выстоит, одержит верх, несмотря на временную победу бесовщины. Эту мысль выразил один из мальчиков в рассказе «Бежин луг»: «Эка! — проговорил Федя после недолгого молчанья, — да как же это может этакая лесная нечистьхрестиянскую душу спортить » (3, 95).
Вера в Христа-Спасителя, религиозное миросозерцание Лукерьи, христианское смирение становятся для нее источником огромной духовной силы, несказанной душевной красоты. Портрет героини — также совершенно бестелесный — вызывает у автора представление о древних иконописных ликах, потемневших от времени: «Передо мною лежало живое человеческое существо, но что это было такое? Голова совершенно высохшая, одноцветная, бронзовая — ни дать ни взять икона старинного письма» (3, 327). По определению В. И. Даля, «мощи — нетленное тело угодника Божия». Тургеневская героиня, прозванная в народе «живые мощи», еще при жизни становится «истиннопреподобной » угодницей Божией.
Охотника крайне изумляет, что страдалица Лукерья не сетовала на судьбу, «рассказ свой вела почти весело, без охов и вздохов, нисколько не жалуясь и не напрашиваясь на участие» (3, 329). Односельчанам она также не докучает: «…от нее никакого не видать беспокойства; ни ропота от нее не слыхать , ни жалоб. Сама ничего не требует, а напротив — за все благодарна; тихоня, как есть тихоня» (3, 338), — рассуждает хуторской десятский.
В христианской модели мира человек пребывает не во власти языческого «слепого случая» или античного «фатума», но во власти Божественного Провидения. Случившееся с ней героиня расценивает как данный Богом крест, принимает Божью волю со смирением, с благодарностью и молитвой: «А то я молитвы читаю, — продолжала, отдохнув немного, Лукерья. — Только немного я знаю их, этих самых молитв. Да и на что я стану Господу Богу наскучать ? О чем я Его просить могу? Он лучше меня знает, чего мне надобно. Послал Он мне крест — значит, меня Он любит. Так нам велено это понимать. Прочту Отче наш, Богородицу, акафист В сем скорбящим — да и опять полеживаю себе безо всякой думочки . И ничего!» (3, 332). Она почти не может спать и тем исполняет заповедь: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна» (Мф . 26: 41). «Бодрствующая» героиня приучила себя не размышлять, а молитвенно созерцать «мир Божий, который превыше всякого ума» (Филип . 4: 7).
В народе поговаривают, что испытание тяжелой болезнью послано Лукерье в искупление за какой-то тайный грех: «Богом убитая, ‹...› — стало быть, за грехи; но мы в это не входим. А чтобы, например, осуждать ее — нет, мы ее не осуждаем. Пущай ее!» (3, 338).
Готовя рассказ к печати, Тургенев в письме к Я. П. Полонскому вспоминал о страшном времени голода 1841 года, когда «чуть не вымерли поголовно» Тульская и смежные с ней губернии (Орловская в том числе). Писатель воспроизводит народный отзыв, показывающий отношение простого человека к бедствию как ниспосланному свыше испытанию — во оставление грехов: «Ты и так Богом наказан, а тут ты еще грешить станешь?» (3, 511).
Так в чуткое православное сознание вживляется евангельское изречение апостола Петра: «…страдающий плотию перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией» (1 Пет. 4: 1, 2). В этом суть православно-аскетического взгляда на жизнь: винить в несчастьях не других, а самого себя; в бедствии видеть справедливое воздаяние, ведущее через глубокое покаяние к духовно-нравственному обновлению, возрождению и спасению.
Лукерья также считает, что болезнь послана во благо ее душе, и в этом смысле она счастливее физически здоровых людей: «Хоть бы то взять: иной здоровый человек очень легко согрешить может; а от меня сам грех отошел. Намеднись отец Алексей, священник, стал меня причащать да и говорит: „Тебя, мол, исповедовать нечего: разве ты в твоем состоянии согрешить можешь?” Но я ему ответила: „А мысленный грех, батюшка?” — „Ну, — говорит, а сам смеется, — это грех не великий”. — Да я, должно быть, и этим самым, мысленным грехом не больно грешна» (3, 330–331). Более того — она самим своим безропотным перенесением многолетних страданий «отмаливает» чужие грехи, грехи родителей: «…было мне видение — я уж и не знаю. Почудилось мне, будто я в самой этой плетушке лежу и приходят ко мне мои покойные родители — батюшка да матушка — и кланяются мне низко, а сами ничего не говорят. И спрашиваю я их: зачем вы, батюшка и матушка, мне кланяетесь? А затем, говорят, что так как ты на сем свете много мучишься, то не одну ты свою душеньку облегчила, но и с нас большую тягу сняла. И нам на том свете стало много способнее. Со своими грехами ты уже покончила; теперь наши грехи побеждаешь. И, сказавши это, родители мне опять поклонились — и не стало их видно: одни стены видны» (3, 335–336).
В общерусском православном смысле воспринял образ Лукерьи Б. К. Зайцев, назвав ее заступницей «за Россию грешную, за всех нас, грешных» 17 .
Плоть девушки умерщвлена, но дух ее возрастает. «Посему мы не унываем, — учит апостол Павел, — но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется» (2 Коринф. 4: 16). «Тело Лукерьи почернело, а душа — просветлела и приобрела особенную чуткость в восприятии мира и правды высшего, сверхмирного бытия» 18 , — справедливо отметил выдающийся богослов XX века архиепископ Иоанн Сан-Францисский (Шаховской). Героине, почти бестелесной, открываются высшие сферы духа, невыразимые в земном слове. В своем уединении она вступает в область сверхрационального религиозного познания: «Вы вот не поверите — а лежу я иногда так-то одна, и словно никого в целом свете, кроме меня, нету . Только одна я — живая! И чудится мне, будто что меня осенит... Возьмет меня размышление — даже удивительно. ‹...› Этого, барин, тоже никак нельзя сказать: не растолкуешь. Да и забывается оно потом. Придет, словно как тучка, прольется, свежо так, хорошо станет, а что такое было — не поймешь! Только думается мне: будь около меня люди — ничего бы этого не было и ничего бы я не чувствовала , окромя своего несчастья» (3, 333).
В снах-видениях открывается прямая связь чуткой христианской души с запредельным миром на пороге вечности. Вместо венка из васильков (в символическом контексте рассказа полевые васильки — намек на любовь к земному жениху Василию Полякову) девушка увенчана небесным сиянием — как нимбом святого: «Надеваю я месяц, ровно как кокошник, и так сама сейчас вся засияла, все поле кругом осветила» (3, 335). Свет в Евангелии не метафора и не образ, но выражение самой сущности Христа: «Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света» (Ин. 12: 36). В земной жизни жених оставил свою невесту-калеку. Но в духовных сферах праведницу одобряет и принимает сам Господь: «Глядь — по самым верхушкам колосьев катит ко мне скорехонько — только не Вася, а сам Христос! И почему я узнала, что это Христос, сказать не могу, — таким Его не пишут, — а только Он!» (3, 335). Лукерья становится «Христовой невестой» (устойчивое выражение, обозначающее умершую девушку или девушку, которая предпочла браку монашество): «Не бойся, говорит, невеста моя разубранная, ступай за Мною; ты у меня в Царстве Небесном хороводы водить будешь и песни играть райские. ‹... › т ут мы взвились! Он впереди... Крылья у Него по всему небу развернулись, длинные, как у чайки, — и я за Ним! И собачка должна отстать от меня. Тут только я поняла, что эта собачка — болезнь моя и что в Царстве Небесном ей уже места не будет» (3, 335).
На крыльях христианской веры героиня духовно воспарила, «достигла того состояния целостности и высшей простоты духа, когда человек мыслит уже не рациональным рассудком, а интуицией, духом, сердцем своего бытия. Это есть состояние сердечной чистоты, что есть начало уже Царствия Божия в человеке», — комментирует архиепископ Иоанн Сан-Францисский (Шаховской) 19 .
В своем отношении к жизни и к миру Лукерья проявляет себя столь одухотворенно-сострадательно , что вновь подкрепляет ассоциацию с бесплотными женскими ликами русских икон, особенно с чудотворным образом «Умиление». Выступая как заступница обездоленных , она совсем забывает о своем личном страдании: «Ничего мне не нужно; всем довольна, слава Богу, — с величайшим усилием, но умиленно (курсив мой. — А. Н.-С .) произнесла она. — Дай Бог всем здоровья! А вот вам бы, барин, матушку вашу уговорить — крестьяне здешние бедные — хоть бы малость оброку с них она сбавила! Земли у них недостаточно, угодий нет... Они бы за вас Богу помолились... А мне ничего не нужно — всем довольна » (3, 337). Здесь состояние умиления в его духовном смысле обозначает соприкосновение души с Божьей благодатью.
Истинная праведница боится прогневить Бога: не ропщет на свою участь, не мучается гневом, завистью, не проклинает, а благословляет мир Божий. Обездоленная и обездвиженная, но сильная духом, она не позволяет злу проникнуть в свою душу. Наоборот, ее душа вся светится добром, участливым отношением к людям. В ее положении, хуже которого отыскать вряд ли что возможно, она беспокоится о тех, кому еще труднее: «А что будешь делать? Лгать не хочу — сперва очень томно было; а потом привыкла, обтерпелась — ничего; иным еще хуже бывает. ‹... › у иного и пристанища нет! А иной — слепой или глухой! А я, слава Богу, вижу прекрасно и все слышу, все. Крот под землею роется — я и то слышу. И запах я всякий чувствовать могу, самый какой ни на есть слабый! Гречиха в поле зацветет или липа в саду — мне и сказывать не надо: я первая сейчас слышу. Лишь бы ветерком оттуда потянуло. Нет, что Бога гневить? — многим хуже моего бывает» (3, 330).
Земная жизнь Лукерьи завершается под слышимый только ею «сверху» колокольный звон, призывающий ее в вечность, в Царство Небесное, в соответствии с евангельским обетованием: «Претерпевший же до конца спасется» (Мф . 24: 13).
«Откровение души», «торжество бессмертного в тленном » — так определил суть тургеневского рассказа архиепископ Иоанн Сан-Францисский (Шаховской). По его справедливому суждению, Тургенев «не только выразил жизнь в ее последней тайне, он открыл человеческую бессмертную душу, не зависящую в своей глубине ни от чего внешнего, ни от каких материальных или экономических условий» 20 .
Преданность Божьей воле как замечательную особенность русского народа Тургенев проникновенно рисует и в рассказе «Смерть». То, как умеет умирать православный человек, также является предметом уважительного удивления писателя и в очередной раз подтверждает его мысль о русском народе «как самом удивительном народе на свете»: «Удивительно умирает русский мужик! Состоянье его перед кончиной нельзя назвать ни равнодушием, ни тупостью; он умирает, словно обряд совершает» (3, 200). Так, придавленный деревом во время рубки леса подрядчик Максим в свои последние минуты думает о Боге, о покаянии: «…за попом... послать... прикажите... Господь... меня наказал... ноги, руки, все перебито... сегодня… воскресенье... а я... а я... вот... ребят-то не распустил» (3, 199). Для православных день земной кончины — день рождения в жизнь вечную.
Антикрепостническое содержание тургеневского цикла глубоко и всесторонне изучено. В то же время необходимо заострить внимание на этой теме, рассматривая ее не только как историко-литературный факт, но как проблему, не теряющую своей актуальности и в наши дни.
Жестокосердные поработители народа — изощренный изувер помещик Пеночкин и его подручный — бурмистр Софрон («Бурмистр»), Хвалынский и Стегунов («Два помещика»), господин Зверков с его говорящей фамилией и такой же зоологической внешностью («Ермолай и мельничиха»); многие другие помещики, в том числе матушка охотника, в которой различимы черты Варвары Петровны — матери Тургенева («Живые мощи»). Все они стремятся свести подневольных людей к рабскому животному состоянию. Угнетатели не только распоряжаются судьбами крепостных, физически губят их непосильным рабским трудом, голодом, нуждой, телесными наказаниями, но методически убивают живую душу. Иных доводят до самоубийства, иных — до сумасшествия.
Вот один из крохотных эпизодов, повсюду рассыпанных в цикле рассказов, за которым стоит подлинная драма исковерканной человеческой судьбы: вскользь упоминается «подверженный сумасшествию резчик Павел», который «к каждому проезжему подходил с просьбой позволить ему жениться на какой-то девке Маланье, давно уже умершей» («Смерть». 3, 201–202). Столь же искалечены судьбы многих крепостных, лишенных по вине господ права на любовь, личное счастье: это горничная Арина и лакей Петрушка («Ермолай и мельничиха»), Татьяна и Павел («Контора»), Матрена («Петр Петрович Каратаев») и другие.
В предисловии к переводам тургеневских рассказов в журнале Чарльза Диккенса — английского писателя-христианина, наиболее близкого по духу русской литературе, — высказывалось негодование по поводу зверств «сильных мира сего», творящихся в стране, считающей себя «цивилизованной и христианской» (3, 430).
Не случайно официальные власти затеяли секретное следствие о «Записках охотника», усматривая в них политическую оппозиционность и опасность для правящего режима. Сотрудник Главного управления цензуры доносил министру просвещения: «…мне кажется, что книга г . Тургенева сделает более зла, чем добра ‹...›. Полезно ли, например, показывать нашему грамотному народу ‹...›, что однодворцы и крестьяне наши, которых автор до того опоэтизировал, что видит в них администраторов, рационалистов, романтиков, идеалистов, людей восторженных и мечтательных (Бог знает, где он нашел таких!), что крестьяне эти находятся в угнетении, что помещики, над которыми так издевается автор, выставляя их пошлыми дикарями и сумасбродами, ведут себя неприлично и противузаконно , что сельское духовенство раболепствует перед помещиками, что исправники и другие власти берут взятки или, наконец, что крестьянину жить на свободе привольнее, лучше» (3, 409). Как известно, далее последовали надзор тайной полиции, арест и ссылка «политически неблагонадежного» Тургенева.
Для подавляемой властью личности пространством свободы служит православная вера. Писатель показал, что крепостное право — рабство внешнее — не убило в русском народе внутренней свободы души и духа. Художественная логика тургеневского цикла рассказов неуклонно ведет к выводу о том, что люди не должны быть рабами людей. Люди не рабы, а дети Божьи: «Посему ты уже не раб, но сын; а если сын, то и наследник Божий чрез Иисуса Христа» (Гал . 4: 7). Тургенев утвердил богоподобное достоинство человеческой личности, ее духовную независимость. Человек рожден свыше, его Господь-Отец сотворил. И этот дар творения подкреплен даром истинной свободы — в Боге и от Бога. Те же, кто отнимает у человека этот дар Божий, суть богопротивники , бесы — носители зла.
Вот почему апостол Павел призывает: «Братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его; облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских ; потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных» (Ефес . 6: 10–12). В Новом Завете выражена вера в то, что во втором пришествии Христа «Он предаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть, и силу» (1Коринф. 15: 24).
Своеобразие изображения жизни в рассказах Тургенева предстает в динамике взаимодействующих планов бытия: национально-русского и вселенского; конкретно-исторического и философско-универсального; социально-политического и религиозно-нравственного; земного и надмирного ; сиюминутного и вневременного, вечного — всего того, что составляет живую русскую душу «Записок охотника».
______________________
1 Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. М.: Наука, 1979. Т. 3. С. 355. Далее сочинения И. С. Тургенева цитируются по этому изданию с указанием тома и страницы.
2 Гончаров И. А. Собр. соч. М., 1955. Т. VIII. С. 262; 108–109.
3 Тютчев Ф. И. Весенняя гроза: Стихотворения. Письма. Тула, 1984. С. 186.
4 J. vonGuenter . Leskov . RusslandsChristlichsterDichter . Jahrgang 1. 1926. S. 87.
5 Лесков Н. С. Собр. соч.: В 11 т. М.: ГИХЛ, 1956–1958. Т. 11. С. 12.
6 Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч.: В 20 т. М.: Худож . лит., 1970. Т. 9. С. 459.
7 Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. Т. 66. С. 409.
8 Короленко В. Г. Собр. соч. М., 1954. Т. V. С. 265–266.
9 Горький М. Полн. собр. соч. М.: Наука, 1972. Т. 15. С. 373.
10 Зайцев Б. К. Собр. соч.: В 11 т. М.: Русская книга, 1999–2001. Т. IX. С. 375.
11 Митрополит Вениамин (Федченков ). Молитва Господня. М.: Отчий дом, 2010. С. 166, 172.
12 Молодой перепел (примечание Тургенева. — А. Н.-С .).
13 Мельников Н. А. Русский крест. М.: Отчий дом, 2011. С. 33.
14 Т ам же. С. 4.
15 Т ам же. С. 36.
16 Дунаев М. М. Православие и русская литература. М., 1997. Ч. III. С. 37.
17 Зайцев Б. К. Собр. соч.: В 11 т. М.: Русская книга, 1999–2001. Т. IX. С. 436.
18 Иоанн Сан-Францисский (Шаховской), архиепископ. Беседы с русским народом. М.: Ладья, 1998.
19 Т ам же.
120 лет назад перестало биться сердце Николая Семёновича Лескова (1831-1895). 5 марта 1895 года самобытнейший писатель русский ушёл из жизни, сбросил надетые на него на земле "кожаные ризы". Однако духом своим и талантом он живёт с нами. "Думаю и верю, что "весь я не умру". Но какая-то духовная постать уйдёт из тела и будет продолжать вечную жизнь", - писал Лесков 2 марта 1894 года - за год до кончины, цитируя пушкинский "памятник нерукотворный". Главную свою задачу писатель видел в том, чтобы возжечь в людях "проблески разумения о смысле жизни", чтобы "что-нибудь доброе и запало в ум" и сердце читателя.
К великому сожалению, современное состояние общества таково, что массе людей не до классиков литературы и не до чтения вообще. В качестве "источника познаний", по большей части вредоносного для духовно-нравственного здоровья нации, выступают компьютер и телевизор…
В связи с Лесковым вспоминают обычно только "Левшу" и "Очарованного странника", да и то лишь потому, что видели суррогаты этих произведений на экране: по "Сказу о тульском косом Левше и о стальной блохе" снят мультик, а по мотивам "Очарованного странника" - художественный фильм.
Даже на родине писателя в Орле немногие могут назвать героев лесковских книг в композиции памятника писателю, установленного более 30 лет назад. Уникальный, единственный в мире орловский Дом-музей Н.С. Лескова не был отреставрирован даже к своему 40-летию (июль 2014 года). И до сих пор стоит музей сирый и убогий: разрушается фундамент, растрескались и развалились каменные ступеньки, облупилась краска на деревянной обшивке окон и стен, протекает кровля, подвергая опасности бесценные экспонаты. Только после выступлений в прессе местные чиновники от культуры спохватились и наобещали прикрыть этот позор, но только лишь к 2017 году. И впрямь: обещанного три года ждут. А что случится за эти три года с обветшавшим зданием лесковского Дома-музея, одному Богу известно.
Видимо, настолько безмерно щедра наша земля на таланты первой величины, что вошло в привычку не замечать и не ценить их. В одной из своих статей о Тургеневе Лесков с болью признавал библейскую истину о судьбе пророков: "В России писатель с мировым именем должен разделить долю пророка, которому нет чести в отечестве своём". Горькие эти слова в полной мере относятся и к самому Лескову.
Небывалый уникальный талант, многокрасочный художественный мир писателя ни при его жизни, ни долгое время после смерти не могли оценить по достоинству. Знаток лесковского творчества, библиограф и журналист П.В. Быков отмечал в 1890-м году: "Терниями был повит многотрудный путь нашего писателя, и дорого достались ему литературная слава и то глубокое уважение, те симпатии, какими он теперь пользуется. Лескова долго не понимали, не хотели оценить его благороднейших побуждений, положенных в основу каждого художественного произведения, каждой маленькой заметки".
"Достоевскому равный, он - прозёванный гений", - стихотворная строчка Игоря Северянина о Лескове до недавнего времени звучала горькой истиной. Автора "Соборян", "Запечатленного Ангела", "Очарованного странника" и множества других шедевров русской классической прозы пытались представить то бытописателем, то рассказчиком анекдотов, то словесным "фокусником"; в лучшем случае - непревзойдённым "волшебником слова". Так, современная Лескову литературная критика справедливо усматривала в нём "чуткого художника и стилиста" - и не более: "Лесков характеризуется своим стилем едва ли не больше, чем своими взглядами и сюжетом <…> Как, по уверению Рубинштейна, на каждой ноте сочинений Шопена стоит подпись "Фредерик Шопен", так на каждом слове Лескова имеется особое клеймо, свидетельствующее о принадлежности именно этому писателю".
Приведённые критиком сопоставления хороши, но в отношении Лескова слишком односторонни, узки. Одной стилевой меркой "безмерного" автора не измеришь. Так, по воспоминаниям А.И. Фаресова - первого биографа Лескова, на склоне лет писатель с горечью сетовал на то, что литературная критика осваивала в основном "второстепенные" аспекты его творчества, упуская из виду главное: "Говорят о моём "языке", его колоритности и народности; о богатстве фабулы, о концентрированности манеры письма, о "сходстве" и т.д., а главного не замечают <...> "сходство"-то приходится искать в собственной душе, если в ней есть Христос".
В неустанных религиозно-нравственных исканиях и раздумьях писателя кроется ключ к определению самобытного характера его творчества - исповедального и проповеднического в одно и то же время.
"Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоём, то есть слово веры, которое проповедуем" (Рим. 10: 8), - благовествовал святой апостол Павел. На пути в Дамаск он обрёл свет Христовой истины и своё главное призвание - евангельскую проповедь: "Тогда я сказал: Господи, что мне делать? Господь же сказал мне: встань и иди в Дамаск, и там тебе сказано будёт всё, что назначено тебе делать" (Деян. 22: 10).
Лесков, подобно апостолу, совершал свой переход "из Савлов в Павлы", своё восхождение к свету Истины. Страница с заглавиями предполагаемых творений из лесковской записной книжки, экспонируемая в Доме-музее Н.С. Лескова в Орле, свидетельствует, что среди других творческих замыслов писатель обдумывал произведение под названием "Путь в Дамаск". "Путь в Дамаск совершает всякий человек, ищущий света", - отметил в своей записной книжке Лесков.
Он не позволял никаким давлениям извне направить в ложное русло его собственный, личный, глубоко выстраданный поиск: "я шёл дорогою очень трудною, - всё сам брал, без всякой помощи и учителя и вдобавок ещё при целой массе сбивателей, толкавших меня и кричавших: "Ты не так… ты не туда… Это не тут… Истина с нами - мы знаем истину". А во всём этом надо было разбираться и пробираться к свету сквозь терние и колючий волчец, не жалея ни своих рук, ни лица, ни одежды".
Своё неуёмное стремление к обретению Истины, дабы, по апостольскому слову, "приобресть Христа и найтись в Нём" (Филип. 3: 8), писатель передавал и близким людям, и большой семье своих читателей. Так, обращаясь в 1892 году к своему приёмному сыну Б.М. Бубнову, Лесков писал: ""Кто ищет - тот найдёт". Не дай Бог тебе познать успокоение и довольство собою и окружающим, а пусть тебя томит и мучит "святое недовольство"".
Такое же "святое недовольство" руководило писателем в его художественном исследовании русской жизни. Творческий мир Лескова выстраивался на абсолютных полярностях. На одном полюсе - "иконостас святых и праведных земли русской" в цикле рассказов и повестей о праведниках ("Человек на часах", "На краю света", "Однодум", "Пигмей", "Пугало", "Фигура", "Кадетский монастырь", "Инженеры-бессребреники" и многие другие). На другом - "Содом и Гоморра" в рассказе "Зимний день (Пейзаж и жанр)"; ужасающий духовный голод современности в поздних произведениях: "Импровизаторы (Картинка с натуры)", "Юдоль (Рапсодия)", "Продукт природы", "Административная грация (Zahme Dressur в жандармской аранжировке)", "Загон" и других рассказах и повестях, полных страдания, боли и горечи.
Но и в "загоне" русской жизни писателя не оставляло созидательное "стремление к высшему идеалу". Вникая в глубинные пласты Священного Писания, Лесков творил свой - явленный в слове - художественный образ мира. Это путь от ненависти и злобы, богоотступничества и предательства, отвержения и отторжения, попрания духовности и разрыва всех человеческих связей - к искуплению каждым своей вины через принятие христианской веры, любовь к Богу и ближнему, покаяние, следование идеалам Евангелия и завету Христа: "Иди и впредь не греши" (Ин. 8: 11).
От добровольно возложенных на себя обязанностей "выметальщика сора" Лесков переходит к реализации своего высокого призвания к религиозно-художественному поучению. В основе многих произведениях последнего периода творчества ("Христос в гостях у мужика", "Томление духа", "Под Рождество обидели" и других) лежит драгоценное слово Божие. Писатель выдерживает основные жанровые особенности и сам стиль православной проповеди, с её ориентацией на звуковое, живое восприятие художественного слова, внутреннюю диалогичность мысли, усиленную восклицаниями, риторическими вопросами, особой ритмической организацией напряжённой, взволнованной речи. Так, притчевый, учительный смысл "житейских случаев", изложенных в святочном рассказе "Под Рождество обидели", в финале переходит в рождественскую проповедь; устанавливается родство духовное, которое "паче плотского", между писателем-проповедником и его "паствой": "Может быть, и тебя "под Рождество обидели", и ты это затаил в душе и собираешься отплатить? <…> Подумай, - убеждает Лесков. - <…> Не бойся показаться смешным и глупым, если ты поступишь по правилу Того, Кто сказал тебе: "Прости обидчику и приобрети в нём брата своего"".
Это христианское наставление в одном из последних рассказов Лескова соотносится с руководством духовного пути преподобного Нила Сорского. Древнерусский святой "нестяжатель" в назидание ученику своему писал: "Сохрани же ся и тщися не укорити и не осудити никого ни в чём". У Лескова в одном из писем есть знаменательные слова: "я не мщу никому и гнушаюсь мщения, а лишь ищу правды в жизни". Такова и его писательская позиция.
Лесков отважился указать на "немощи" и "нестроения" тех церковнослужителей, которые не стоят на должной духовно-нравственной высоте и тем самым вводят в соблазн не одного, а многих из "малых сих, верующих" (Мк. 9: 42) в Господа. И в то же время писатель создавал замечательные образы православных священников - вдохновенных христианских наставников, которые способны "расширить уста своя" честным словом церковной проповеди. Писатель изображал таких светочей Православия на протяжении всего своего творческого пути: от начала (отец Илиодор в дебютном рассказе "Засуха" - 1862) - к середине ("мятежный протопоп" Савелий Туберозов в романе-хронике "Соборяне" - 1872; "благоуветливые" образы архипастырей: "пленительно добрый Филарет Амфитеатров, умный Иоанн Соловьёв, кроткий Неофит и множество добрых черт в других персонажах" - в цикле очерков "Мелочи архиерейской жизни" - 1878) - и до заката дней (отец Александр Гумилевский в рассказе "Загон" - 1893).
Всем "художественным поучением" своего творчества Лесков сам стремился приблизиться к уяснению "высокой правды" и исполнить то, что "Богу угодно, чтобы "все приходили в лучший разум и в познание истины"".
О самом себе писатель говорил: "Я отдал литературе всю жизнь, <…> я не должен "соблазнить" ни одного из меньших меня и должен не прятать под стол, а нести на виду до могилы тот светоч разумения, который мне дан Тем, пред очами Которого я себя чувствую и непреложно верю, что я от Него пришёл и к Нему опять уйду <…> я верую так, как говорю, и этою верою жив я и крепок во всех утеснениях".
Незадолго до смерти Лесков размышлял о "высокой правде" Божьего суда: "совершится над всяким усопшим суд нелицеприятный и праведный, по такой высокой правде, о которой мы при здешнем разуме понятия не имеем". Писатель скончался так, как ему и желалось: во сне, без страданий, без слёз. Лицо его, по воспоминаниям современников, приняло самое лучшее выражение, какое у него было при жизни - выражение вдумчивого покоя и примирения. Так завершилось "томленье духа" и свершилось его освобождение.
Алла НОВИКОВА-СТРОГАНОВА
Доктор филологических наук, профессор, член Союза писателей России (Москва), продолжатель традиций православного литературоведения.
Автор трёх монографий и свыше 500 опубликованных в России и за рубежом научных и художественно-публицистических работ о творчестве Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, Н.С. Лескова, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова, И.А. Бунина, Ч. Диккенса и других классиков мировой литературы.
За книгу "Христианский мир И.С. Тургенева" (издательство "Зёрна-Слово", 2015) удостоена Золотого Диплома VI Международного славянского литературного форума "Золотой Витязь".
Удостоена награды "Бронзовый Витязь" на VII Международном Славянском Литературном форуме "Золотой Витязь" (октябрь, 2016) за статьи-исследования творчества Ф.М. Достоевского.
"Копите любовь в сердцах ваших"
Федор Михайлович Достоевский (1821–1881) создал целую художественную вселенную, в центре которой идеальный образ Христа: "Христос был вековечный, от века идеал, к которому стремится и по закону природы должен стремиться человек". Творческое наследие писателя-пророка, непревзойденного по глубине духовных проникновений, особенно благодатно для духовно-нравственного формирования человеческой личности.
Основой педагогической доктрины писателя явилась религиозная идея о людях как чадах Отца Небесного; о человеке как венце творения, созданного по образу и подобию Божию; об уникальности и неповторимой ценности каждой человеческой личности. О своем первенце - дочери Соне - Достоевский писал ее крестному отцу А.Н. Майкову в мае 1868 года: "Это маленькое трехмесячное создание, такое бедное, такое крошечное - для меня было уже и лицо, и характер. Она начинала меня знать, любить и улыбалась, когда я подходил. Когда я своим смешным голосом пел ей песни, она любила их слушать. Она не плакала и не морщилась, когда я ее целовал; она останавливалась плакать, когда я подходил". После смерти его "первого дитяти" в младенческом возрасте горе писателя было безутешным: "И вот теперь мне говорят в утешение, что у меня еще будут дети. А Соня где? Где эта маленькая личность, за которую я, смело говорю, крестную муку приму, только чтоб она была жива?" (15, 370–371).
В очерке "Фантастическая речь председателя суда" (1877) читаем: "...у ребенка, даже у самого малого, есть тоже и уже сформировавшееся человеческое достоинство" (14, 222). Не случайно известный адвокат А.Ф. Кони отметил о Достоевском: "На широком поприще творческой деятельности он делал то же, к чему стремимся мы в нашей узкой, специальной сфере. Он стоял всегда за нарушенное, за попранное право, ибо стоял за личность человека, за его достоинство, которые находят себе выражение в этом праве".
Защита достоинства и ценности человеческой личности - основной пафос произведений писателя. Его новаторство заключается в том, что "маленькие люди" (в современном словоупотреблении - "простые люди") изображены не только в социальной ипостаси. Изнутри показано их самосознание, требующее признания ценности каждого человека как Божьего создания ("Бедные люди", "Записки из Мертвого дома", "Униженные и оскорбленные", "Записки из подполья", "Преступление и наказание", "Подросток" и др.). Человеку необходимо, чтобы он был признан именно как человек, как неповторимая личность. Это одна из основных его нематериальных потребностей.
Если обратиться к этимологии слова достоинство, можно глубже уяснить его сущность. Корень находим в древнерусском слове достой. В Словаре живого великорусского языка В.И. Даля дается следующее толкование: "Достой - приличие, приличность, сообразность; чего стоит человек или дело, по достоинству своему". Это исконно русское слово достой - корневая основа фамилии Достоевский.
"Главная педагогия - родительский дом", - был убежден писатель. Здоровые духовно-нравственные основания, заложенные в семье, подкрепляют и делают более плодотворным дальнейший процесс обучения и образования: "...нанять учителя для преподавания детям наук не значит, конечно, сдать ему детей так сказать, с плеч долой, чтоб отвязаться от них и чтоб они больше уж вас не беспокоили. Наука наукой, а отец перед детьми всегда должен быть как бы добрым, наглядным примером всего того нравственного вывода, который умы и сердца их могут почерпнуть из науки. Сердечная, всегда наглядная для них забота ваша о них, любовь ваша к ним согрели бы как теплым лучом всё посеянное в их душах, и плод вышел бы, конечно, обильный и добрый" (14, 223).
"Искра Божья" - первостепенное, что выделяет человека среди других существ. В то же время "сделаться человеком нельзя разом, а надо выделаться в человека". Писатель справедливо полагал, что для становления личности одного разума, образованности недостаточно, поскольку "образованный человек - не всегда человек честный и что наука еще не гарантирует в человеке доблести". Более того - "образование уживается иногда с таким варварством, с таким цинизмом, что вам мерзит" (3, 439), - утверждал Достоевский в "Записках из Мертвого дома"(1862).
Родителям, наставникам, учителям - всем тем, кому доверено воспитание юных душ, необходимо постоянно заботиться о самовоспитании и самодисциплине: "Всякий ревностный и разумный отец знает, например, сколь важно воздерживаться перед детьми своими в обыденной семейной жизни от известной, так сказать, халатности семейных отношений, от известной распущенности их и разнузданности, воздерживать себя от дурных безобразных привычек, а главное - от невнимания и пренебрежения к детскому их мнению о вас самих, к неприятному, безобразному и комическому впечатлению, которое может зародиться в них столь часто при созерцании нашей бесшабашности в семейном быту. Верите ли вы, что ревностный отец даже должен иногда совсем перевоспитать себя для детей своих" (14, 225).
Достоевский учил уважительному отношению к ребенку, говорил о благотворном взаимовлиянии детей и взрослых: "Мы не должны превозноситься над детьми, мы их хуже. И если мы учим их чему-нибудь, чтобы сделать их лучше, то и они нас делают лучше нашим соприкосновением с ними. Они очеловечивают душу нашу".
В серии очерков из "Дневника писателя", который строится в форме свободного разговора, непосредственного общения с читателями, Достоевский проводит своего рода "родительское собрание", выступает как руководитель своеобразного "педагогического совета". Он предостерегает родителей от лености, равнодушия, "ленивой отвычки" от "исполнения такой первейшей естественной и высшей гражданской обязанности, как воспитание собственных детей для них много надо сделать, много потрудиться, а стало быть, много им пожертвовать из собственного отъединения и покоя" (14, 221–222). Процесс воспитания, с точки зрения Достоевского, - это непрестанный самоотверженный труд: "...воспитание детей есть труд и долг, для иных родителей сладкий, несмотря на гнетущие даже заботы, на слабость средств, на бедность даже, для других же, и даже для очень многих достаточных родителей, - это самый гнетущий труд и самый тяжелый долг. Вот почему и стремятся они откупиться от него деньгами, если есть деньги" (14, 223).
Отцам семейства, которые утверждают, что сделали "для детей своих всё" (14, 222), а на деле "лишь откупились от долга и от обязанности родительской деньгами, а думали, что уже всё совершили" (14, 223), Достоевский напоминает, что "маленькие детские души требуют беспрерывного и неустанного соприкосновения с вашими родительскими душами, требуют, чтоб вы были для них, так сказать, всегда духовно на горе, как предмет любви, великого нелицемерного уважения и прекрасного подражания" (14, 223). Писатель призывает накапливать Божие - "копить любовь", а не кесарево - деньги.
Анализируя проблемы и трудности семейного воспитания, он уделяет особое внимание вопросу о наказаниях. Достоевский объясняет их применение небрежением "слабых, ленивых, но нетерпеливых отцов", которые, если деньги не помогают, "прибегают обыкновенно к строгости, к жестокости, к истязанию, к розге", которая "есть продукт лени родительской, неизбежный результат этой лени": "Не разъясню, а прикажу, не внушу, а заставлю" (14, 222–223).
Последствия подобных "методов воздействия" губительны для ребенка физически и духовно: "Каков же результат выходит? Ребенок хитрый, скрытный непременно покорится и обманет вас, и розга ваша не исправит, а только развратит его. Ребенка слабого, трусливого и сердцем нежного - вы забьете. Наконец, ребенка доброго, простодушного, с сердцем прямым и открытым - вы сначала измучаете, а потом ожесточите и потеряете его сердце. Трудно, часто очень трудно детскому сердцу отрываться от тех, кого оно любит; но если оно уже оторвется, то в нем зарождается страшный, неестественно ранний цинизм, ожесточение, и извращается чувство справедливости" (14, 224).
Излечить такие психологические травмы крайне сложно. Ранящие душу ребенка воспоминания предстоит "непременно искоренить, непременно пересоздать, надо заглушить их иными, новыми, сильными и святыми впечатлениями" (14, 226).
Писатель призывает оградить детей от домашней тирании: "...веря в крепость нашей семьи, мы не побоимся, если, временами, будут исторгаемы плевелы, и не испугаемся, если будет изобличено и преследуемо даже злоупотребление родительской власти. Святыня воистину святой семьи так крепка, что никогда не пошатнется от этого, а только станет еще святее" (13, 82–83).
Относительно расхожего утверждения о том, что "государство только тогда и крепко, когда оно держится на крепкой семье", Достоевский в очерке "Семья и наши святыни. Заключительное словцо об одной юной школе" (1876) справедливо замечал: "Мы любим святыню семьи, когда она в самом деле свята, а не потому только, что на ней крепко стоит государство" (13, 82).
Требовательное, взыскующее отношение к насущным проблемам "отцов и детей", семьи и общества объясняется истовой позицией Достоевского как христианского писателя, патриота и гражданина: "Я говорю от лица общества, государства, отечества. Вы отцы, они ваши дети, вы современная Россия, они будущая: что же будет с Россией, если русские отцы будут уклоняться от своего гражданского долга и станут искать уединения или, лучше сказать, отъединения, ленивого и цинического, от общества, народа своего и самых первейших к ним обязанностей" (14, 226).
Актуальность этих писательских раздумий не только не снизилась, но еще более возросла в наши дни. Катастрофично современное состояние детской смертности, насилия, жестокого обращения с детьми, вредного, растлевающего влияния на их умы и души. Сегодня так же необходимо признать, как признавал Достоевский: "Тяжело деткам в наш век взрастать, сударь!" (13, 268). В очерке "Земля и дети"(1876) писатель в который раз настойчиво обращается ко всем тем, кому вверено попечение о подрастающем поколении: "Я ведь только и хотел лишь о детках, из-за того вас и обеспокоил. Детки - ведь это будущее, а любишь ведь только будущее, а об настоящем-то кто ж будет беспокоиться. Конечно, не я, и уж наверно не вы. Оттого и детей любишь больше всего" (13, 268).
Христианско-воспитательное учение Достоевского получило многообразное воплощение в письмах, дневниках, заметках, публицистике; наиболее глубокую разработку - в художественном творчестве, во всех без исключения произведениях. Можно утверждать, что творчество писателя в целом - своего рода "религиозно-педагогическая поэма".
Достоевский в романе "Подросток" (1875), в серии очерков и статей исследовал проблему "случайного семейства" и пришел к выводу, что "случайность современного русского семейства состоит в утрате современными отцами всякой общей идеи в отношении к своим семействам, общей для всех отцов, связующей их самих между собою, в которую бы они сами верили и научили бы так верить детей своих, передали бы им эту веру в жизнь. самое присутствие этой общей, связующей общество и семейство идеи - есть уже начало порядка, то есть нравственного порядка, конечно, подверженного изменению, прогрессу, поправке, положим так, - но порядка" (14, 209–210).
С утратой общей идеи и идеалов также изнутри подрывается лад современной семьи. Понятия: "супружество", "семья", "отцовство", "материнство", "детство" духовно опустошаются, становясь лишь правовыми категориями и терминами. Отношения в семье зачастую строятся не на незыблемом "камне" духовно-нравственного фундамента, а на зыбучем "песке" формально-юридической связи сторон брачного контракта, гражданско-правового договора, наследственного права и т.п. Когда иссякает любовь и нет глубинной духовной опоры, скрепляющей домашний очаг, то неизбежно берет верх холодно-юридический путь расчетов, эгоистических выгод. Семья становится ненадежной, зыбкой, "случайным семейством" - по определению Достоевского.
"Больные" вопросы: "как и чем и кто виноват?"; как прекратить детские страдания; как "сделать что-то такое, чтобы не плакало больше дитё" (9, 565) - с необычной силой поставлены в последнем романе "великого пятикнижия" "Братья Карамазовы". Среди его основных идей - сокровенная мысль: достижение мировой гармонии "не стоит слезинки хотя бы одного только замученного ребенка" (9, 275).
Не ограничиваясь средствами убеждения неумелых наставников, нерадивых попечителей, равнодушных чиновников, Достоевский, как к последнему прибежищу, обращался к упованию на помощь Господню: чтобы "Бог очистил взгляд ваш и просветил вашу совесть. О, если научитесь любить их (детей. - А. Н.-С.), то, конечно, всего достигнете. Но ведь даже и любовь есть труд, даже и любви надобно учиться, верите ли вы тому?" (14, 225).
Писательское, педагогическое и родительское credo Достоевского можно определить как педагогику христианской любви. "Нельзя воспитать того, кто нас не любит", - говорил Сократ. Прежде надо самим самоотверженно полюбить детей, не уставал повторять Достоевский. Его раздумья о состоянии воспитания, педагогические советы, рекомендации, уроки и призывы выливались подчас в слова чистой молитвы - поистине всемирной - за родителей, детей, отечество, за все человечество как детей единого Отца Небесного: "Итак, да поможет вам Бог в решении вашем исправить ваш неуспех. Ищите же любви и копите любовь в сердцах ваших (выделено мной. - А. Н.-С.). Любовь столь всесильна, что перерождает и нас самих. Любовью лишь купим сердца детей наших, а не одним лишь естественным правом над ними. Вспомните тоже, что лишь для детей и для их золотых головок Спаситель наш обещал нам “сократить времена и сроки”. Ради них сократится мучение перерождения человеческого общества в совершеннейшее. Да совершится же это совершенство и да закончатся, наконец, страдания и недоумения цивилизации нашей!" (14, 227).
Писатель оставил неординарные и нелегкие для исполнения заветы: не подменять ложными кумирами христианские идеалы и не отдавать их на поругание; не дать "низложить ту веру, ту религию, из которой вышли нравственные основания, сделавшие Россию святой и великой". За прошедшее время значимость этих задач не уменьшилась. Жизнь подтверждает глубокую правоту непреходящих заветных идей Достоевского.
Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1972–1990. Т. 20. С. 172.
Достоевский Ф.М. Собр. соч.: В 15 т. Л.: Наука, 1988–1996. Т. 15. С. 370. (Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с обозначением тома и страницы арабскими цифрами.)
Кони А.Ф. Федор Михайлович Достоевский // Воспоминания о писателях. М.: Правда, 1989. С. 229.
Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. СПб.; М.: Тип. М.О. Вольфа, 1880–1882. Т. 1. С. 479.