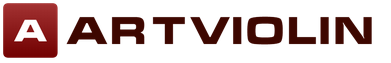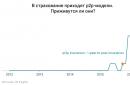Романтический портрет исчезающей эпохи. В Русском музее проходит выставка работ мастеров русского символизма - Виктора Борисова-Мусатова и его последователей - участников объединения «Голубая роза» - Николая Крымова, Павла Кузнецова, Николая Сапунова, братьев Милиоти и многих других. Атмосфера размеренной жизни дворянских усадеб - на нескольких десятках полотен из собрания музея и частных коллекций.
Они писали на тему сказок, грез и снов. Обращались к миру театра. И Востока - им казалось, что там ещё сохранилась гармоничная жизнь, в отличие от Запада, где бетонные коробки городов изуродовали человеческую природу. Это символисты - художники переломного времени. Они создавали свой ностальгический мир, сожалея об исчезающем быте дворянства.
«Отказ от рассказов живописи, перенос внимания на колорит, на линию, на цветовое пятно - это художники считали самым главным. Потому что именно цвет и линии должны передать те или иные переживания или состояния героев», - отмечает куратор выставки Владимир Круглов.
Один из первых в России, кто посредством кисти и красок заговорил на языке символизма - Виктор Борисов-Мусатов. Горбатый с детства, маленького роста, он всю жизнь стремился к утонченной красоте. Художественное образование получал обрывками, но много работал самостоятельно. Три зимы провел в Париже, изучая французское искусство, и в 1898 году написал знаменитый «Автопортрет с сестрой». Это, по мнению искусствоведов, стало отправной точкой для целого художественного движения в России. Спустя всего несколько лет, группа символистов - последователей Борисова-Мусатова объединилась в сообщество «Голубая роза». Тогда же прошла первая их совместная выставка.
«В момент, когда экспонировалась выставка "Голубая роза", ругались со страшной силой. Считали, что это верх декадентства, распад в искусстве. И что художники просто валяют дурака», - рассказывает Владимир Круглов.
Расцветом русского символизма стал 1907 год. Тогда в «Голубую розу» входило уже восемь живописцев. Среди них - Кузнецов, Милиоти, Сапунов. Поэт Сергей Маковский назвал их работы «тихой часовней в искусстве». Художники-символисты разделяли идеи писателей того времени о двоемирии, где обыденная реальность - лишь отражение романтического мира высшего света.
«У этих художников есть некоторая сказочность, некий поэтизм, который привлекает всегда. А ещё это исполнено великолепным художественным языком, прекрасно по цвету, прекрасно по ритму. Все это вместе создает такую гармонию», - поясняет заместитель директора Русского музея по научной работе Евгения Петрова.
Свободное отношение к линии и цвету, которое характерно для символизма, должно было, но лишь отчасти действительно стало толчком к новым поискам художников. В том числе, это повлияло и на становление авангарда. Но переломная эпоха - революция - внесла свои коррективы. В конце 20-х годов «голуборозовцев» ожидаемо обвинили в формализме. Общество художников, названное в честь нежного горного цветка из стихотворения Бальмонта, распустили. А его наследие в полной мере вернулось зрителю лишь спустя сто лет.
В Русском музее вспомнили, что в марте 1907 года в Москве по инициативе и на средства мецената, коллекционера и издателя Николая Рябушинского открылась выставка художественного общества «Голубая роза» . Считается, что название группы придумано поэтом Валерием Брюсовым.
Экспозиция тогда развернулась в доме фарфорового фабриканта М. С. Кузнецова на Мясницкой улице. В выставке участвовали шестнадцать художников, объединенных глубоким увлечением идеями символизма, погружением в мир неуловимых чувств и сложных переживаний. Именно с «Голубой розы» история искусства ведет летопись русского авангарда. Молодые художники, выпускники Московского училища живописи, ваяния и зодчества Николай Крымов, Павел Кузнецов, Сергей Судейкин, Николай Сапунов, Мартирос Сарьян, Петр Бромирский, Петр Уткин, братья Милиоти и другие учителем своим считали выдающегося представителя Серебряного века Виктора Борисова-Мусатова (1870–1905).
«Голуборозовцев» вдохновлял его уход в поэтический, идеализированный мир старых дворянских гнезд, далеких от мимолетности и всеобщего смятения современной переломной эпохи, его пастели и темперы в нежных приглушенных тонах. На недавно открывшейся выставке в Михайловском (Инженерном) замке представлено около восьмидесяти живописных полотен, работ в графике, театральных эскизов и костюмов художников круга «Голубой розы» и творения Виктора Борисова-Мусатова, среди которых и знаменитое «Изумрудное ожерелье» («У водоема»).
В.Э. Борисов-Мусатов
«У водоема»
1902

В.Э. Борисов-Мусатов
«Деревце»
1896-1898
Государственный Русский музей

Николай Крымов
«После весеннего дождя»
1908
Государственный Русский музей

В середине апреля 1917 года на страницах "Русских ведомостей" Абрам Эфрос, раздумывая, отчего такое "крупнейшее событие", как персональная выставка В.Э. Борисова-Мусатова, прошло почти незамеченным, писал: "Странная судьба у этого замечательного мастера! Тишайшему, ему фатально приходилось бороться с грохотом больших общественных катаклизмов каждый раз, когда его творчество должно было стать центром усиленного общественного внимания" (1).
Критик перечислил эти "заглушающие" события: смерть художника совпала с революцией 1905 года, первая посмертная выставка с первой государственной думой, вторая - 1915 года с ужасным отступлением русских войск, в 1917 опять же гул революционной волны. Эфрос, как всегда, оказался провидчески дальнозорок.
Чуть раньше Эфроса, в марте 1917 года другой рецензент той же выставки с подкупающей откровенностью мотивировал это полнейшее равнодушие публики к прекрасным полотнам мастера: "Теперь так трудно сосредоточиться около них и уйти от жизни... Зачем нам сказки и печаль, когда есть жизнь и страдание" (2) .
Почти текстуально перекликается с откликом Эфроса Я. Тепин: "Из московских выставок надо совсем выделить выставку Борисова-Мусатова, устроенную обществом друзей Румянцевского музея. Странная судьба! Каждая выставка этого тихого романтика вклинивается в самый разгар политических страстей. Шум революции, однако, глухо долетает до Румянцевского музея"... (3)
Последнее замечание знаменательно: начинается "ому-зеивание" мусатовской живописи, она теряет сиюминутную актуальность, окончательно становится "прошлым" отечественного искусства, а потому интереснее скорее для искусствоведа-историка, а не для критика. Это совершенно естественно для наступившей революционной эпохи, когда рядом с броскими декларациями утвердителей нового искусства печатались не менее декларативные стихи: "Рубите, топоры, Вишнёвый Сад Былого" (4).
Искусство Борисова-Мусатова уже на рубеже 1910-1920-х годов воспринималось как отражение канувшей в Лету эпохи, в качестве, по словам И. Евдокимова, "определённого художественного пласта в истории русской живописи" (5).
Книга этого автора о Борисове-Мусатове вышла в 1924 году, а до появления следующей монографии, написанной А.А. Русаковой, прошло более четырёх десятилетий. Искусство замечательного живописца оказалось абсолютно несозвучным эпохе войн, социальных судорог и принудительного оптимизма. Отчасти дело усугублялось тем представлением о творческом облике художника, которое сложилось в дореволюционной критике, так называемой "легендой Мусатова" (6).
Автор первой монографии о Борисове-Мусатове Владимир Станюкович через четверть столетия каялся в том, что породил эту легенду и заразил ею Н.Н. Врангеля. "В легендах есть правда, - писал он, - но часто это бывает не правда лица, о котором гласит легенда, а правда биографа или молвы. Легенда ценна, но она искажает, и только много лет спустя, если художник оставляет после себя много памятников, внимательный историк искусства восстановит истинные черты любимого им лица. Но часто бывает так, что легенда передаётся из поколения в поколение, искажая лицо художника и делая непонятным многие черты его творчества" (7).
Лев Мочалов полагал, что легенда эта порождена была эпохой послереволюционного похмелья рубежа 1900-1910-хгодов, которая по-настоящему открыла художника и "как бы присвоила его", что именно преобладавшее в критике тех лет восприятие его творческого наследия и его поэтики "на долгие годы заслонило лицо мастера", которого и в последующее время "продолжали называть "Орфеем исчезнувшей красоты" (8).
Думается, что легенда эта начала складываться не в предреволюционное десятилетие, которое прежде именовали "позорным", а теперь называют "золотою порой нашего серебряного века", а несколько раньше-в последние годы жизни художника. И что гораздо важнее - она имела объективные предпосылки в самом его творчестве зрелой поры. Не случайно она оказалась такой устойчивой, пережившей смену стольких периодов развития отечественной культуры.
И надо оговориться, что, хотя Станюкович и был в числе первых создателей легенды, но далеко не единственным. Достаточно назвать имена многих художников, литераторов и критиков той поры: Средина, Шестёркина, Липкина, Волошина, Андрея Белого, Врангеля, Сергея Маковского, отчасти и Грабаря, Александра Бенуа, Муратова, тугендхольда и ряда других.
К её созданию невольно приложил руку и патриарх отечественной критики Владимир Стасов, правда, сугубо осуждающим и глумливым тоном, характерным для его писаний о некоторых мастерах рубежа столетий: "Скончавшийся ещё недавно юный московский декадент Мусатов, вместе с другими товарищами, любил изображать дам и кавалеров в фижмах и кафтанах ХVII века, но отвёл себе также и особый маленький уголок, отдельную микроскопическую специальность: это русских дам в локонах и с бесконечно растопыренными юбками. Это стоит фижм и париков! У него на картинах, фресках и всяческих композициях появляются русские дамы правильными толпами, симметрическими процессиями, идущие, сидящие. И, однако же, кроме локонов и юбок нельзя открыть ни одной чёрточки художественности и натуры в лицах и фигурах их. Те же куклы XVIII века! Но только ещё с прибавкою каких-то "призраков", стоящих в саду, около небывалых, противных, мёртвых "храмов". Какой знатный выигрыш для русского искусства! Сколько "новостей", какое раскрытие неизвестных "путей"!" (9).
Стасов, естественно, в своём амплуа. Любопытно только, что сказал бы он о "небывалых" храмах, увидев снимок Зубриловского дворца, ставшего вполне реальным фоном для мусатовских "Призраков"? Удивительно другое: страстность отрицания, направленного против уже усопшего автора. Опытный критик, должно быть, чувствовал актуальность и действенность его искусства, его притягательность для нового поколения живописцев. Он будто бы имеет дело с живым участником художественной жизни той поры.
Борисов-Мусатов умер внезапно и совсем молодым, в самом начале своей начинающейся известности и широкого признания. Нельзя сказать, что художественная критика при жизни его совсем прозевала, но реальное осмысление мусатовского творчества началось уже посмертно. При этом оно действительно воспринималось как реально участвующее в художественном процессе эпохи: известная дистанцированность и отношение к нему уже как к наследию пришли позднее, не ранее середины 1910-х годов. В середине же 1900-х время искусствоведческого его осмысления не пришло: творчество Мусатова не стало ещё историей.
"На этой "живой" выставке странно думать о смерти художника... То, что делал Мусатов, это цветы, расцветшие прошлой ночью; они не завяли ещё; это - сегодня, - писал Борис Липкин. - Поэтому выставку работ Мусатова трудно воспринимать как посмертную. Итоги его как художника, даже история его развития ускользает от нашего внимания. Схемы: реалист или мистик, романтик, лирик слишком общи для определения его во всю величину. Он ни то, ни другое, ни третье. Он ищущий: это явление" (10).
О том же писал и Николай Тароватый:"... сразу уясняешь себе, какое значение имеет Борисов-Мусатов для последнего периода русской живописи, какие горизонты им раскрыты и какие новые области творчества им намечены. Видишь, что от него берут начало многие молодые художники..." (11).
Можно вспомнить и часто цитируемые строки Андрея Белого: "Творчество Мусатова, оборвавшись в нём, незаметно откликнулось в душах его почитателей: лунной струйкой пролилось у П.Кузнецова, махровыми цветами завилось у Милиоти. Есть школа Мусатова.. ." (12).
В этом плане понятным и содержательным представляется утверждение сегодняшнего исследователя, что в творчестве Борисова-Мусатова "многое сосредоточено в скрытом, зачаточном виде", что это мастер, от которого "идут пути в будущее, он в синкретическом виде сохраняет в себе различные тенденции" (13).
Спустя многие десятилетия будет написана специальная диссертация о влиянии искусства Борисова-Мусатова на русских художников начала XX столетия. А для критиков рубежа 1900-1910-х годов это влияние воспринималось аксиомой, не требующей специальных доказательств: о нём наглядно свидетельствовали экспозиции текущих выставок. Не случайно в 1910 году А. Ростиславов называет Мусатова, наряду с Врубелем, "источником новейших течений и разветвлений в нашей живописи" (14).
Мусатовская "прививка" была существенной в становлении не одних только голуборозовцев, она вполне ощутима и в раннем творчестве многих мастеров русского авангарда. Но любопытно, что в большинстве критических откликов той поры куда больший акцент делался на особенностях мусатовского лиризма, на сюжетно-содержательной стороне его полотен, на их особенной музыкальности, нежели на их живописной плоти, на своеобразии мусатовской стилистики.
Наиболее проницательные из тогдашних критиков заметили опасность подобного уклона: "Когда живописец прибегает к чисто литературным приёмам, - писал Грабарь, - он всегда оказывается неизмеримо слабее писателя, Мусатов никогда не покидал своего искусства, он - чистый живописец, и вся его поэзия есть результат его живописных, а не литературных эмоций" (15).
По сути, о том же говорит и Муратов: "...мы сказали, что умер поэт, и мало задумывались над декоративными качествами его картин. Эти качества вряд ли были поняты кем-нибудь кроме художников..." И тут же добавляет, что мусатовцы "стремятся к декоративности сознательно и настойчиво" (16).
Свой оттенок в раздумья о соотнесённости в мусатовс-ком творчестве поэтического и собственно живописного начал внёс Тугендхольд: "Мусатов был одним из первых и наиболее последовательных наших импрессионистов - и один из первых преодолел этот импрессионизм во имя созерцания более обобщённого и лирического" (17).
Абрам Эфрос в цитируемой уже статье о персональной выставке Борисова-Мусатова 1917 года, где отсутствовали наиболее значительные его работы, разошедшиеся к той поре по музеям и частным собраниям, и много было ранних его полотен, представленных вдовой художника, подчёркивал, что "особо плодотворно было знакомство с Мусатовым-импрессионистом", настаивая на том, что "му-сатовский импрессионизм едва ли не значительнее и тоньше его ретроспективизма, во всяком случае равен ему и вошёл в него как важнейший художественный элемент, которому мусатовская старина обязана своим неповторимым своеобразием" (18).
В скромной газетной рецензии уже намечается тот подход к восприятию своеобразия мусатовской живописи, который получит формульную законченность в эфросовских "Профилях", где о Мусатове сказано: "Он нашёл, что техника последовательного пленэра может стать живописным выразителем романтических эмоций. Первенствование воздушных и световых элементов в живописи развеществило мир. Его плотность выветрилась и засквозила. Он пронизался светом и растворился в воздухе. Предметы ослабли в телесности, предметы стали прозрачнее и призрачнее". <...> "Вооружённый своим методом Мусатов писал видения своей мечты так же крепко, просто и реально, как писал с натуры сад в мерцаниях вечерних теней или в изумрудных переливах солнечной мечты" (19).
При всей поэтичности эфросовской эссеистики эти чеканные определения всё-таки ближе искусствознанию, чем собственно критической рефлексии, торопливому непосредственному отклику на конкретное событие текущей художественной жизни. В них есть выношенность убеждения. Не случайно они появились лишь тогда, когда произведения Мусатова, оказавшись за пределами живого художественного процесса, давно уже стали наследием.
Любопытно, что эта "прозрачность и призрачность" мусатовской живописи была отмечена в прессе одним из его коллег по Московскому товариществу художников Ше-стёркиным ещё при жизни художника. Говоря об участии Мусатова на выставках Московского товарищества и Союза русских художников, он отметил различное впечатление, которое производят его полотна в том или ином экспозиционном окружении. Если на выставке МТХ, где, по словам рецензента, "всё окутано какой-то паутиной и газом", "где преобладают художники нюансов и намёков", Борисов-Мусатов кажется реалистом, то на выставке Союза русских художников, рядом с полотнами Константина Коровина, Малявина, Грабаря, Юона, "он кажется лёгким, воздушным и не менее стильным, чем К. Сомов и А. Бенуа" (20).
Призывом к более пристальному и конкретному изучению мусатовской поэтики прозвучала рецензия П. Муратова на первую монографию о художнике. Он хвалит почин В. Станюковича, сказавшего о живописце много ценного и нужного, нашедшего значительные и чуткие слова о нём, и вместе с тем остерегает от ходячих поверхностных обобщений, затемняющих реальное своеобразие его искусства. К примеру, обширное рассуждение автора о музыкальности мусатовской живописи, отмеченной и предшествующей критикой.
"Конечно, - восклицает Муратов, - кто это теперь не знает, кто не сошлётся многозначительно на "симфонии" Уистлера? Не пора ли, однако, отнестись строже и внимательнее к этой вошедшей в обиход "отождествляющей" теории? К музыке ли идёт поэзия А. Блока и А. Белого? Музыкальностью ли исчерпывается внутренний смысл современной живописи? Да убоимся мы общих теорий, которые слишком часто становятся общими местами".
Не меньше раздражает рецензента и культивируемая легенда об изолированности художника, абсолютной уникальности его творческого сознания: "Ещё об "одиночестве" Мусатова. Как художник-живописец он не был одинок, и тут автор не прав. Ещё при жизни около него наметился целый кружок продолжателей и последователей. А во Франции живут и поныне Морис Дени и Герэн. Та картина "Maternite", о которой, по словам В.Станюковича, мечтал художник, неужели же правда она навеяна глупым романом Золя? Известны ли автору дивные эскизы на эту же тему Мориса Дени, где есть и "цветущий сад, обширный, как мир" и мать с ребёнком, и даже гамма сине-зелёных тонов? Думается, не надо отъединять В.Э. Борисова-Мусатова и как поэта. "Слава твоему одиночеству!"- восклицает В.Станюкович, заканчивая книгу. Скажем-ка лучше - мир той душе, которая дала нам слияние в Прекрасном" (21).
Развёрнутое и аргументированное обоснование особой музыкальности мусатовской живописи появилось лишь через много десятилетий в работах Ольги Кочик, а вот пресловутое "одиночество" художника никогда не абсолютизировалось современной ему критикой, не говоря уже о посмертных публикациях. Напротив, Мусатова всегда поминают в ряду современных ему живописцев, как русских, так и зарубежных, а влияние его на молодых мастеров, как уже говорилось, не вызывало сомнений.
Только несколько примеров. Ещё при жизни Борисова-Мусатова в журнале "Весы" № 7 за 1904 год появилось сообщение о персональной выставке его картин в берлинской галерее Пауля Кассирера и о тёплых откликах на неё немецких критиков, которые отмечали близкое родство мусатовского искусства с высоко ценимым ими творчеством Константина Сомова. Эти имена и в отечественной критике сопоставлялись не единожды, и иными из рецензентов Мусатов воспринимался его эпигоном.
Против этого решительно выступил на страницах того же журнала художник Михаил Шестёркин: "В. Мусатова объявили последователем и подражателем Сомова лишь потому только, что он осмелился черпать своё вдохновение из того же самого источника. К. Сомов и В. Мусатов - в сущности между ними так немного общего! Один - художник с литературным оттенком, археолог и тонкий эстет, влюблённый в памятники русской культуры восемнадцатого века, желающий продолжить эту культуру и говорить о ней её же языком, избравший самый благодарный путь быть всегда стильным: кропотливые рисунки старых альбомов, пожелтевшие, как древний пергамент, картины безвестных мастеров, наивные, потускневшие, являются для него вдохновителем и камертоном. Другой - живописец по природе; светлые, переливчатые краски современности заглушают у него меланхолическую грусть воспоминаний, и мыслить для него - значит думать о красках".
Это писалось ещё при жизни Борисова-Мусатова, и человеком из его окружения, быть может, по согласованию с ним. Во всяком случае, в статье Шестёркина явно акцентировано коренное различие художественных традиций двух российских столиц - питерской, по преимуществу линейно графической, стилизаторской, и московской - раскованно живописной. Это чувствовалось в анализе "Гармонии", "Гобелена", "Водоёма", "Изумрудного ожерелья", "Призраков" и других мусатовских полотен.
Согласно Шестёркину, ретроспективистские детали мусатовских картин - лишь призвуки общей гармонии
мотива, не более того: "Он, как и Шарль Герэн - единственный, с кем он сейчас родственен, - любит заполнять картинную плоскость каким-нибудь кринолином ради красивого пятна старой материи", - пишет он (22).
Имя Шарля Герэна, наряду с именами Пюви де Шаванна, импрессионистов, Гогена, Мориса Дени, поминал и Павел Муратов в статье о посмертной выставке художника. Для этого критика Герэн - "столь близкий ему (Мусатову - Е.В.) по духу изумительный колорист и поэт былого". "Какое широкое поле для всевозможных веяний, какое разнообразие вполне естественных увлечений!" - восклицает он (23).
Любопытно и сопоставление Мусатова с Пьером Боннаром, принадлежащее Якову Тугендхольду: "Иногда чудится в Боннаре что-то родное нам; иногда кажется, что им владеют чары Борисова-Мусатова. Но нет, это сходство лишь внешнее. Лиризм Мусатова - это целый мир, целая поэма увядающего быта. Лиризм Боннара не идёт дальше временных спален и столовых и жалких городских садов. В нём нет мусатовской дымки прошлого, в нём нет мусатовских далей души" (24).
Как видим, акцент несколько сместился: если Шестёркин в противовес мирискусническому стилизаторству подчёркивает в творчестве Мусатова роднящую его с французскими художниками чистую живописность, то Тугендхольд, сопоставляя русского художника с замечательным французским декоративистом, видит преимущество Борисова-Мусатова именно в качестве его лиризма. Не случайно этот критик сформулирует пять лет спустя: "Проблема Борисова-Мусатова - сочетание русского мирочувствования с внешними достижениями Запада" (25).
И последнее, о чём хотелось бы сказать: это удивительная эволюция отношения к Борисову-Мусатову в русской критике. К середине 1890-х годов его имя едва обозначилось среди юных пейзажистов, увлечённых импрессионизмом, рядом с Жуковским, Гермашевым, Серёгиным и другими учениками Московского училища. Один из рецензентов, перечисляя пленэрные этюды художника, видит в них только "массу аляповатых пятен без всякого рисунка, набросанных широкою декадентскою рукой" (26).
В начале 1900 года, оценивая "Автопортрет с сестрой" и "Осенний мотив" Борисова-Мусатова, журналист уже соглашается с тем, что художник умеет рисовать, но талант его неровен, капризен, досадна и сюжетная невнятица: "Очень может быть, что это осенний мотив. Нельзя только понять, в чём тут дело", - сетует он (27).
Два года спустя обозреватель "Русских ведомостей" в статье о IX выставке МТХ, одобряя премированный мусатовский "Гобелен", снисходительно замечает: "Весь интерес картины состоит в мягких тонах, весьма приятно и гармонично скомпонованных". При этом находит и в этой картине, и в ряде других "немало серьёзных недочётов: бюсты женщин выписаны слабо, руки коротки и кисти очень велики... " (28).
Подобных замечаний в прессе того периода было немало, как в столичной, так и в саратовской.
Неожиданно высокую оценку в начале 1904 года получило творчество Борисова-Мусатова на страницах "Мира искусства". Тем более неожиданную, что, если верить Сергею Маковскому (29), дягилевцы отказались принять на свою выставку 1903 года его "Водоём". Рассуждая об очередной выставке МТХ, А. Ростиславов "среди талантливых и даже выдающихся художников" называет прежде всего Борисова-Мусатова, особенно выделяя, кстати, именно его "Водоём", и настаивая на том, что такие полотна "должны быть непременно музейными приобретениями как характерные и прекрасные образцы современной живописи".
При всех оговорках о некоторой небрежности рисунка и неровности мусатовского искусства это было серьёзное признание. Тем более что критик догадывался об истинном отношении к его живописи значительной части зрителей и тогдашнего художественного официоза: "Само собою понятно, - писал он, - что картины Борисова-Мусатова вызывают неподдельное негодование или лакейский смех у почтеннейшей публики и что ни одна из них не удостоилась приобретением комиссии от Академии" (30).
Ростиславов как в воду глядел: вскоре он вынужден был отвечать на упрёки одного из читателей в чрезмерном и опасном захваливании молодого живописца: "Тем больше хочется хвалить художника, несомненно талантливого, которого так охотно бранят и высмеивают, - писал критик. - Не лучше ли в подобных случаях перехвалить, чем недохвалить? Едва ли похвалы и вообще печатные отзывы могут быть вредны для истинного и талантливого художника, если он даже придаёт значение и временно увлекается ими" (31).
С этого времени хвалебные и даже восторженные отзывы о творчестве Мусатова пошли по нарастающей: "Недоступный поверхностному созерцанию, этот художник владеет тайнами скрытых обольщений и утонченно-призрачных грёзовых чудес", - писал в начале 1905 года Николай Тароватый (32). В следующем году Муратов называл его среди тех мастеров, благодаря которым начало XX столетия назовут "лучезарной эпохой русской живописи" (33). Игорь Грабарь отмечает в 1907 году "гипнотизирующее очарование" (34) его искусства.
В 1908 году критик "Золотого руна" напишет восторженно: "Борисов-Мусатов - один из самых современных воспоминателей о прошлом. Его картины со временем будут образцами не только его чуткой талантливой натуры, но и целого мира чувствований и идей" (35). В 1909 году Сергей Маковский причислит Петрова-Водкина к той прекрасной плеяде саратовских художников, "между которыми есть уже бессмертное имя Мусатова" (36).
В 1910 году прозвучала высочайшая оценка мусатовс-кого вклада в становление отечественного пейзажа: "Борисов-Мусатов заставил нас узнать глубокое и отвлечённое созерцание - ту стихию, из которой рождается великая пейзажная живопись. В его лиризме исчезает всё временное и местное, и поэзия жизненного уклада сменяется чистейшей и тончайшей поэзией душевной жизни" (37). Tак утверждал Павел Муратов.
А в 1911 году Яков Тугендхольд, говоря о международной выставке в Лондоне, сожалеет о том, что Россия "не явила иностранцам творчество своих величайших мастеров - Мусатова и Врубеля" (38).
"Гений живописца начинает обнаруживаться посмертным порядком. Он дело коллекционеров и времени: первые выбирают лучшие холсты, второе истребляет худшие" (39). Это сказано не о Мусатове, но вполне приложимо и к нему. Посмертная выставка обнаружила не только высочайший уровень его живописной культуры, но и всю значимость его наследия в искусстве России. Но она же породила и ряд неизбежных вопросов, всегда возникающих, когда художник уходит из жизни так рано и на таком взлёте творческих достижений, какой был у Мусатова в самые последние годы.
Их сформулировал в рецензии на посмертную выставку художника Павел Муратов: "Успел ли художник найти самого себя, успел ли выразить в своих произведениях заветное своей души; исчерпал ли он дар свой или, напротив, кончина застигла его лишь на пороге открывшейся сокровищницы?" Муратов раздумывает не только о том, что было завершено Мусатовым, но также и о последних его начинаниях и замыслах, воплотить которые ему было не суждено: "Вместо огромных фресок, только акварельные эскизы, вместо больших картин, только этюды и подготовительные рисунки. Множество намерений, возможностей, сил, и как бесконечно жаль, что всему этому не суждено было слиться в стройно-законченных произведениях. Однако тот, кто умеет проницать сквозь краски и слова духовную жизнь художников и поэтов, кому книга или холст, или мрамор представляются понятным языком для беседы душ, тот может найти утешение. В оставшемся после Мусатова наследии уже живёт вполне цельный и ясно очерченный его образ. Ибо есть "мусатовское" отношение к вещам и символам - особенный угол зрения на мир, особенная прекрасная страница в книге искусства" (40).
И в этой цельности и внутренней законченности му-сатовского искусства была заложена некая программа дальнейшего пути отечественной живописи не только ближайшей поры, но имеющая и достаточно отдалённые последствия, то затухающие, то вновь усиливающиеся отзвуки которой слышны и сейчас. "Мусатов! Элегическая ветвь русского модернизма! Если бы её тишайшей сени не было над Кузнецовым - пришлось бы изобрести её, чтобы объяснить, как сложилось лицо кузнецовской живописи", - восклицал в своё время Абрам Эфрос (41). То же самое можно сказать и о творчестве П. Уткина и всех го-луборозовцев, а также Петрова-Водкина, А. Савинова, А. Карева, скульптора А.Матвеева и великого множества их подражателей и последователей. Непрерывность традиции не гарантирует её развития по восходящей, а свидетельствует только о животворности истока, богатейших творческих возможностях, таящихся в ней. И это хорошо понимали наиболее чуткие художественные критики уже в начале XX столетия.
Россций (A.M. Эфрос) Жизнь искусства // Русские ведомости. 1917. 17 апр.
2. Королевич 6лад. Выставка картин В.Э. Борисова-Мусатова // Рампа и жизнь. 1917. 19 марта. С. 12.
3. Тепин Я. Письмо из Москвы //Аполлон. 1917. № 2-3. С. 86.
4. Пустынин М. Да здравствует "Долой!" // Искусство (Витебск). 1921. № 1 (март). С. 13.
5. Евдокимов И. Борисов-Мусатов. М., 1924. С. 66.
6. Станюкович В.К. В.Э. Борисов-Мусатов. Машинопись неопубликованной монографии, хранящейся в архиве Радищевского музея: "Существует легенда и о Мусатове, представляющая его жалким несчастным горбуном, обиженным с самого рождения, ушедшим от людей, создавшем в своем углу романтический мир, в котором он жил, боясь жизни: "Он был болен, - говорит легенда, - и творчество его было тоже больное, рахитичное, романтичное, проникнутое тишиной старины, полное обаяния призрачных, увядших женщин в криналинах". В создании этой легенды были повинны многие современники, в том числе и автор этих строк, написавший когда-то работу о художнике. Самым упрощенным выражением этой легенды является брошюра барона Врангеля, написанная небрежно и наспех и обоснованная на документе, сообщенном мною. <...> Легенда отразила одну сторону творчества художника, и на мне, виновном в числе других в ее создании, лежит обязанность, пока не поздно, не опровергнуть, а дополнить ее. Когда я писал свою первую работу о Мусатове, боль утраты близкого человека еще не прошла, и моя печаль окрасила работу, преувеличивая созвучные аккорды, которые я находил в созданиях, в письмах и записках художника" (С. 3). В.К. Станюкович отмечал, что в своей книге 1906 года он ошибся, "сообщив детским годам художника оттенок отчуждения и печали" (С. 11).
7. Там же. С. 3-4.
8. Мочалов Л.В. Виктор Эльпидифорович Борисов-Мусатов. Л., 1976. С. 5.
9. Стасов В.В. Наши нынешние декаденты // Страна. 1906. 25 марта.
10. Липкин Б. По поводу посмертной выставки Борисова-Мусатова в Москве // Золотое руно. 1907. № 3. С. 84.
11. Тароватый Н. На выставке "Мир искусства" // Золотое руно. 1906. № 3. С. 123.
12. Белый Андрей. Розовые гирлянды // Золотое руно. 1906. № 3. С. 65.
13. Сарабьянов Д,В. Э. Борисов-Мусатов и художники группы "Наби" // Вопросы русского и советского искусства. М., 1977. Вып. 3. С. 293.
14. Ростиславов А. Золотое руно // Аполлон. 1910. № 9. С. 44.
15. Грабарь И. Две выставки // Весы. 1907. № 3. С. 103.
16. Муратов П. О живописи // Перевал. 1907. № 5. С. 44.
17. Тугендхольд Я. Молодые годы Мусатова // Аполлон. 1915. № 7-8. С. 19.
18. Россций (А. М. Эфрос) Жизнь искусства // Русские ведомости. 1917. 17 апр.
19. Эфрос Абрам. Профили. М., 1930. С. 122, 123.
20. Арбалет (М.И. Шестёркин) На выставках //Весы. 1905.№ 1.С.45.
21. Муратов П. "Виктор Эльпидифорович Борисов-Мусатов". Монография Владимира Станюковича. СПб., 1906. // Перевал. 1907. № 5. С. 54.
22. Арбалет (М.И. Шестёркин) В. Борисов-Мусатов. // Весы. 1905. № 2. С. ЗД-32.
23. Муратов П. В.Э. Борисов-Мусатов (1870-1905) По поводу посмертной выставки его произведений // Русская мысль. 1907. (апр.). Кн. IV. С. 144.
24. Тугендхольд Я. Письмо из Парижа. Выставки // Аполлон. 1910. № 6 (март). С. 4-5.
25. Тугендхольд Я. Молодые годы Мусатова // Аполлон. 1915.№7-8.С. 19.
26. С-ь А. XVII ученическая выставка Московского училища живописи, ваяния и зодчества // Московский листок. 1895. 7 янв.
27. Выставка Московского товарищества художников // Московские ведомости. 1900. 28февр.
28. С-въ В. IX выставка картин Московского товарищества художников // Русские ведомости. 1902. 3 марта.
29. Маковский С. Силуэты русских художников. Прага. 1922. С. 137.
30. Ростиславов А. Выставка Московского товарищества художников // Мир искусства. 1904. № 1. Хроника. С. 12.
31. Ростиславов А. Сезонное художество // Мир искусства. 1904. № 3. Хроника. С. 69.
32. Н. Т. [Николай Тароватый]. Выставка Союза русских художников в Москве // Искусство. 1905. № 2. С. 54.
33. Муратов П.П. О нашей художественной культуре // Московский еженедельник. 1906. № 38. С. 35.
34. Грабарь И. Две выставки // Весы. 1907. № 3. С. 101.
35. N.N. Выставки // Золотое руно. 1908. № 3. Хроника. С. 123.
36. Маковский С. Выставка К.С. Петрова-Водкина в редакции "Аполлона" // Аполлон. 1909. № 3. С. 12.
37. Муратов П. Пейзаж в русской живописи (1900-1910 г.г.) // Аполлон. 1910. № 4з.8(январь). С. 15.
38. Тугендхольд Я. Международная выставка в Риме // Аполлон. 1911. № 9.
С. 91
39. Аксёнов И. Пикассо и окрестности. М., 1917. С. 29.
40. МуратовП. В.Э. Борисов-Мусатов (1870-1905). По поводу посмертной выставки его произведений. // Русская мысль. 1907. Апрель. Кн. IV. С. 142, 143.
41. Эфрос Абрам. Профили. С. 121
Мы ответили на самые популярные вопросы - проверьте, может быть, ответили и на ваш?
- Мы - учреждение культуры и хотим провести трансляцию на портале «Культура.РФ». Куда нам обратиться?
- Как предложить событие в «Афишу» портала?
- Нашел ошибку в публикации на портале. Как рассказать редакции?
Подписался на пуш-уведомления, но предложение появляется каждый день
Мы используем на портале файлы cookie, чтобы помнить о ваших посещениях. Если файлы cookie удалены, предложение о подписке всплывает повторно. Откройте настройки браузера и убедитесь, что в пункте «Удаление файлов cookie» нет отметки «Удалять при каждом выходе из браузера».
Хочу первым узнавать о новых материалах и проектах портала «Культура.РФ»
Если у вас есть идея для трансляции, но нет технической возможности ее провести, предлагаем заполнить электронную форму заявки в рамках национального проекта «Культура»: . Если событие запланировано в период с 1 сентября по 30 ноября 2019 года, заявку можно подать с 28 июня по 28 июля 2019 года (включительно). Выбор мероприятий, которые получат поддержку, осуществляет экспертная комиссия Министерства культуры РФ.
Нашего музея (учреждения) нет на портале. Как его добавить?
Вы можете добавить учреждение на портал с помощью системы «Единое информационное пространство в сфере культуры»: . Присоединяйтесь к ней и добавляйте ваши места и мероприятия в соответствии с . После проверки модератором информация об учреждении появится на портале «Культура.РФ».