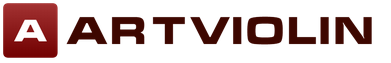Сени театра. С одной стороны видны лестницы, ведущие в ложи и галлереи, посредине вход в кресла и амфитеатр; с другой стороны выход. Слышен отдаленный гул рукоплесканий.
Показывается несколько прилично одетых людей; один говорит, обращаясь к другому:
Выйдем лучше теперь. Играться будет незначительный водевиль.
Оба уходят.
Два comme il faut плотного свойства, сходят с лестницы.
Первый comme il faut. Хорошо, если бы полиция не далеко отогнала мою карету. Как зовут эту молоденькую актрису, ты не знаешь?
Второй comme il faut. Нет, а очень недурна.
Первый comme il faut. Да, недурна; но всё чего-то еще нет. Да, рекомендую: новый ресторан: вчера нам подал свежий зеленый горох (целует концы пальцев) – прелесть! (Уходят оба).
Бежит офицер, другой удерживает его за руку.
Первый офицер. Да останемся!
Другой офицер. Нет, брат, на водевиль и калачом не заманишь. Знаем мы эти пиесы, которые даются на закуску: лакеи вместо актеров, а женщины – урод на уроде.
Уходят.
Светский человек, щеголевато одетый (сходя с лестницы). Плут портной, претесно сделал мне панталоны, всё время было страх неловко сидеть. За это я намерен еще проволочить его, и годика два не заплачу долгов. (Уходит).
Тоже светский человек, поплотнее (говорит с живостью другому). Никогда, никогда, поверь мне, он с тобою не сядет играть. Меньше как по полтораста рублей роберт он не играет. Я знаю это хорошо, потому что шурин мой, Пафнутьев, всякий день с ним играет.
Чиновник средних лет (выходя с растопыренными руками). Это, просто, чорт знает что такое! Этакое… этакое… Это ни на что не похоже. (Ушел).
Господин, несколько беззаботный насчет литературы (обращаясь к другому). Ведь это, однако ж, кажется, перевод?
Другой. Помилуйте, что за перевод! Действие происходит в России, наши обычаи и чины даже.
Господин, беззаботный насчет литературы. Я помню, однако ж, было что-то на французском, не совсем в этом роде.
Оба уходят.
Один из двух зрителей (тоже выходящих вон). Теперь еще ничего нельзя знать. Погоди, что скажут в журналах, тогда и узнаешь.
Две бекеши (одна другой). Ну, как вы? Я бы желал знать ваше мнение о комедии.
Другая бекеша (делая значительные движения губами). Да, конечно, нельзя сказать, чтобы не было того… в своем роде… Ну, конечно, кто ж против этого и стоит, чтобы опять не было и… где ж, так сказать… а впрочем… (утвердительно сжимая губами) Да, да.
Два офицера .
Первый. Я еще никогда так не смеялся.
Второй. Я полагаю: отличная комедия.
Первый. Ну, нет, посмотрим еще, что скажут в журналах, нужно подвергнуть суду критики… Смотри, смотри! (Толкает его под руку).
Второй. Что?
Первый (указывая пальцем на одного из двух идущих с лестницы). Литератор!
Второй (торопливо). Который?
Первый. Вот этот! чш! послушаем, что будут говорить.
Второй. А другой кто с ним?
Первый. Не знаю; неизвестно какой человек.
Оба офицера посторониваются и дают им место.
Неизвестно какой человек. Я не могу судить, относительно литературного достоинства; но мне кажется, есть остроумные заметки. Остро, остро.
Литератор. Помилуйте, что ж тут остроумного? Что за низкий народ выведен, что за тон? Шутки самые плоские; просто, даже сально!
Неизвестно какой человек. А, это другое дело. Я и говорю: в отношении литературного достоинства я не могу судить; я только заметил, что пиеса смешна, доставила удовольствие.
Литератор. Да и не смешна. Помилуйте, что ж тут смешного и в чем удовольствие? Сюжет невероятнейший. Всё несообразности; ни завязки, ни действия, ни соображения никакого.
Неизвестно какой человек. Ну, да против этого я и не говорю ничего. В литературном отношении так, в литературном отношении она не смешна; но в отношении, так сказать, со стороны в ней есть…
Литератор. Да что же есть? Помилуйте, и этого даже нет! Ну что за разговорный язык? Кто говорит эдак в высшем обществе? Ну скажите сами, ну говорим ли мы с вами эдак?
Неизвестно какой человек. Это правда; это вы очень тонко заметили. Именно, я вот сам про это думал: в разговоре благородства нет. Все лица, кажется, как будто не могут скрыть низкой природы своей – это правда.
Литератор. Ну, а вы еще хвалите!
Неизвестно какой человек. Кто ж хвалит? я не хвалю. Я сам теперь вижу, что пиеса – вздор. Но ведь вдруг
нельзя же этого узнать; я не могу судить в литературном отношении.
Оба уходят.
Еще литератор (входит в сопровождении слушателей, которым говорит, размахивая руками). Поверьте мне, я знаю это дело: отвратительная пиеса! грязная, грязная пиеса! Нет ни одного лица истинного, всё карикатуры! В натуре нет этого; поверьте мне, нет, я лучше это знаю: я сам литератор. Говорят: живость, наблюдение… да ведь это всё вздор, это всё приятели, приятели хвалят, всё приятели! Я уже слышал, что его чуть не в Фонвизины суют, а пиеса просто недостойна даже быть названа комедиею. Фарс, фарс, да и фарс самый неудачный. Последняя, пустейшая комедийка Коцебу в сравнении с нею Монблан перед Пулковскою горою. Я это им всем докажу, докажу математически, как дважды два. Просто друзья и приятели захвалили его не в меру, так вот он уж теперь, чай, думает о себе, что он чуть-чуть не Шекспир. У нас всегда приятели захвалят. Вот, например, и Пушкин. Отчего вся Россия теперь говорит о нем? Всё приятели кричали, кричали, а потом вслед за ними и вся Россия стала кричать. (Уходят вместе с слушателями).
Оба офицера подаются вперед и занимают их места.
Первый. Это справедливо, это совершенно справедливо: именно фарс; я это и прежде говорил, глупый фарс, поддержанный приятелями. Признаюсь, на многое даже отвратительно было смотреть.
Второй. Да ведь ты ж говорил, что еще никогда так не смеялся?
Первый. А это опять другое дело. Ты не понимаешь, тебе нужно растолковать. Тут что в этой пиесе? Во-первых, завязки никакой, действия тоже нет, соображенья решительно никакого, всё невероятности и при том всё карикатуры.
Двое других офицеров позади.
Один (другому). Кто это рассуждает? Кажется, из ваших?
Другой, заглянув сбоку в лицо рассуждавшего, махнул рукой.
Первый. Что, глуп?
Другой. Нет, не то чтобы… У него есть ум, но сейчас по выходе журнала, а запоздала выходом книжка – и в голове ничего. Но, однако ж, пойдем.
Уходят.
Два любителя искусств.
Первый. Я вовсе не из числа тех, которые прибегают только к словам: грязная, отвратительная, дурного тона и тому подобное. Это уже доказанное почти дело, что такие слова большею частью исходят из уст тех, которые сами очень сомнительного тона, толкуют о гостиных, и допускаются только в передние. Но не об них речь. Я говорю на счет того, что в пиесе точно нет завязки.
Второй. Да, если принимать завязку в том смысле, как её обыкновенно принимают, то-есть в смысле любовной интриги, так её точно нет. Но, кажется, уже пора перестать опираться до сих пор на эту вечную завязку. Стоит вглядеться пристально вокруг. Всё изменилось давно в свете. Теперь сильней завязывает драму стремление достать выгодное место, блеснуть и затмить, во что бы ни стало, другого, отмстить за пренебреженье, за насмешку. Не более ли теперь имеют электричества чин, денежный капитал, выгодная женитьба, чем любовь?
Первый. Всё это хорошо; но и в этом отношении всё-таки я не вижу в пиесе завязки.
Второй. Я не буду теперь утверждать, есть ли в пиесе завязка или нет. Я скажу только, что вообще ищут частной завязки и не хотят видеть общей. Люди простодушно привыкли уж к этим беспрестанным любовникам, без женитьбы которых никак не может окончиться пиеса. Конечно, это завязка, но какая завязка? – точный узелок на углике платка. Нет, комедия должна вязаться само собою, всей своей массою, в один большой, общий узел. Завязка должна обнимать все лица, а не одно или два, – коснуться того, что волнует, более или менее, всех действующих. Тут всякий герой; течение и ход пиесы производит потрясение всей машины: ни одно колесо не должно оставаться как ржавое и не входящее в дело.
Первый. Но все же не могут быть героями; один или два должны управлять другими?
Второй. Совсем не управлять, а разве преобладать. И в машине одни колеса заметней и сильней движутся; их можно только назвать главными; но правит пиесою идея, мысль. Без нее нет в ней единства. А завязать может всё: самый ужас, страх ожидания, гроза идущего вдали закона…
Первый. Но это выходит уж придавать комедии какое-то значение более всеобщее.
Второй. Да разве не есть это ее прямое и настоящее значение? В самом начале комедия была общественным, народным созданием. По крайней мере, такою показал ее сам отец ее, Аристофан. После уже она вошла в узкое ущелье частной завязки, внесла любовный ход, одну и ту же непременную завязку. Зато как слаба эта завязка у самых лучших комиков, как ничтожны эти театральные любовники с их картонной любовью!
Третий (подходя и ударив слегка его по плечу). Ты не прав: любовь так же, как и другие чувства, может тоже войти в комедию.
Второй. Я и не говорю, чтобы она не могла войти. Но только и любовь и все другие чувства, более возвышенные, тогда только произведут высокое впечатление, когда будут развиты во всей глубине. Занявшись ими, неминуемо должно пожертвовать всем прочим. Всё то, что составляет именно сторону комедии, тогда уже побледнеет, и значение комедии общественной непременно исчезнет.
Третий. Стало быть, предметом комедии должно быть непременно низкое? Комедия выйдет уже низкий род.
Второй. Для того, кто будет глядеть на слова, а не вникать в смысл, это так. Но разве положительное и отрицательное не может послужить той же цели? Разве комедия и трагедия не могут выразить ту же высокую мысль? Разве все, до малейшей, излучины души подлого и бесчестного человека не рисуют уже образ честного человека? Разве всё это накопление низостей, отступлений от законов и справедливости, не дает уже ясно знать, чего требуют от нас закон, долг и справедливость? В руках искусного врача и холодная и горячая вода лечит с равным успехом одни и те же болезни. В руках таланта всё может служить орудием к прекрасному, если только правится высокой мыслью послужить прекрасному.
Само собою разумеется, что автор пиесы лицо идеальное. В нем изображено положение комика в обществе, комика, избравшего предметом, осмеяние злоупотреблений в кругу различных сословий и должностей.
Август Коцебу (1761–1819) – немецкий драматург, автор пошлых сентиментальных пьес, переводившихся на русский язык и постоянно ставившихся на сцене в первой четверти XIX века.
«Я вырвался, как из омута! Вот наконец и крики и рукоплесканья! Весь театр гремит!.. Вот и слава! Боже, как бы забилось назад тому лет семь, восемь мое сердце, как бы встрепенулось всё во мне! Но то было давно. Я был тогда молод, дерзкомыслен, как юноша. Благ промысл, не давший вкусить мне ранних восторгов и хвал! Теперь… Но разумный холод лет умудрит хоть кого. Узнаешь наконец, что рукоплесканья еще не много значат и готовы служить всему наградой: актер ли постигнет всю тайну души и сердца человека, танцор ли добьется уменья выводить вензеля ногами, фокусник ли – всем им гремит рукоплесканье!..»
* * *
Приведённый ознакомительный фрагмент книги Театральный разъезд после представления новой комедии (Н. В. Гоголь, 1842) предоставлен нашим книжным партнёром - компанией ЛитРес .
Сени театра. С одной стороны видны лестницы, ведущие в ложи и галлереи, посредине вход в кресла и амфитеатр; с другой стороны выход. Слышен отдаленный гул рукоплесканий.
Показывается несколько прилично одетых людей; один говорит, обращаясь к другому:
Выйдем лучше теперь. Играться будет незначительный водевиль.
Оба уходят.
Два comme il faut плотного свойства, сходят с лестницы.
Первый comme il faut. Хорошо, если бы полиция не далеко отогнала мою карету. Как зовут эту молоденькую актрису, ты не знаешь?
Второй comme il faut. Нет, а очень недурна.
Первый comme il faut. Да, недурна; но всё чего-то еще нет. Да, рекомендую: новый ресторан: вчера нам подал свежий зеленый горох (целует концы пальцев) – прелесть! (Уходят оба).
Бежит офицер, другой удерживает его за руку.
Первый офицер. Да останемся!
Другой офицер. Нет, брат, на водевиль и калачом не заманишь. Знаем мы эти пиесы, которые даются на закуску: лакеи вместо актеров, а женщины – урод на уроде.
Уходят.
Светский человек, щеголевато одетый (сходя с лестницы). Плут портной, претесно сделал мне панталоны, всё время было страх неловко сидеть. За это я намерен еще проволочить его, и годика два не заплачу долгов. (Уходит).
Тоже светский человек, поплотнее (говорит с живостью другому). Никогда, никогда, поверь мне, он с тобою не сядет играть. Меньше как по полтораста рублей роберт он не играет. Я знаю это хорошо, потому что шурин мой, Пафнутьев, всякий день с ним играет.
Чиновник средних лет (выходя с растопыренными руками). Это, просто, чорт знает что такое! Этакое… этакое… Это ни на что не похоже. (Ушел).
Господин, несколько беззаботный насчет литературы (обращаясь к другому). Ведь это, однако ж, кажется, перевод?
Другой. Помилуйте, что за перевод! Действие происходит в России, наши обычаи и чины даже.
Господин, беззаботный насчет литературы. Я помню, однако ж, было что-то на французском, не совсем в этом роде.
Оба уходят.
Один из двух зрителей (тоже выходящих вон). Теперь еще ничего нельзя знать. Погоди, что скажут в журналах, тогда и узнаешь.
Две бекеши (одна другой). Ну, как вы? Я бы желал знать ваше мнение о комедии.
Другая бекеша (делая значительные движения губами). Да, конечно, нельзя сказать, чтобы не было того… в своем роде… Ну, конечно, кто ж против этого и стоит, чтобы опять не было и… где ж, так сказать… а впрочем… (утвердительно сжимая губами) Да, да.
Два офицера .
Первый. Я еще никогда так не смеялся.
Второй. Я полагаю: отличная комедия.
Первый. Ну, нет, посмотрим еще, что скажут в журналах, нужно подвергнуть суду критики… Смотри, смотри! (Толкает его под руку).
Второй. Что?
Первый (указывая пальцем на одного из двух идущих с лестницы). Литератор!
Второй (торопливо). Который?
Первый. Вот этот! чш! послушаем, что будут говорить.
Второй. А другой кто с ним?
Первый. Не знаю; неизвестно какой человек.
Оба офицера посторониваются и дают им место.
Неизвестно какой человек. Я не могу судить, относительно литературного достоинства; но мне кажется, есть остроумные заметки. Остро, остро.
Литератор. Помилуйте, что ж тут остроумного? Что за низкий народ выведен, что за тон? Шутки самые плоские; просто, даже сально!
Неизвестно какой человек. А, это другое дело. Я и говорю: в отношении литературного достоинства я не могу судить; я только заметил, что пиеса смешна, доставила удовольствие.
Литератор. Да и не смешна. Помилуйте, что ж тут смешного и в чем удовольствие? Сюжет невероятнейший. Всё несообразности; ни завязки, ни действия, ни соображения никакого.
Неизвестно какой человек. Ну, да против этого я и не говорю ничего. В литературном отношении так, в литературном отношении она не смешна; но в отношении, так сказать, со стороны в ней есть…
Литератор. Да что же есть? Помилуйте, и этого даже нет! Ну что за разговорный язык? Кто говорит эдак в высшем обществе? Ну скажите сами, ну говорим ли мы с вами эдак?
Неизвестно какой человек. Это правда; это вы очень тонко заметили. Именно, я вот сам про это думал: в разговоре благородства нет. Все лица, кажется, как будто не могут скрыть низкой природы своей – это правда.
Литератор. Ну, а вы еще хвалите!
Неизвестно какой человек. Кто ж хвалит? я не хвалю. Я сам теперь вижу, что пиеса – вздор. Но ведь вдруг
нельзя же этого узнать; я не могу судить в литературном отношении.
Оба уходят.
Еще литератор (входит в сопровождении слушателей, которым говорит, размахивая руками). Поверьте мне, я знаю это дело: отвратительная пиеса! грязная, грязная пиеса! Нет ни одного лица истинного, всё карикатуры! В натуре нет этого; поверьте мне, нет, я лучше это знаю: я сам литератор. Говорят: живость, наблюдение… да ведь это всё вздор, это всё приятели, приятели хвалят, всё приятели! Я уже слышал, что его чуть не в Фонвизины суют, а пиеса просто недостойна даже быть названа комедиею. Фарс, фарс, да и фарс самый неудачный. Последняя, пустейшая комедийка Коцебу в сравнении с нею Монблан перед Пулковскою горою. Я это им всем докажу, докажу математически, как дважды два. Просто друзья и приятели захвалили его не в меру, так вот он уж теперь, чай, думает о себе, что он чуть-чуть не Шекспир. У нас всегда приятели захвалят. Вот, например, и Пушкин. Отчего вся Россия теперь говорит о нем? Всё приятели кричали, кричали, а потом вслед за ними и вся Россия стала кричать. (Уходят вместе с слушателями).
Оба офицера подаются вперед и занимают их места.
Первый. Это справедливо, это совершенно справедливо: именно фарс; я это и прежде говорил, глупый фарс, поддержанный приятелями. Признаюсь, на многое даже отвратительно было смотреть.
Второй. Да ведь ты ж говорил, что еще никогда так не смеялся?
Первый. А это опять другое дело. Ты не понимаешь, тебе нужно растолковать. Тут что в этой пиесе? Во-первых, завязки никакой, действия тоже нет, соображенья решительно никакого, всё невероятности и при том всё карикатуры.
Двое других офицеров позади.
Один (другому). Кто это рассуждает? Кажется, из ваших?
Другой, заглянув сбоку в лицо рассуждавшего, махнул рукой.
Первый. Что, глуп?
Другой. Нет, не то чтобы… У него есть ум, но сейчас по выходе журнала, а запоздала выходом книжка – и в голове ничего. Но, однако ж, пойдем.
Уходят.
Два любителя искусств.
Первый. Я вовсе не из числа тех, которые прибегают только к словам: грязная, отвратительная, дурного тона и тому подобное. Это уже доказанное почти дело, что такие слова большею частью исходят из уст тех, которые сами очень сомнительного тона, толкуют о гостиных, и допускаются только в передние. Но не об них речь. Я говорю на счет того, что в пиесе точно нет завязки.
Второй. Да, если принимать завязку в том смысле, как её обыкновенно принимают, то-есть в смысле любовной интриги, так её точно нет. Но, кажется, уже пора перестать опираться до сих пор на эту вечную завязку. Стоит вглядеться пристально вокруг. Всё изменилось давно в свете. Теперь сильней завязывает драму стремление достать выгодное место, блеснуть и затмить, во что бы ни стало, другого, отмстить за пренебреженье, за насмешку. Не более ли теперь имеют электричества чин, денежный капитал, выгодная женитьба, чем любовь?
Первый. Всё это хорошо; но и в этом отношении всё-таки я не вижу в пиесе завязки.
Второй. Я не буду теперь утверждать, есть ли в пиесе завязка или нет. Я скажу только, что вообще ищут частной завязки и не хотят видеть общей. Люди простодушно привыкли уж к этим беспрестанным любовникам, без женитьбы которых никак не может окончиться пиеса. Конечно, это завязка, но какая завязка? – точный узелок на углике платка. Нет, комедия должна вязаться само собою, всей своей массою, в один большой, общий узел. Завязка должна обнимать все лица, а не одно или два, – коснуться того, что волнует, более или менее, всех действующих. Тут всякий герой; течение и ход пиесы производит потрясение всей машины: ни одно колесо не должно оставаться как ржавое и не входящее в дело.
Первый. Но все же не могут быть героями; один или два должны управлять другими?
Второй. Совсем не управлять, а разве преобладать. И в машине одни колеса заметней и сильней движутся; их можно только назвать главными; но правит пиесою идея, мысль. Без нее нет в ней единства. А завязать может всё: самый ужас, страх ожидания, гроза идущего вдали закона…
Первый. Но это выходит уж придавать комедии какое-то значение более всеобщее.
Второй. Да разве не есть это ее прямое и настоящее значение? В самом начале комедия была общественным, народным созданием. По крайней мере, такою показал ее сам отец ее, Аристофан. После уже она вошла в узкое ущелье частной завязки, внесла любовный ход, одну и ту же непременную завязку. Зато как слаба эта завязка у самых лучших комиков, как ничтожны эти театральные любовники с их картонной любовью!
Третий (подходя и ударив слегка его по плечу). Ты не прав: любовь так же, как и другие чувства, может тоже войти в комедию.
Второй. Я и не говорю, чтобы она не могла войти. Но только и любовь и все другие чувства, более возвышенные, тогда только произведут высокое впечатление, когда будут развиты во всей глубине. Занявшись ими, неминуемо должно пожертвовать всем прочим. Всё то, что составляет именно сторону комедии, тогда уже побледнеет, и значение комедии общественной непременно исчезнет.
Третий. Стало быть, предметом комедии должно быть непременно низкое? Комедия выйдет уже низкий род.
Второй. Для того, кто будет глядеть на слова, а не вникать в смысл, это так. Но разве положительное и отрицательное не может послужить той же цели? Разве комедия и трагедия не могут выразить ту же высокую мысль? Разве все, до малейшей, излучины души подлого и бесчестного человека не рисуют уже образ честного человека? Разве всё это накопление низостей, отступлений от законов и справедливости, не дает уже ясно знать, чего требуют от нас закон, долг и справедливость? В руках искусного врача и холодная и горячая вода лечит с равным успехом одни и те же болезни. В руках таланта всё может служить орудием к прекрасному, если только правится высокой мыслью послужить прекрасному.
Четвертый (подходя). Что может послужить прекрасному? и о чем у вас толки?
Первый. Спор завязался у нас о комедии. Мы все говорим о комедии вообще, а никто еще не сказал ничего о новой комедии. Что вы скажете?
Четвертый. А вот что скажу: виден талант, наблюдение жизни, много смешного, верного, взятого с натуры; но вообще во всей пиесе чего-то нет. Как-то не видишь ни завязки, ни развязки. Странно, что наши комики никак не могут обойтись без правительства. Без него у нас не развяжется ни одна комедия.
Третий. Это правда. А впрочем, с другой стороны, это очень естественно. Мы все принадлежим правительству, все почти служим; интересы всех нас более или менее соединены с правительством. Стало быть, не мудрено, что это отражается в созданьях наших писателей.
Четвертый. Так. Ну и пусть эта связь будет слышна. Но смешно то, что пиеса никак не может кончиться без правительства. Оно непременно явится, точно неизбежный рок в трагедиях у древних.
Второй. Ну, видите: стало быть, это уже что-то невольное у наших комиков. Стало быть, это уже составляет какой-то отличительный характер нашей комедии. В груди нашей заключена какая-то тайная вера в правительство. Что ж? тут нет ничего дурного: дай бог, чтобы правительство всегда и везде слышало призвание свое – быть представителем провиденья на земле, и чтобы мы веровали в него, как древние веровали в рок, настигавший преступления.
Пятый. Здравствуйте, господа! Я только и слышу слово «правительство». Комедия возбудила крики и толки…
Второй. Поговоримте лучше об этих толках и криках у меня, чем здесь, в театральных сенях.
Уходят.
Несколько почтенных и прилично одетых людей появляются один за другим.
№ 1. Так, так, я вижу: это верно, что есть у нас и случается в иных местах и похуже; но для какой цели, к чему выводить это? – вот вопрос. Зачем эти представления? какая польза от них? вот что разрешите мне! Что мне нужды знать, что в таком-то месте есть плуты? Я просто… я не понимаю надобности подобных представлений. (Уходит).
№ 2. Нет, это не осмеяние пороков; это отвратительная насмешка над Россиею – вот что. Это значит выставить в дурном виде самое правительство, потому что выставлять дурных чиновников и злоупотребления, которые бывают в разных сословиях, значит выставить самое правительство. Просто, даже не следует дозволять таких представлений. (Уходит).
Входят господин А. и господин Б., люди немаловажных чинов.
Господин А. Я не на счет этого говорю; напротив, злоупотребленья нам нужно показывать, нужно, чтобы мы видели свои проступки; и я ничуть не разделяю мнений многих чересчур разгорячившихся патриотов; но только мне кажется, что не слишком ли много здесь чего-то печального…
Господин Б. Я бы очень хотел, чтобы вы услышали замечание одного очень скромно одетого человека, который сидел возле меня в креслах… Ах, вот он сам!
Господин А. Кто?
Господин Б. Именно этот очень скромно одетый человек. (Обращаясь к нему). Мы с вами не кончили разговора, которого начало было так для меня интересно.
Очень скромно одетый человек. А я, признаюсь, очень рад продолжать его. Сейчас только я слышал толки, именно: что это всё неправда, что это насмешка над правительством, над нашими обычаями, и что этого не следует вовсе представлять. Это заставило меня мысленно припомнить и обнять всю пиесу, и признаюсь, выражение комедии показалось мне теперь еще даже значительней. В ней, как мне кажется, сильней и глубже всего поражено смехом лицемерие, благопристойная маска, под которою является низость и подлость, плут, корчащий рожу благонамеренного человека. Признаюсь, я чувствовал радость, видя, как смешны благонамеренные слова в устах плута и как уморительно смешна стала всем, от кресел до райка, надетая им маска. И после этого есть люди, которые говорят, что не нужно выводить этого на сцену! Я слышал одно замечание, сделанное, как мне показалось, впрочем, довольно порядочным человеком: «А что скажет народ, когда увидит, что у нас бывают вот какие злоупотребления?»
Конец ознакомительного фрагмента.
Николай Васильевич Гоголь
Театральный разъезд после представления новой комедии
Сени театра. С одной стороны видны лестницы, ведущие в ложи и галлереи, посредине вход в кресла и амфитеатр; с другой стороны выход. Слышен отдаленный гул рукоплесканий.
Автор пиесы (выходя) .Показывается несколько прилично одетых людей; один говорит, обращаясь к другому:
Выйдем лучше теперь. Играться будет незначительный водевиль.
Оба уходят.
Два comme il faut плотного свойства, сходят с лестницы.Первый comme il faut. Хорошо, если бы полиция не далеко отогнала мою карету. Как зовут эту молоденькую актрису, ты не знаешь?
Второй comme il faut. Нет, а очень недурна.
Первый comme il faut. Да, недурна; но всё чего-то еще нет. Да, рекомендую: новый ресторан: вчера нам подал свежий зеленый горох (целует концы пальцев) – прелесть! (Уходят оба).
Бежит офицер, другой удерживает его за руку.
Первый офицер. Да останемся!
Другой офицер. Нет, брат, на водевиль и калачом не заманишь. Знаем мы эти пиесы, которые даются на закуску: лакеи вместо актеров, а женщины – урод на уроде.
Уходят.
Светский человек , щеголевато одетый (сходя с лестницы). Плут портной, претесно сделал мне панталоны, всё время было страх неловко сидеть. За это я намерен еще проволочить его, и годика два не заплачу долгов. (Уходит).
Тоже светский человек , поплотнее (говорит с живостью другому). Никогда, никогда, поверь мне, он с тобою не сядет играть. Меньше как по полтораста рублей роберт он не играет. Я знаю это хорошо, потому что шурин мой, Пафнутьев, всякий день с ним играет.
Чиновник средних лет (выходя с растопыренными руками). Это, просто, чорт знает что такое! Этакое… этакое… Это ни на что не похоже. (Ушел).
Господин , несколько беззаботный насчет литературы (обращаясь к другому). Ведь это, однако ж, кажется, перевод?
Другой. Помилуйте, что за перевод! Действие происходит в России, наши обычаи и чины даже.
Господин , беззаботный насчет литературы. Я помню, однако ж, было что-то на французском, не совсем в этом роде.
Оба уходят.
Один из двух зрителей (тоже выходящих вон). Теперь еще ничего нельзя знать. Погоди, что скажут в журналах, тогда и узнаешь.
Две бекеши (одна другой). Ну, как вы? Я бы желал знать ваше мнение о комедии.
Другая бекеша (делая значительные движения губами). Да, конечно, нельзя сказать, чтобы не было того… в своем роде… Ну, конечно, кто ж против этого и стоит, чтобы опять не было и… где ж, так сказать… а впрочем… (утвердительно сжимая губами) Да, да.
Два офицера .
Первый. Я еще никогда так не смеялся.
Второй. Я полагаю: отличная комедия.
Первый. Ну, нет, посмотрим еще, что скажут в журналах, нужно подвергнуть суду критики… Смотри, смотри! (Толкает его под руку).
Второй. Что?
Первый (указывая пальцем на одного из двух идущих с лестницы). Литератор!
Второй (торопливо). Который?
Первый. Вот этот! чш! послушаем, что будут говорить.
Второй. А другой кто с ним?
Первый. Не знаю; неизвестно какой человек.
Оба офицера посторониваются и дают им место.
Неизвестно какой человек. Я не могу судить, относительно литературного достоинства; но мне кажется, есть остроумные заметки. Остро, остро.
Литератор. Помилуйте, что ж тут остроумного? Что за низкий народ выведен, что за тон? Шутки самые плоские; просто, даже сально!
Неизвестно какой человек. А, это другое дело. Я и говорю: в отношении литературного достоинства я не могу судить; я только заметил, что пиеса смешна, доставила удовольствие.
Литератор. Да и не смешна. Помилуйте, что ж тут смешного и в чем удовольствие? Сюжет невероятнейший. Всё несообразности; ни завязки, ни действия, ни соображения никакого.
Неизвестно какой человек. Ну, да против этого я и не говорю ничего. В литературном отношении так, в литературном отношении она не смешна; но в отношении, так сказать, со стороны в ней есть…
Литератор. Да что же есть? Помилуйте, и этого даже нет! Ну что за разговорный язык? Кто говорит эдак в высшем обществе? Ну скажите сами, ну говорим ли мы с вами эдак?
Неизвестно какой человек. Это правда; это вы очень тонко заметили. Именно, я вот сам про это думал: в разговоре благородства нет. Все лица, кажется, как будто не могут скрыть низкой природы своей – это правда.
Литератор. Ну, а вы еще хвалите!
Неизвестно какой человек. Кто ж хвалит? я не хвалю. Я сам теперь вижу, что пиеса – вздор. Но ведь вдруг
нельзя же этого узнать; я не могу судить в литературном отношении.
Оба уходят.
Еще литератор (входит в сопровождении слушателей, которым говорит, размахивая руками). Поверьте мне, я знаю это дело: отвратительная пиеса! грязная, грязная пиеса! Нет ни одного лица истинного, всё карикатуры! В натуре нет этого; поверьте мне, нет, я лучше это знаю: я сам литератор. Говорят: живость, наблюдение… да ведь это всё вздор, это всё приятели, приятели хвалят, всё приятели! Я уже слышал, что его чуть не в Фонвизины суют, а пиеса просто недостойна даже быть названа комедиею. Фарс, фарс, да и фарс самый неудачный. Последняя, пустейшая комедийка Коцебу в сравнении с нею Монблан перед Пулковскою горою. Я это им всем докажу, докажу математически, как дважды два. Просто друзья и приятели захвалили его не в меру, так вот он уж теперь, чай, думает о себе, что он чуть-чуть не Шекспир. У нас всегда приятели захвалят. Вот, например, и Пушкин. Отчего вся Россия теперь говорит о нем? Всё приятели кричали, кричали, а потом вслед за ними и вся Россия стала кричать. (Уходят вместе с слушателями).
Оба офицера подаются вперед и занимают их места.
Первый. Это справедливо, это совершенно справедливо: именно фарс; я это и прежде говорил, глупый фарс, поддержанный приятелями. Признаюсь, на многое даже отвратительно было смотреть.
Второй. Да ведь ты ж говорил, что еще никогда так не смеялся?
Первый. А это опять другое дело. Ты не понимаешь, тебе нужно растолковать. Тут что в этой пиесе? Во-первых, завязки никакой, действия тоже нет, соображенья решительно никакого, всё невероятности и при том всё карикатуры.
Двое других офицеров позади.
Один (другому). Кто это рассуждает? Кажется, из ваших?
Другой, заглянув сбоку в лицо рассуждавшего, махнул рукой.
Первый. Что, глуп?
Другой. Нет, не то чтобы… У него есть ум, но сейчас по выходе журнала, а запоздала выходом книжка – и в голове ничего. Но, однако ж, пойдем.
Уходят.
Два любителя искусств.
Первый. Я вовсе не из числа тех, которые прибегают только к словам: грязная, отвратительная, дурного тона и тому подобное. Это уже доказанное почти дело, что такие слова большею частью исходят из уст тех, которые сами очень сомнительного тона, толкуют о гостиных, и допускаются только в передние. Но не об них речь. Я говорю на счет того, что в пиесе точно нет завязки.
Второй. Да, если принимать завязку в том смысле, как её обыкновенно принимают, то-есть в смысле любовной интриги, так её точно нет. Но, кажется, уже пора перестать опираться до сих пор на эту вечную завязку. Стоит вглядеться пристально вокруг. Всё изменилось давно в свете. Теперь сильней завязывает драму стремление достать выгодное место, блеснуть и затмить, во что бы ни стало, другого, отмстить за пренебреженье, за насмешку. Не более ли теперь имеют электричества чин, денежный капитал, выгодная женитьба, чем любовь?
Первый. Всё это хорошо; но и в этом отношении всё-таки я не вижу в пиесе завязки.
Второй. Я не буду теперь утверждать, есть ли в пиесе завязка или нет. Я скажу только, что вообще ищут частной завязки и не хотят видеть общей. Люди простодушно привыкли уж к этим беспрестанным любовникам, без женитьбы которых никак не может окончиться пиеса. Конечно, это завязка, но какая завязка? – точный узелок на углике платка. Нет, комедия должна вязаться само собою, всей своей массою, в один большой, общий узел. Завязка должна обнимать все лица, а не одно или два, – коснуться того, что волнует, более или менее, всех действующих. Тут всякий герой; течение и ход пиесы производит потрясение всей машины: ни одно колесо не должно оставаться как ржавое и не входящее в дело.
Первый. Но все же не могут быть героями; один или два должны управлять другими?
Второй. Совсем не управлять, а разве преобладать. И в машине одни колеса заметней и сильней движутся; их можно только назвать главными; но правит пиесою идея, мысль. Без нее нет в ней единства. А завязать может всё: самый ужас, страх ожидания, гроза идущего вдали закона…
Первый. Но это выходит уж придавать комедии какое-то значение более всеобщее.
Второй. Да разве не есть это ее прямое и настоящее значение? В самом начале комедия была общественным, народным созданием. По крайней мере, такою показал ее сам отец ее, Аристофан. После уже она вошла в узкое ущелье частной завязки, внесла любовный ход, одну и ту же непременную завязку. Зато как слаба эта завязка у самых лучших комиков, как ничтожны эти театральные любовники с их картонной любовью!
Третий (подходя и ударив слегка его по плечу). Ты не прав: любовь так же, как и другие чувства, может тоже войти в комедию.
Второй. Я и не говорю, чтобы она не могла войти. Но только и любовь и все другие чувства, более возвышенные, тогда только произведут высокое впечатление, когда будут развиты во всей глубине. Занявшись ими, неминуемо должно пожертвовать всем прочим. Всё то, что составляет именно сторону комедии, тогда уже побледнеет, и значение комедии общественной непременно исчезнет.
Третий. Стало быть, предметом комедии должно быть непременно низкое? Комедия выйдет уже низкий род.
Второй. Для того, кто будет глядеть на слова, а не вникать в смысл, это так. Но разве положительное и отрицательное не может послужить той же цели? Разве комедия и трагедия не могут выразить ту же высокую мысль? Разве все, до малейшей, излучины души подлого и бесчестного человека не рисуют уже образ честного человека? Разве всё это накопление низостей, отступлений от законов и справедливости, не дает уже ясно знать, чего требуют от нас закон, долг и справедливость? В руках искусного врача и холодная и горячая вода лечит с равным успехом одни и те же болезни. В руках таланта всё может служить орудием к прекрасному, если только правится высокой мыслью послужить прекрасному.
Сени театра. Слышится отдаленный шум рукоплесканий. Выходит автор пьесы и задумывается на счет того, как восприняла его произведение публика. Он отмечает, что еще семь-восемь лет назад его сердце бы радостно забилось, услышав эти крики и аплодисменты. Но ведь и танцору, и фокуснику рукоплескали публика, хоть они и не затрагивают чувства и душу человека. Поэтому сейчас автору важнее узнать, что думают о его пьесе и услышать мнения зрителей. Пусть даже они и укажут ему на недостатки, в каждом слове, по мнению автора, есть искра правды.
Появляются первые зрители, они говорят о какой-то ерунде: о ресторане, водевиле, который должны играть после пьесы, тесных панталонах, картах.
Автор замечает двух офицеров, размахивающих руками. Сперва они вполне положительно отзываются о пьесе, но затем первый произносит: «Ну, нет, посмотрим еще, что скажут в журналах: нужно подвергнуть суду критики…»
Тут же появляется литератор, который разговаривает с «неизвестно каким человеком». Тот отмечает, что заметки автора вполне остры, но литератор категорически с ним не согласен. Литератор называет шутки плоскими, а саму пьесу лишенной завязки. «Неизвестно какой человек» тут же меняет свое мнение и соглашается с литератором.
Еще один литератор входит в сопровождении слушателей и тоже ругает «грязную» пьесу. По его мнению в пьесе «все карикатуры» и ни одного истинного лица.
Когда он со слушателями удаляются, мы опять видим офицеров, которые прежде так хорошо отзывались о пьесе. Теперь же они говорят, что пьеса не больше, чем глупый фарс. Удаляются.
Появляются другие два офицера. Их разговор гораздо более самостоятелен и глубок. Первый считает, что в пьесе нет завязки, однако второй говорит, что в пьесе нет любовной, столь привычной всем завязки, и все видят только частную завязку, но не видят общей. Завязка должна обнимать все лица, а не одно — два. В разговор вклинивается третий офицер, зачем четвертый. Разговор заходит о том, что комедия является низким жанром только для того, кто будет глядеть на слова, а не на смысл. А «в руках таланта все может служить орудием к прекрасному, если только правится высокой мыслью послужить прекрасному». О самой пьесе они говорят, что в ней много верного и взятого с натуры, но не хватает завязки и развязки. Также молодые люди отмечают, что наши комики никогда не могут обойтись без правительства. И называют это тайной верой в правительство, в чем, впрочем, нет ничего плохого. Один из молодых людей предлагает продолжить разговор у него, и они уходят.
Несколько хорошо одетых и почтенных людей бормочут что-то о том, что им нет дела до того, что «где-то» есть плуты, и это не высмеивание пороков, а насмешка над всей Россией.
Появляются господа А и Б, немаловажных чинов, и «скромно одетый человек». «Скромно одетый человек» отмечает, как поражено смехом лицемерие, благопристойная маска, под которою является низость и подлость, плут, корчащий рожу благонамеренного человека. По мнению «скромно одетого человека» такие представления нужны, чтобы простой человек мог отличить правительство от дурных исправителей правительства. Господин А недоумевает и спрашивает: неужели действительно существует такие люди, на что «скромный человек» отвечает, что надо задавать другой вопрос: «неужели я сам чист от таких пороков?» Но никто никогда не задумывается об этом. Оказывается, что «скромно одетый человек» — сам чиновник из маленького городка. Из-за того, что не все чиновники в его городе честные люди, он не раз хотел бросить службу, но после представления почувствовал желание работать, так как есть перо, которое может высмеять пороки чиновников. Господин А делает чиновнику предложение о службе, но тот отказывается, не желая покидать свою должность, так как на этом месте он полезен. Подходят господа В и П. Господин П рассуждает о том, что после таких пьес теряется уважение к чиновникам, однако господин Б отмечает, что уважение теряется только к тем, кто плохо исполняет свои обязанности.
Две бекеши, светская дама и мужчина в мундире говорят о том, что ни одно русское сочинение не может сравниться с французским, и у нас так писать не умеют.
Трое мужчин выходят, споря о том, можно ли высмеивать пороки чиновников и правительство. Двое считают, что есть огромное количество других вещей, над которыми можно смеяться. Третий же думает, что «так всегда на свете: посмейся над истинно-благородным, над тем, что составляет высокую святыню души, никто не станет заступником; посмейся же над порочным, подлым и низким — все закричат: «он смеется над святыней».
Несколько дам говорят, что они смеялись от души, однако чувствуя некую грусть. Одна из дам заметила, что больше всего после пьесы кричали и возмущались самые подлые люди.
Выходят двое зрителей. Первый говорит о том, что каждое лицо в отдельности живо и правдиво, но все эти лица вместе производят некую неестественность. Второй зритель отвечает, что «это — сборное место: отвсюду, из разных уголков России, стеклись сюда исключения из правды, заблуждения и злоупотребления, чтобы послужить одной идее — произвести в зрителе яркое, благородное отвращение от многого кое-чего низкого». И если хоть одно честное лицо было бы помещено в комедию, то все тут же перешли бы на его сторону и позабыли об остальных.
Водевиль, идущий после пьесы, заканчивается, появляется толпа. Кто-то ругает пьесу, кто-то пытается пройти, стоит шум и гам. Кто-то говорит, что такое происшествие было на самом деле в их городке, кто-то замечает, что взятки вовсе не так берут. Какой-то чиновник говорит, что писать больше вообще ничего не нужно. Книг и так много — читай, что уже написано!
Красивый и плотненький господин говорит «низенькому и невзрачненькому господину ядовитого свойства» о том, что от таких пьес страдает нравственность! На что его собеседник отвечает, что нравственность — это вещь относительная.
Другая группа собеседников судачит об авторе, придумывая на ходу всякие небылицы. Они приходят к тому, что со смехом шутить нельзя, и автор — человек, для которого нет ничего священного. А для того, чтобы быть литератором и особого ума не нужно. Все постепенно удаляются.
Выходит автор пьесы. Он отмечает разнообразие во мнениях и радуется этому. Автор заметил и благородное стремление государственного мужа, и высокое самоотверженье забившегося в глушь чиновника, и в нежную красоту великодушной женской души, и в эстетическое чувстве ценителей. И простое, верное чутье народа. Но ему все же грустно. Ведь никто из зрителей не увидел единственное благородное лицо в пьесе — смех. Тот смех, «который весь излетает из светлой природы человека, — излетает из нее потому, что на дне ее заключен вечно-бьющий родник его, который углубляет предмет, заставляет выступить ярко то, что проскользнуло бы, без проницающей силы которого мелочь и пустота жизни не испугали бы так человека». Автор говорит о том, что произведения нельзя называть побасенками, как сделал один из посетителей театра. Ведь на них отзываются человеческие души, они живут и повторяется вечно. «Мир — как водоворот: движутся в нем вечно мненья и толки, но все перемалывает время: как шелуха, слетают ложные, и, как твердые зерна, остаются недвижные истины. Что признавалось пустым, может явиться потом вооруженное строгим значеньем. В глубине холодного смеха могут отыскаться и горячие искры вечной могучей любви. И, почему знать, может быть, будет признано потом всеми, что в силу тех же законов, почему гордый и сильный человек является ничтожным и слабым в несчастии, а слабый возрастает, как исполин, среди бед, — в силу тех же самых законов, кто льет часто душевные, глубокие слезы, тот, кажется, более всех смеется на свете!..»
Сени театра. С одной стороны видны лестницы, ведущие в ложи и галлереи, посредине вход в кресла и амфитеатр; с другой стороны выход. Слышен отдаленный гул рукоплесканий.
Показывается несколько прилично одетых людей; один говорит, обращаясь к другому:
Выйдем лучше теперь. Играться будет незначительный водевиль.
Оба уходят.
Два comme il faut
плотного свойства, сходят с лестницы.
Первый comme il faut.
Хорошо, если бы полиция не далеко отогнала мою карету. Как зовут эту молоденькую актрису, ты не знаешь?
Второй comme il faut.
Нет, а очень недурна.
Первый comme il faut.
Да, недурна; но всё чего-то еще нет. Да, рекомендую: новый ресторан: вчера нам подал свежий зеленый горох (целует концы пальцев)
– прелесть! (Уходят оба).
Бежит офицер, другой удерживает его за руку.
Первый офицер.
Да останемся!
Другой офицер.
Нет, брат, на водевиль и калачом не заманишь. Знаем мы эти пиесы, которые даются на закуску: лакеи вместо актеров, а женщины – урод на уроде.
Уходят.
Светский человек
, щеголевато одетый
(сходя с лестницы).
Плут портной, претесно сделал мне панталоны, всё время было страх неловко сидеть. За это я намерен еще проволочить его, и годика два не заплачу долгов. (Уходит).
Тоже светский человек
, поплотнее
(говорит с живостью другому).
Никогда, никогда, поверь мне, он с тобою не сядет играть. Меньше как по полтораста рублей роберт он не играет. Я знаю это хорошо, потому что шурин мой, Пафнутьев, всякий день с ним играет.
Автор пиесы
(про себя).
И всё еще никто ни слова о комедии!
Чиновник средних лет
(выходя с растопыренными руками).
Это, просто, чорт знает что такое! Этакое…
этакое…
Это ни на что не похоже. (Ушел).
Господин
, несколько беззаботный насчет литературы
(обращаясь к другому).
Ведь это, однако ж, кажется, перевод?
Другой.
Помилуйте, что за перевод! Действие происходит в России, наши обычаи и чины даже.
Господин
, беззаботный насчет литературы.
Я помню, однако ж, было что-то на французском, не совсем в этом роде.
Оба уходят.
Один из двух зрителей
(тоже выходящих вон).
Теперь еще ничего нельзя знать. Погоди, что скажут в журналах, тогда и узнаешь.
Две бекеши
(одна другой).
Ну, как вы? Я бы желал знать ваше мнение о комедии.
Другая бекеша
(делая значительные движения губами).
Да, конечно, нельзя сказать, чтобы не было того… в своем роде… Ну, конечно, кто ж против этого и стоит, чтобы опять не было и… где ж, так сказать…
а впрочем… (утвердительно сжимая губами)
Да, да.
Два офицера .
Первый.
Я еще никогда так не смеялся.
Второй.
Я полагаю: отличная комедия.
Первый.
Ну, нет, посмотрим еще, что скажут в журналах, нужно подвергнуть суду критики…
Смотри, смотри! (Толкает его под руку).
Второй.
Что?
Первый
(указывая пальцем на одного из двух идущих с лестницы).
Литератор!
Второй
(торопливо).
Который?
Первый.
Вот этот! чш! послушаем, что будут говорить.
Второй.
А другой кто с ним?
Первый.
Не знаю; неизвестно какой человек.
Оба офицера посторониваются и дают им место.
Неизвестно какой человек.
Я не могу судить, относительно литературного достоинства; но мне кажется, есть остроумные заметки. Остро, остро.
Литератор.
Помилуйте, что ж тут остроумного? Что за низкий народ выведен, что за тон? Шутки самые плоские; просто, даже сально!
Неизвестно какой человек.
А, это другое дело. Я и говорю: в отношении литературного достоинства я не могу судить; я только заметил, что пиеса смешна, доставила удовольствие.
Литератор.
Да и не смешна. Помилуйте, что ж тут смешного и в чем удовольствие? Сюжет невероятнейший. Всё несообразности; ни завязки, ни действия, ни соображения никакого.
Неизвестно какой человек.
Ну, да против этого я и не говорю ничего. В литературном отношении так, в литературном отношении она не смешна; но в отношении, так сказать, со стороны в ней есть…
Литератор.
Да что же есть? Помилуйте, и этого даже нет! Ну что за разговорный язык? Кто говорит эдак в высшем обществе? Ну скажите сами, ну говорим ли мы с вами эдак?
Неизвестно какой человек.
Это правда; это вы очень тонко заметили. Именно, я вот сам про это думал: в разговоре благородства нет. Все лица, кажется, как будто не могут скрыть низкой природы своей – это правда.
Литератор.
Ну, а вы еще хвалите!
Неизвестно какой человек.
Кто ж хвалит? я не хвалю. Я сам теперь вижу, что пиеса – вздор. Но ведь вдруг
нельзя же этого узнать; я не могу судить в литературном отношении.
Оба уходят.
Еще литератор (входит в сопровождении слушателей, которым говорит, размахивая руками). Поверьте мне, я знаю это дело: отвратительная пиеса! грязная, грязная пиеса! Нет ни одного лица истинного, всё карикатуры! В натуре нет этого; поверьте мне, нет, я лучше это знаю: я сам литератор. Говорят: живость, наблюдение… да ведь это всё вздор, это всё приятели, приятели хвалят, всё приятели! Я уже слышал, что его чуть не в Фонвизины суют, а пиеса просто недостойна даже быть названа комедиею. Фарс, фарс, да и фарс самый неудачный. Последняя, пустейшая комедийка Коцебу в сравнении с нею Монблан перед Пулковскою горою. Я это им всем докажу, докажу математически, как дважды два. Просто друзья и приятели захвалили его не в меру, так вот он уж теперь, чай, думает о себе, что он чуть-чуть не Шекспир. У нас всегда приятели захвалят. Вот, например, и Пушкин. Отчего вся Россия теперь говорит о нем? Всё приятели кричали, кричали, а потом вслед за ними и вся Россия стала кричать. (Уходят вместе с слушателями).
Оба офицера подаются вперед и занимают их места.
Первый.
Это справедливо, это совершенно справедливо: именно фарс; я это и прежде говорил, глупый фарс, поддержанный приятелями. Признаюсь, на многое даже отвратительно было смотреть.
Второй.
Да ведь ты ж говорил, что еще никогда так не смеялся?
Первый.
А это опять другое дело. Ты не понимаешь, тебе нужно растолковать. Тут что в этой пиесе? Во-первых, завязки никакой, действия тоже нет, соображенья решительно никакого, всё невероятности и при том всё карикатуры.
Двое других офицеров позади.
Один
(другому).
Кто это рассуждает? Кажется, из ваших?
Другой, заглянув сбоку в лицо рассуждавшего, махнул рукой.
Первый.
Что, глуп?
Другой.
Нет, не то чтобы…
У него есть ум, но сейчас по выходе журнала, а запоздала выходом книжка – и в голове ничего. Но, однако ж, пойдем.
Уходят.
Два любителя искусств.
Первый.
Я вовсе не из числа тех, которые прибегают только к словам: грязная, отвратительная, дурного тона и тому подобное. Это уже доказанное почти дело, что такие слова большею частью исходят из уст тех, которые сами очень сомнительного тона, толкуют о гостиных, и допускаются только в передние. Но не об них речь. Я говорю на счет того, что в пиесе точно нет завязки.
Второй.
Да, если принимать завязку в том смысле, как её обыкновенно принимают, то-есть в смысле любовной интриги, так её точно нет. Но, кажется, уже пора перестать опираться до сих пор на эту вечную завязку. Стоит вглядеться пристально вокруг. Всё изменилось давно в свете. Теперь сильней завязывает драму стремление достать выгодное место, блеснуть и затмить, во что бы ни стало, другого, отмстить за пренебреженье, за насмешку. Не более ли теперь имеют электричества чин, денежный капитал, выгодная женитьба, чем любовь?
Первый.
Всё это хорошо; но и в этом отношении всё-таки я не вижу в пиесе завязки.
Второй.
Я не буду теперь утверждать, есть ли в пиесе завязка или нет. Я скажу только, что вообще ищут частной завязки и не хотят видеть общей. Люди простодушно привыкли уж к этим беспрестанным любовникам, без женитьбы которых никак не может окончиться пиеса. Конечно, это завязка, но какая завязка? – точный узелок на углике платка. Нет, комедия должна вязаться само собою, всей своей массою, в один большой, общий узел. Завязка должна обнимать все лица, а не одно или два, – коснуться того, что волнует, более или менее, всех действующих. Тут всякий герой; течение и ход пиесы производит потрясение всей машины: ни одно колесо не должно оставаться как ржавое и не входящее в дело.
Первый.
Но все же не могут быть героями; один или два должны управлять другими?
Второй.
Совсем не управлять, а разве преобладать. И в машине одни колеса заметней и сильней движутся; их можно только назвать главными; но правит пиесою идея, мысль. Без нее нет в ней единства. А завязать может всё: самый ужас, страх ожидания, гроза идущего вдали закона…
Первый.
Но это выходит уж придавать комедии какое-то значение более всеобщее.
Второй.
Да разве не есть это ее прямое и настоящее значение? В самом начале комедия была общественным, народным созданием. По крайней мере, такою показал ее сам отец ее, Аристофан. После уже она вошла в узкое ущелье частной завязки, внесла любовный ход, одну и ту же непременную завязку. Зато как слаба эта завязка у самых лучших комиков, как ничтожны эти театральные любовники с их картонной любовью!
Третий
(подходя и ударив слегка его по плечу).
Ты не прав: любовь так же, как и другие чувства, может тоже войти в комедию.
Второй.
Я и не говорю, чтобы она не могла войти. Но только и любовь и все другие чувства, более возвышенные, тогда только произведут высокое впечатление, когда будут развиты во всей глубине. Занявшись ими, неминуемо должно пожертвовать всем прочим. Всё то, что составляет именно сторону комедии, тогда уже побледнеет, и значение комедии общественной непременно исчезнет.
Третий.
Стало быть, предметом комедии должно быть непременно низкое? Комедия выйдет уже низкий род.
Второй.
Для того, кто будет глядеть на слова, а не вникать в смысл, это так. Но разве положительное и отрицательное не может послужить той же цели? Разве комедия и трагедия не могут выразить ту же высокую мысль? Разве все, до малейшей, излучины души подлого и бесчестного человека не рисуют уже образ честного человека? Разве всё это накопление низостей, отступлений от законов и справедливости, не дает уже ясно знать, чего требуют от нас закон, долг и справедливость? В руках искусного врача и холодная и горячая вода лечит с равным успехом одни и те же болезни. В руках таланта всё может служить орудием к прекрасному, если только правится высокой мыслью послужить прекрасному.
Четвертый
(подходя).
Что может послужить прекрасному? и о чем у вас толки?
Первый.
Спор завязался у нас о комедии. Мы все говорим о комедии вообще, а никто еще не сказал ничего о новой комедии. Что вы скажете?
Четвертый.
А вот что скажу: виден талант, наблюдение жизни, много смешного, верного, взятого с натуры; но вообще во всей пиесе чего-то нет. Как-то не видишь ни завязки, ни развязки. Странно, что наши комики никак не могут обойтись без правительства. Без него у нас не развяжется ни одна комедия.
Третий.
Это правда. А впрочем, с другой стороны, это очень естественно. Мы все принадлежим правительству, все почти служим; интересы всех нас более или менее соединены с правительством. Стало быть, не мудрено, что это отражается в созданьях наших писателей.
Четвертый.
Так. Ну и пусть эта связь будет слышна. Но смешно то, что пиеса никак не может кончиться без правительства. Оно непременно явится, точно неизбежный рок в трагедиях у древних.
Второй.
Ну, видите: стало быть, это уже что-то невольное у наших комиков. Стало быть, это уже составляет какой-то отличительный характер нашей комедии. В груди нашей заключена какая-то тайная вера в правительство. Что ж? тут нет ничего дурного: дай бог, чтобы правительство всегда и везде слышало призвание свое – быть представителем провиденья на земле, и чтобы мы веровали в него, как древние веровали в рок, настигавший преступления.
Пятый.
Здравствуйте, господа! Я только и слышу слово «правительство». Комедия возбудила крики и толки…
Второй.
Поговоримте лучше об этих толках и криках у меня, чем здесь, в театральных сенях.
Уходят.
Несколько почтенных и прилично одетых людей появляются один за другим.
№ 1.
Так, так, я вижу: это верно, что есть у нас и случается в иных местах и похуже; но для какой цели, к чему выводить это? – вот вопрос. Зачем эти представления? какая польза от них? вот что разрешите мне! Что мне нужды знать, что в таком-то месте есть плуты? Я просто…
я не понимаю надобности подобных представлений. (Уходит).
№ 2.
Нет, это не осмеяние пороков; это отвратительная насмешка над Россиею – вот что. Это значит выставить в дурном виде самое правительство, потому что выставлять дурных чиновников и злоупотребления, которые бывают в разных сословиях, значит выставить самое правительство. Просто, даже не следует дозволять таких представлений. (Уходит).
Входят господин А. и господин Б., люди немаловажных чинов.
Господин А.
Я не на счет этого говорю; напротив, злоупотребленья нам нужно показывать, нужно, чтобы мы видели свои проступки; и я ничуть не разделяю мнений многих чересчур разгорячившихся патриотов; но только мне кажется, что не слишком ли много здесь чего-то печального…
Господин Б.
Я бы очень хотел, чтобы вы услышали замечание одного очень скромно одетого человека, который сидел возле меня в креслах…
Ах, вот он сам!
Господин А.
Кто?
Господин Б.
Именно этот очень скромно одетый человек. (Обращаясь к нему).
Мы с вами не кончили разговора, которого начало было так для меня интересно.
А я, признаюсь, очень рад продолжать его. Сейчас только я слышал толки, именно: что это всё неправда, что это насмешка над правительством, над нашими обычаями, и что этого не следует вовсе представлять. Это заставило меня мысленно припомнить и обнять всю пиесу, и признаюсь, выражение комедии показалось мне теперь еще даже значительней. В ней, как мне кажется, сильней и глубже всего поражено смехом лицемерие, благопристойная маска, под которою является низость и подлость, плут, корчащий рожу благонамеренного человека. Признаюсь, я чувствовал радость, видя, как смешны благонамеренные слова в устах плута и как уморительно смешна стала всем, от кресел до райка, надетая им маска. И после этого есть люди, которые говорят, что не нужно выводить этого на сцену! Я слышал одно замечание, сделанное, как мне показалось, впрочем, довольно порядочным человеком: «А что скажет народ, когда увидит, что у нас бывают вот какие злоупотребления?»
Господин А.
Признаюсь, вы извините меня, но мне самому тоже невольно представился вопрос: а что скажет народ наш, глядя на всё это?
Очень скромно одетый человек.
Что скажет народ? (Посторонивается, проходят двое в армяках).
Синий армяк
(серому).
Небось, прыткие были воеводы, а все побледнели, когда пришла царская расправа!
Оба выходят вон.
Очень скромно одетый человек.
Вот что скажет народ, вы слышали?
Господин А.
Что?
Очень скромно одетый человек.
Скажет: «Небось, прыткие были воеводы, а все побледнели, когда пришла царская расправа!» Слышите ли вы, как верен естественному чутью и чувству человек? Как верен самый простой глаз, если он не отуманен теориями и мыслями, надерганными из книг, а черплет их из самой природы человека! Да разве это не очевидно ясно, что после такого представления народ получит более веры в правительство? Да, для него нужны такие представления. Пусть он отделит правительство от дурных исполнителей правительства. Пусть видит он, что злоупотребления происходят не от правительства, а от не понимающих требований правительства, от не хотящих ответствовать правительству. Пусть он видит, что благородно правительство, что бдит равно над всеми его недремлющее око, что рано или поздно настигнет оно изменивших закону, чести и святому долгу человека, что побледнеют пред ним имеющие нечистую совесть. Да, эти представления ему должно видеть: поверьте, что если и случится ему испытать на себе прижимки и несправедливости, он выйдет утешенный после такого представления, с твердой верой в недремлющий, высший закон. Мне нравится тоже еще замечание: «народ получит дурное мнение о своих начальниках». То-есть, они воображают, что народ только здесь, в первый раз в театре, увидит своих начальников; что если дома какой-нибудь плут-староста сожмет его в лапу, так этого он никак не увидит, а вот как пойдет в театр, так тогда и увидит. Они, право, народ наш считают глупее бревна, – глупым до такой степени, что будто уже он не в силах отличить, который пирог с мясом, а который с кашей. Нет, теперь мне кажется, даже хорошо то, что не выведен на сцену честный человек. Самолюбив человек: выстави ему при множестве дурных сторон одну хорошую, он уже гордо выйдет из театра. Нет, хорошо, что выставлены одни только исключенья и пороки, которые колют теперь до того глаза, что не хотят быть их соотечественниками, стыдятся даже сознаться, что это может быть.
Господин А.
Но неужели, однако ж, существуют у нас точь-в-точь такие люди?
Очень скромно одетый человек.
Позвольте мне сказать вам на это вот что: я не знаю, почему мне всякий раз становится грустно, когда я слышу подобный вопрос. Я могу с вами говорить откровенно: в чертах лиц ваших я вижу что-то такое, что располагает меня к откровенности. Человек прежде всего делает запрос: «Неужели существуют такие люди?» Но когда было видено, чтобы человек сделал такой вопрос: «Неужели я сам чист вовсе от таких пороков?» Никогда, никогда! Да вот что, – я буду с вами говорить прямодушно. У меня доброе сердце, любви много в моей груди, но если бы вы знали, каких душевных усилий и потрясений мне было нужно, чтобы не впасть во многие порочные наклонности, в которые впадаешь невольно, живя с людьми! И как я могу сказать теперь, что во мне нет сию же минуту тех самых наклонностей, которым только что посмеялись назад тому десять минут все, и над которыми и я сам посмеялся.
Господин А
. (после некоторого молчания).
Признаюсь, над словами вашими призадумаешься. И когда я вспомню, представлю себе, как гордыми сделало нас европейское наше воспитание, вообще как скрыло нас от самих себя, как свысока и с каким презрением глядим мы на тех, которые не получили подобной нам наружной полировки, как всякий из нас ставит себя чуть не святым, а о дурном говорит вечно в третьем лице, – то, признаюсь, невольно становится грустно душе…
Но, простите мою нескромность, вы, впрочем, виноваты в ней сами; позвольте узнать: с кем я имею удовольствие говорить?
Очень скромно одетый человек.
А я ни более, ни менее, как один из тех чиновников, в должности которых выведены были лица комедии, и третьего дня только приехал из своего городка.
Господин Б.
Я бы этого не мог думать. И неужели вам не кажется после этого обидно жить и служить с такими людьми?
Очень скромно одетый человек.
Обидно? А вот что я вам скажу на это: признаюсь, мне приходилось часто терять терпенье. В городке нашем не все чиновники из честного десятка; часто приходится лезть на стену, чтобы сделать какое-нибудь доброе дело. Уже несколько раз хотел было я бросить службу; но теперь, именно после этого представления, я чувствую свежесть и, вместе с тем, новую силу продолжать свое поприще. Я утешен уже мыслью, что подлость у нас не остается скрытою или потворствуемой, что там, в виду всех благородных людей, она поражена осмеянием, что есть перо, которое не укоснит обнаружить низкие наши движения, хотя это и не льстит национальной нашей гордости, и что есть благородное правительство, которое дозволит показать это всем, кому следует, в очи, и уж это одно дает мне рвение продолжать мою полезную службу.
Господин А.
Позвольте сделать вам одно предложение. Я занимаю государственную должность довольно значительную. Мне нужны истинно благородные и честные помощники. Я вам предлагаю место, где вам будет обширное поле действия, где вы получите несравненно более выгод и будете на виду.
Очень скромно одетый человек.
Позвольте мне от всей души и от всего сердца поблагодарить вас за такое предложение и, вместе с тем, позвольте отказаться от него.
Если я уже чувствую, что полезен своему месту, то благородно ли с моей стороны его бросить? И как я могу оставить его, не будучи уверен твердо, что после меня не сядет какой-нибудь молодец, который начнет делать прижимки. Если же это предложение сделано вами в виде награды, то позвольте сказать вам: я аплодировал автору пиесы наравне с другими, но я не вызывал его. Какая ему награда? Пиеса понравилась – хвали ее, а он – он только выполнил долг свой. У нас, право, до того дошло, что не только по случаю какого-нибудь подвига, но просто, если только иной не нагадит никому в жизни и на службе, то уже считает себя бог весть каким добродетельным человеком; сердится сурьезно, если не замечают и не награждают его. «Помилуйте», говорит: «я целый век честно жил, совсем почти не делал подлостей, – как же мне не дают ни чина, ни ордена?» Нет, по мне, кто не в силах быть благородным без поощрения – не верю я его благородству, не сто?ит гроша его мышиное благородство.
Господин А.
По крайней мере, вы мне не откажете в вашем знакомстве. Простите мою неотвязчивость; вы сами видите, что она есть следствие моего искреннего уважения. Дайте мне ваш адрес.
Очень скромно одетый человек.
Вот вам мой адрес: но будьте уверены, что я не допущу вас им воспользоваться, и завтра же поутру явлюсь к вам. Извините меня, я не воспитан в большом свете и не умею говорить…
Но встретить такое великодушное внимание в государственном человеке, такое стремление к добру…
дай бог, чтобы всякий государь был окружен такими людьми! (Поспешно уходит).
Господин А
. (переворачивая в руках карточку).
Я смотрю на эту карточку и на эту неизвестную мне фамилию, и как-то полно становится на душе моей. Это вначале грустное впечатление рассеялось само собою. Да хранит тебя бог, наша малознаемая нами Россия! В глуши, в забытом углу твоем, скрывается подобный перл, и, вероятно, он не один. Они, как искры золотой руды, рассыпаны среди грубых и темных ее гранитов. Есть глубоко утешительное чувство в сем явлении, и душа моя осветилась после встречи с этим чиновником, как осветилась его собственная после представления комедии.
Прощайте! Благодарю вас, что вы доставили мне эту встречу. (Уходит).
Господин В
. (подходя к господину Б.)
Кто это был с вами? кажется, он министр, а?
Господин П
. (подходя с другой стороны).
Помилуй братец, ну что это такое, как же это в самом деле?..
Господин Б.
Что?
Господин П.
Ну да как же выводить это?
Господин Б.
Почему же нет?