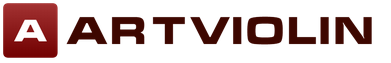Уна & Сэлинджер Фредерик Бегбедер
(Пока оценок нет)
 Название: Уна & Сэлинджер
Название: Уна & Сэлинджер
О книге «Уна & Сэлинджер» Фредерик Бегбедер
Творчество французского писателя Фредерика Бегбедера у читателя вызывает очень неоднозначные оценки. Кто-то называет его почти безумцем, так как в его романах много места занимает тема наркотиков и секса, кто-то просто из-за его острого языка и любви к провокациям называет скандально популярным писателем. Тем не менее его книги пользуются успехом.
Но вот появился новый труд Фредерика Бегбедера по названием «Уна & Сэлинджер». Это произведение совершенно ничем не похоже на предыдущие работы автора. Он создал не очередной скандальны опус, а настоящую романтическую историю двух известных людей. Это история любви длиной в жизнь, хотя они и были знакомы всего несколько месяцев.
Сам Фредерик Бегбедер упоминает о своеобразном стиле написания романа. Здесь в качестве героев использованы образы настоящих людей, живущих в те времена. И в свое время эти люди были знамениты на весь мир. Но параллельно автор использует уже и свой вымысел. Тем не менее история любви Уны и Сэлинджера получилась очень трогательной, немного грустной, но все же оставляющая в сердце уверенность в бессмертии любви.
Роман «Уна & Сэлинджер» рассказывает о любви Уны О’Нил, которая является дочерью знаменитого драматурга Нобелевского лауреата. Ей 15 лет. Джерри Сэленджеру 21 год и он будущий знаменитый культовый писатель Америки. Молодые люди познакомились в Нью-Йорке перед началом Второй Мировой войны. Молодые люди провели всего несколько месяцев вместе, когда началась война. Сэлинджер уезжает в Европу воевать, а Уна тем временем проходит кинопробы у самого Чарли Чаплина. А потом, не смотря на большую разницу в возрасте, становится женой знаменитого актера и матерью его восьмерых детей.
Сэлинджер же после войны становится всемирно известным писателем, но быть вместе уже было не суждено. Хотя они и любили друг друга всегда.
Фредерик Бегбедер при написании романа знал только о том, что Сэлинджер был влюблен в жену Чарли Чаплина. И это был достоверный факт. Остальное он написал от себя – их переписку (на самом деле она действительно существует, но автору ее никто не дал), их беседы и разговоры. Также писатель очень натурально описал боевые действия в Европе и участие в них главного героя. Сэлинджер пережил послевоенную депрессию, из которой он тяжело выбирался. И может в этом и есть причина закрытия от общества и скрытный образ жизни писателя на протяжении всей его жизни.
Роман Фредерика Бегбедера «Уна & Сэлинджер» отчасти можно считать биографичным. В нем присутствуют невымышленные герои и многое в романе действительно происходило когда-то в прошлом. И все же книга – это история о вечной любви. Читателю есть над чем задуматься. К тому же произведение написано очень красиво.
На нашем сайте о книгах сайт вы можете скачать бесплатно без регистрации или читать онлайн книгу «Уна & Сэлинджер» Фредерик Бегбедер в форматах epub, fb2, txt, rtf, pdf для iPad, iPhone, Android и Kindle. Книга подарит вам массу приятных моментов и истинное удовольствие от чтения. Купить полную версию вы можете у нашего партнера. Также, у нас вы найдете последние новости из литературного мира, узнаете биографию любимых авторов. Для начинающих писателей имеется отдельный раздел с полезными советами и рекомендациями, интересными статьями, благодаря которым вы сами сможете попробовать свои силы в литературном мастерстве.
Скачать бесплатно книгу «Уна & Сэлинджер» Фредерик Бегбедер
(Фрагмент)
В формате fb2 : Скачать
В формате rtf : Скачать
В формате epub : Скачать
В формате txt :
8 отзывов
Оценил книгу
Бегбедер с первых же строк романа заявляет, что Сэлинджер - его любимый писатель, то ли таким образом объясняя причину своего интереса к известному автору, то ли оправдываясь за весь тот шлак, которым он обдал читателя в последующие несколько сотен страниц. В принципе, общая фабула произведения проста и банальна: объектом его наблюдения становятся недолгие отношения между Джеромом Сэлинджером и Уной О"Нил, дочкой драматурга Юджина О"Нила и впоследствии женой Чарли Чаплина.
Повествование начинается с того, как Бегбедер, воодушевившись идеей написания книги о Сэлинджере, отправляется в город Корниш, где живет писатель (тут, я думаю, очевидно, кого из этих двух персон можно охарактеризовать данным словом), с целью задать ряд интересующих его вопросов (на тот момент автор "Над пропастью во ржи" еще был жив). Но подъехав уже к самому дому, Бегбедера в последний момент охватывает страх и он упускает возможность пообщаться с Джеромом, чем, возможно, на пару лет продлил жизнь последнего.
Не имея возможности получить доступ хоть к какому-то первоисточнику отношений Сэлинджера и Уны, Бегбедер признает, что описанная история и диалоги в ней его вольная интерпретация. Он пытается представить и спародировать, как бы говорили герои его произведения, но на протяжении всей книги не покидает чувство, что в каждом эпизоде, где Джером и Уна остаются вдвоем, рядом сидит Бегбедер и руками шевеля губы влюбленных, озвучивает за них весь диалог. Сэлинджер, говорящий словами Бегбедера, я вам скажу, выглядит уже не такой привлекательной личностью.
Судьбу самого Сэлинджера, как писателя, он пытается выразить одной простой цепочкой: "влюбленность в Уну - уход на войну - ужасы войны и неспособность прижиться в мирное время выливается в "Над пропастью во ржи" - дальнейшее затворничество". То есть Фредерик просто собрал четыре известных факта о Сэлинджере: Уна, война, Ловец и затворничество, и объединил их одной идеей, подменив весь творческой путь писателя своим однобоким суждением. При этом за весь роман он ни разу не упомянул о "Саге о Глассах", которая по мнению большинства поклонников писателя, все же является более знаковым произведением. Это навевает на мысли, что сам Фред прочитал у Сэлинджера только одну книгу. И, пожалуй, именно неглубокое и несколько примитивное понимание "своего любимого автора" портит впечатление об этом романе больше, чем даже выдуманные истории отношений Сэлинджеры и Уны.
Оценил книгу
Есть книги, которые вызывают неоднозначные чувства вплоть до самой последней странички. Пока не прочитаете последнее слово, не сможете сказать, понравилось ли вам произведение. А есть книги, которые вызывают восторг уже с первых страниц и это чувство не покидает вас на протяжении всего времени. Так вот новую книгу Бегедера я смело отношу ко второй категории. Она замечательная, элегантная, местами ироничная и бесконечно трогательная.
В основе сюжета лежат реальные события. Несколько лет назад эти люди действительно ходили по нашей грешной земле и хранили в своих воспоминаниях невероятную историю любви. Любви сказочной, трогательной и, увы, несчастной. Речь идет об отношениях Уны О`Нил и Джерри Сэлинджера.
Итак, если вы:
1. Романтически настроенная леди;
2. Любите Бегбедера;
3. Любите Сэлинджера;
4. Любите Чаплина и вам интересна его личная жизнь;
5. Вы любите. И это, пожалуй, самый важный пункт.
То вам стоит взять эту книгу в руки и прочесть ее.
В этом романе не только Уна и Джерри. Межу ними удачно вписался и сам Фредерик, который лавирует между строчками и является, как будто бы, неотъемлемой частью истории. Но он не перетягивает одеяло на себя, а прекрасно дополняет историю своими эмоциями и мыслями.
Книга станет для вас источником хорошей музыки, романтического настроения и умеренной дозой французского обаяния.
Надо накапливать воспоминания, чтобы было чем занять свое одиночество
Оценил книгу
Фредерик Бегбедер - примечательная фигура в литературной среде современности. Он не просто популярный писатель, он скандально популярный. Острый на язык, активный левацкий социалист, провокатор и нигилист. После успеха романов «99 франков» и «Любовь живет три года», Бегбедер нацелился на лавры романиста-биографа.
«Уна и Сэлинджер» это биографический роман о взаимоотношениях Уны О’Нилл, дочери Нобелевского лауреате Юджина О’Нилла, и всемирно известного культового писателя Джерома Сэлинджера. Они познакомились в начале сороковых годов. Он - никому неизвестный начинающий писатель и она – шестнадцатилетняя светская львица, юная наследница, красавица и самая популярная дебютантка Нью-Йорка. Шумная компания, река алкогольных коктейлей, откровенные наряды и фривольные разговоры сделали свое дело. Уна навсегда поселилась в сердце Сэлинджера. Он пронесет эту любовь через все военные годы, через годы своего затворничества в лесах Новой Англии, через всю оставшуюся жизнь. Для Уны он лишь просто человек из толпы поклонников. Но, все-таки, она его любила…. Даже не смотря на то, что вышла замуж за вдвое старше себя Чарли Чаплина и родила ему восьмерых детей.
Фредерик Бегбедер за неимением достоверных источников, лишь зная сам факт влюбленности Сэлинджера в Уну, многое «досочинил». Он прописал все диалоги, которые могли бы между ними состояться, сочинил переписку (которая действительно существует в семейных архивах, и в которой отказали Бегбедеру), изобразил участия будущего американского прозаика во Второй мировой войне так достоверно и реально, что создается впечатление, что это полноценная документалистика. На самом деле, это книга с реально когда-то существовавшими героями, но с вымышленными жизненными историями. В ткань повествования врываются мысли самого Бегбедера, его критика и замечания как событий тех дней (войны, политики, расовой дискриминации) так и современности (беженцы, опять же политика, современное искусство и тд.). В этом весь Бегбедер. Ему всегда есть, что сказать.
Эта книга не только о романе Уны и Сэлинджера. Она – зеркало всей эпохи, в котором отражается повседневная жизнь американской «золотой молодежи» для которых контрастом служат сцены из театра военных действий в Европе и их восприятие американцами. Фредерик Бегбедер, вооружившись проверенными историческими источниками, очень достоверно и ярко изобразил пребывание Сэлинджера на войне, его послевоенную депрессию и «синдром ветерана», а также приоткрыл свое виденье причин самоизоляции самого скрытного писателя Америки. Может, это просто еще одна версия? А может, хоть тут Бегбедер сказал правду? В любом случае книга стоит того, чтобы ее прочитать. Пусть это будет еще она версия биографии Сэлинджера, рассказанная Бегбедером.
Оценил книгу
Не захотел Московский книжный клуб читать со мной свежий роман Бегбедера, а зря. Я прочла, в целом осталась довольна, избавившись от предубеждения против модного французского автора. Не скажу, что пущусь теперь читать все его романы только из принадлежности их к французской культуре, но убедилась: умеет и может.
Фредерик не вводит никого в заблуждение, с самого начала устанавливая рамки достоверности происходящего в романе. Мне, любительнице Сэлинджера, интересно было узнать об отношениях Уны и Джерри не только как о факте из биографии классика. Мне, как любительнице истории, интересно было узнать подробнее об американских войсках, в которых сражался Джерри, в Европе, в годы Второй мировой. Чтение "Уны и Сэлинджера" вызывало непритворные эмоции: отчаяние, грусть, сострадание - когда читала Бегбедера о войне; улыбку, грусть светлую, романтическое настроение - когда читала Бегбедера о любви будущего всемирно известного писателя и несостоявшейся актрисы, будущей многодетной матери, супруги Чарли Чаплина. О последнем, кстати, - тоже очень интересно.
Мне было приятно читать этот текст, мне нравилась конструкция романа. Мне кажется, что схвачен образ Сэлинджера, что выдвинутые Бегбедером предположения относительно Сэлинджера могут быть верными. Мне не нравится отношение к женщинам, как к маленьким девочкам, какое есть у автора и его героев: "ангел", "грудки", "зубки" - вот это все. В книге очень много личного, очень много самого Бегбедера, но это не успело надоесть настолько, чтоб я намного снизила оценку. Читатель узнает даже о том, что Бегбедер сам влюблен и скоро женится на девушке, которая моложе его не на один десяток лет. Но, как бы читатель не относился к возрастным мезальянсам, влюбленность автора, кажется, сообщает приятное настроение и его литературному детищу.
Esquire публикует отрывок из книги Фредерика Бегбедера «Уна и Сэлинджер», которую сам автор с присущим ему стремлением эпатировать читателей определяет как fast-fiction роман.
Уроженец Нового Орлеана, молоденький блондинчик с высоким, пронзительным голосом, непрестанно улыбался, сопровождая трио наследниц: Глорию Вандербильт, Уну О’Нил и Кэрол Маркус, - то были первые «it-girls» в истории западного мира, скрытые за дымовой завесой. Днем он рассылал тексты в газеты, которые их пока не печатали. А ночью, протерев свои круглые очки платочком из черного шелка, вновь водружал их на нос, а шелковый квадратик возвращал в левый наружный карман белого пиджака, аккуратно расправив четыре треугольничка, направленные вершинами в потолок, точно стрелы, целящиеся в воздушные шарики над головой. Он полагал, что, для того, чтобы сойти за умного, надо быть хорошо одетым, и в его случае это было верно. Ему исполнилось шестнадцать лет, звали его Трумен Капоте, а сцена происходила по адресу: Восточная Третья, угол Пятьдесят третьей улицы.
Крошки мои, вы мои лебеди.
Почему это ты называешь нас лебедями? - спросила Глория, выпустив клуб дыма ему в лицо.
Ну так, во-первых, вы такие беленькие, - отвечал Капоте, едва сдерживая кашель, - потом, вы так изящно двигаетесь, у вас длинные грациозные шейки…
И острые оранжевые клювы, а?
Да, у тебя, Глория, очень острый клювик, ты доказываешь нам это каждый вечер. Но он скорее красный, если по нему размазано, как и по твоим передним зубкам, содержимое тюбика губной помады.
Но где же наши крылья? - спросила Уна.
Глаза Трумена Капоте (голубые) были устремлены только на официанта, молодого антильца с неправильным прикусом, смахивавшего на Янника Ноа задолго до рождения Янника Ноа.
Будьте любезны, молодой человек, принесите нам, пожалуйста, четыре мартини с водкой - так я буду уверен, что скоро увижу вас снова.
Трумен улыбнулся самой красивой из трех своих спутниц.
Пока вы спали, Уна, darling, я подрезал вам крылья, - ответил он ей, - чтобы не дать вам улететь далеко от меня. Вы у меня в плену на ближайшее десятилетие. Не волнуйтесь, годы пройдут быстро.
Трумен, - вмешалась Глория, - если мы лебеди, кто тогда ты… поросенок?
Расхохотались все. Глория отпустила эту шпильку, как бы закрыв тему раз и навсегда. Трумен порозовел; и в самом деле, любителю колбас было бы трудно устоять перед его прелестью. Но его светлые глаза искрились лукавством, и все, что он говорил, было легко и весело, что как-никак отличало его от блюда свинокопченостей. В этом же баре, на другом конце зала, молодой человек ростом метр девяносто молча смотрел на шестой столик, - впрочем, он вообще всегда молчал. Да и все взгляды в «Сторке» были устремлены к шестому столику, расположенному в углу, в конце зала, имевшего форму буквы «Г». В тысяча девятьсот сороковом Джерому Дэвиду Сэлинджеру был двадцать один год. Он еще жил у родителей, в доме 1133 по Парк-авеню, на углу 91-й улицы. Высокого, красивого и хорошо одетого, его иной раз впускали одного в «Сторк», самый закрытый клуб в Нью-Йорке. Его отец был евреем, разбогатевшим на торговле кошерными сырами и копченым мясом. Пока ничто не предвещало Джерри судьбы изобретателя вечной юности в кредит.
Пока это долговязый, застенчивый юноша, закуривающий сигарету с непринужденностью Хамфри Богарта, - этот безукоризненный жест потребовал долгих недель тренировки перед зеркалом в ванной. Трумен Капоте - больший сноб, чем он, однако мягче и забавнее, хоть и грешит самолюбованием. Внешне он - полная противоположность Сэлинджеру: так же мал ростом, как тот высок, глаза голубые - а у того черные и пронзительные, блондин - а тот жгучий брюнет (типичное дитя Алабамы рядом с дылдой, копирующим нью-йоркских интеллектуалов). Они, давясь, курят одну сигарету за другой, чтобы выглядеть мужчинами, и знают, что им повезло пить спиртное в клубе для самых избранных. Только в эти моменты они ведут себя как взрослые. Капоте уже записывает все, что видит, и повторяет все, что слышит. Он прекрасно знает, что его бы близко не подпустили к этому клубу, если бы не три лебедя. Они - его сезам: перед ними всюду расстилают красную ковровую дорожку, они позируют для фото в «Харперс Базар» и «Вог». Это еще почти девчонки и уже почти феминистки: кутя, куря и танцуя в легких шелках, под перестук своих жемчугов, они, сами того не зная, продолжают медленный процесс эмансипации, начатый в 1920-х годах и далеко еще не законченный. А Трумен лишь следует в кильватере и развлекает своих фарфоровых суфражисточек. Тридцать пять лет спустя он зло опишет все это (в «Услышанных молитвах»), подруги от него отвернутся, и он умрет от горя, насквозь пропитанный алкоголем, наркотиками и транквилизаторами. Но пока у Трумена озабоченная мордашка ребенка, обделенного вниманием родителей и слишком рано понявшего, что надо накапливать воспоминания, чтобы было чем занять свое одиночество. Для художника праздник никогда не бывает бесплатным. Писатели, выходя вечером в свет, никогда не отдаются веселью целиком: они работают, а вы как думали? Вам кажется, что они несут чушь, а они между тем трудятся, ищут фразу, которая оправдала бы их завтрашнее похмелье. Если улов хорош, несколько фраз переживут повторное чтение и будут вставлены в текст. Если же вечер не удался, копилка будет пуста - ни метафоры, ни шутки, ни даже каламбура или сплетни. Увы, когда нечего ловить, писатели не признают своего поражения: неудача дает им повод еще чаще бывать в свете и еще больше пить - ни дать ни взять старатели, с упорством, достойным лучшего применения, разрабатывающие иссякшую жилу.
Дж. Д. Сэлинджер подошел к их столику. Он всегда чуть-чуть сутулился, чтобы не слишком возвышаться над другими: он был не только выше, но и старше всех. Нога Капоте подрагивала под столом, точно хвост возбужденной собаки. Он и заговорил первым:
Мисс, не скажете ли вы, что это за большая птица в черных перьях? Цапля, фламинго?
Hello, there24. Я Сэлинджер. Джерри Сэлинджер, рад познакомиться. Лично у меня любимая птица… - он задумался, пожалуй, слишком надолго, - Американская Девушка в Шортах.
Тоже мне, подвиг - снискать улыбку самых благосклонных девушек Нью-Йорка. Трумен понял намек и молча смотрел, как эта жердь, клюнув носом, целует ручки трио: если он и был птицей, то, скорее всего, аистом, а стало быть, ему самое место было в клубе. Уна была самой робкой из всех. И самой кроткой, хоть на ней и было черное платье с обнаженными плечами. Ее молчание и вспыхивающие румянцем щеки не вязались с непроницаемо-черными глазами: она походила на портреты простушек кисти Жана Батиста Греза, выставленные в Собрании Уоллеса в Лондоне. Она, казалось, не знала, что красива, хотя все повторяли ей это с рождения - все, кроме отца. Неловкость, неуверенность в себе, запинающаяся речь только красили каждое ее движение - когда она прижимала к себе стакан, помешивала льдинки пальцем, а потом сосала его, словно порезалась до крови. Всем своим видом Уна словно постоянно извинялась за то, что она здесь, как будто не знала, что клубу необходимо ее присутствие, чтобы остаться модным. Прилагательное «clumsy» было как будто специально придумано для ее опасной угловатости. Так и хотелось приласкать этого брошенного котенка. Глория была более совершенной, Кэрол более белокурой - она копировала яркий, как рана, рот Джин Харлоу и ее нарисованные брови. Таков был секрет их дружбы: они составляли не просто трио, но палитру; тут нашлось бы на любой вкус, и ни одна не была конкуренткой другим. Любите женщин изысканных, роковых, женщин-вамп - вот вам Глория, знатная миллиардерша. Питаете слабость к чувственным или истеричным, боитесь соскучиться, любите сцены - выбирайте Кэрол. А если вас не привлекают ни деньги, ни причуды… если ищете создание не от мира сего, нуждающееся в защите, ангела, которого надо спасти… вот тогда вы рискуете попасться в западню Уны.
Уна внушала уважение своей безмятежностью. Она была наименее яркой из компании, но отнюдь не наименее притягательной. Когда она улыбалась, две ямочки появлялись на ее щеках, и тогда казалось, что жизнь, в сущности, может быть почти сносной, лишь бы всегда блестели глаза. С тех пор как ей исполнилось пятнадцать, мать Уной практически не занималась, и та жила у Кэрол, на Парк-авеню. С тех пор как ей исполнилось пятнадцать, швейцар в синей униформе впускал Уну О’Нил в «Сторк», когда ей было угодно, потому что патрон с ума сходил по ее фамилии. Шерман Биллингсли присматривал за ней, называл ее «my most beautiful baby», усаживал за лучший столик в Cub Room (VIP-зона) и угощал выпивкой. Снобизма в нем было как в биде из «Уолдорф Астории», да и наживался он на этом изрядно: компания красивых девушек, даже несовершеннолетних - особенно несовершеннолетних, - создает атмосферу, тем более если они носят знаменитые фамилии, что привлекает фотографов и богачей.
Подвиньтесь, девочки, - скомандовал Трумен, - дайте наконец место Джерри. Джерри, знакомься: это мои лебеди.
Я бы не сказал, что эта девушка похожа на лебедя, - возразил Джерри. - Скорее на раненую голубку. Как вас зовут, милый птенчик-выпавший-из-гнезда?
О… Вы будете смеяться… - заколебалась Уна.
Все-таки скажите.
Уна. Это по-гэльски.
Очень красиво - Уна. И это значит…
- …Единственная, насколько я знаю.
Ну да, как я сам не догадался, это ясно даже на слух. Уна = «One».
Капоте язвительно рассмеялся.
Уна - это фея из кельтских легенд, - пояснил он. - Королева фей.
Хм… И вы владеете колдовскими чарами? - спросил Джерри.
Тут как раз молодой официант принес выпивку. Я забыл сказать, что в этот день Франция была оккупирована Германией. В Париже, с учетом разницы во времени, немецкие войска маршировали по Елисейским Полям.
Ну да, вот видите, - ответил Трумен, - по мановению Уны на столе появляется водка!
Эта клептоманка коллекционирует ворованные пепельницы, - хихикнула Глория.
Куда только смотрит полиция? - подхватила Кэрол.
И тут Уна улыбнулась во второй раз за вечер. Когда Уна улыбалась, опустив веки, шум стихал. Казалось, будто кто-то приглушил звук остального мира. Во всяком случае, именно это ощутил Джерри: ротик Уны, контраст между красными губками и белыми зубками, высокие скулы, покрашенные бордовым лаком ногти в тон губной помаде цвета спелой вишни, - от совершенства девушки из высшего общества он абсолютно оглох. Брюнетка… что бы это значило? Почему при виде девушки, которую он не знал еще пять минут назад, у него заныло в животе? Кто бы запретил ей эту мину нашкодившего ребенка! Ему тоже захотелось позвать полицию. Государству следовало бы не позволять женщинам так мастерски использовать свои веки. Джерри пробормотал себе под нос:
Закон против Уны…
Простите? Что вы сказали?
Он брюзжит!
Ха-ха-ха! Еще одна жертва Уны! - воскликнул Трумен. - Вы можете основать клуб на пару с Орсоном!
Трумен повернул голову к столику на другом конце буквы «Г», откуда Орсон Уэллс косился на них через плечо молодой женщины, похожей на Долорес дель Рио. На самом деле это была французская актриса Лили Дамита, которая на самом деле была женой Эррола Флинна, тогда занятого на съемках. (Абы кто не мог сидеть за столиком на другом конце буквы «Г».) Орсон Уэллс то и дело исподтишка поглядывал на девушек, особенно на Уну, и тотчас отводил глаза, если чувствовал, что любовница может застигнуть его с поличным. В двадцать пять лет знаменитый радиоведущий применял методу равнодушного красавца. С робкими девушками эта метода не срабатывает, тут, наоборот, нужен напор. Не обращайте внимания на гордячку - и она вас заметит. Но, игнорируя скромницу, вы тем самым оказываете ей услугу и никогда с ней не познакомитесь. Особенно если вы знаменитость, стало быть, страху нагоняете вдвое больше. Орсон Уэллс повернулся к Лили Дамита, которая, сидя напротив него, ела креп-сюзетт. Джерри Сэлинджер действовал иначе: он говорил очень тихо и монотонно, надеясь, что остальные за столиком его не услышат. Он обращался к Уне так, будто они одни на целом свете, и в каком-то смысле в тот вечер так оно и было.
Уна О’Нил, вообще-то, ваше имя - аллитерация. Мне кажется, - продолжал Джерри, - ваш отец выбрал это имя, потому что оно созвучно его фамилии. Выбор нарцисса.
Не знаю, он со мной не разговаривает после того, как я сказала в интервью одному журналу, что я «безбашенная ирландка». Он считает, что я плохо кончу. Пока, правда, у него самого дела плохи с тех пор, как он бросил пить. В последний раз, когда я его видела, у него дрожали руки.
Но у их соседей по столику были ушки на макушке.
Уна хорошо кончит, потому что плохо начала, - сказала Глория. - Как и мы!
Я вообще не знала своего отца, а ее отец умер, когда ей было полтора года, - добавила Кэрол, показывая пальцем на Глорию.
А меня, - вмешался Трумен, - мать бросила, когда мне было два года.
А у меня, - отозвалась Уна, - когда мне было два года, свалил отец.
Выпьем за Клуб Золотых Сироток! - заключила Глория, поднимая стакан.
Три девушки чокнулись с Труменом и Джерри, который почти устыдился того, что его родители все еще женаты. Их стаканы, столкнувшись, звякнули в точности как треугольник в третьей части Концерта для фортепиано с оркестром фа мажор Джорджа Гершвина.
Имейте уважение, - сказал Трумен, - вам известно, что вы говорите с будущей Glamour Girl «Сторка»?
О нет, сжальтесь, - взмолилась Уна, - не начинайте снова!..
Поднимем бокалы за новую Зельду!
Уна снова зарделась, на этот раз от гнева. Ее выводила из себя эта краска, бросавшаяся в лицо всякий раз, когда они вновь пережевывали эту дурацкую историю. Завсегдатаи «Сторк-клуба» каждый год выбирали «Glamour Girl», и она попала в список финалисток. Она ни о чем не просила, но это тоже стало причиной того, что отец с ней больше не разговаривал. Надо ли почитать за честь быть избранной «Мисс Модный клуб»? Нет. Надо ли отказаться от этого титула, как будто он не имеет никакого значения? Тоже нет. Вот с какими дилеммами сталкивалась нью-йоркская золотая молодежь в 1940 году, когда красно-белый флаг со свастикой реял над Эйфелевой башней.
Зельда Фицджеральд - не оскорбление, - сказала Уна, - но все же самое интересное в ней - книги ее мужа.
Я поднимаю бокал за Фрэнсиса «Скотч» Фицджеральда! - воскликнул Трумен.
А вы пишете, Джерри? - спросила Кэрол. - У вас физиономия писателя. Я их узнаю за десять миль. От этих гадких эгоцентриков, вдобавок чудовищно умных, надо бежать как от чумы.
Вы находите, что у него очень умный вид? - хмыкнула Глория. - Он все больше молчит, не так ли?
А Джерри думал, что никогда не слышал подобного имени. Уна… Оно звучало как стон наслаждения. Ууу… и освобожденный крик: аааа! А между двумя гласными согласная, напоминающая о луне: (л)ууна…31 Это имя завораживало так же, как та, что его носила. Джерри говорил себе, что вольно мужчинам расшибать себе лбы, пока есть на свете такие женщины, как она, чтобы подбирать их.
Я… я никогда не видел пьес вашего отца, - сказал он Уне. - Но я знаю, что он наш лучший драматург.
Не лучший, - поправил Трумен, - единственный! Первый, кто показал бедняков. Уж не знаю, стоило ли - все эти тоскующие моряки, проститутки с большим сердцем, маргиналы-самоубийцы… Тощища!
После присуждения Нобелевской премии он - национальное достояние, - возразил Джерри.
Он об этом знать не знал, но хотел угодить дочери, встав на защиту отца. К тому же ему не нравилась беспочвенная агрессивность светского общества. Он находил, что куда лучше быть забавным, ни о ком не злословя; поэтому забавным он бывал нечасто.
Зато плохой отец, - заключила Уна, выдохнув табачный дым в потолок, словно лежала на кушетке психоаналитика.
Эти ирландцы все алкоголики, - фыркнул Трумен. - Попробуйте найти хоть одного непьющего ирландца!
Чтобы писать, пить полезно, - заметила Кэрол. - Но для воспитания детей противопоказано.
Я не знаком с его творчеством. Видите ли, мисс О’Нил, - продолжал Джерри смущенно, - моя беда в том, что мне не по себе в театре: всегда хочется кашлянуть, когда нельзя, и потом, мне всякий раз кажется, что мое кресло скрипит громче всех в зале… Не знаю почему, но мне никогда не удается забыть, что я сижу перед людьми, которым платят за декламацию диалогов, и мне передается их мандраж. Так глупо… я боюсь за актеров, что они забудут текст.
Прошу прощения, - сказал Джерри. - Я думаю, что… вам, должно быть, осточертели разговоры о вашем отце.
Нелегко носить его имя, - согласилась Уна. - Я считаю себя скорее сиротой, чем «чьей-то дочкой». Странно быть сиротой при живом и знаменитом отце. Все говорят со мной о нем, как будто мы близки, а ведь за последние десять лет я видела его всего три раза.
Уна умолкла, смутившись, что поделилась столь личным с незнакомым человеком. Почувствовав замешательство подруги, Глория пришла ей на выручку. «Хай-де-хай-де-хай-де-хо!» - громко запела она. Оркестр наяривал Minni the Moocher32, слишком, пожалуй, усердствуя на высоких нотах. От вибраций контрабаса дрожали обшитые красным деревом стены. В этой песне поется о проститутке и ее сутенере-кокаинисте. Отличный сюжет пьесы для мистера О’Нила-отца. Всегда забавно видеть, как буржуа подхватывают хором грубые слова. На семейных обедах в присутствии малолетних детей я порой улыбаюсь, когда все напевают Walk on the Wild Side и ту-ту-ду-ту-ду-ту-ту-ду-ду Лу Рида (это история трансвестита на панели).
Послушайте, - сказала Глория Вандербильт, - я не против унаследовать семейное состояние. Но я бы прекрасно обошлась без всего остального: фото, сплетен, жиголо, мошенников… Трумен, любовь моя, закажи нам всем еще мартини с водкой, ради бога.
Семья Глории построила половину Нью-Йорка и отравила ее детство. Сделав знак метрдотелю, Трумен поспешил переменить тему. От неприятных разговоров Капоте шарахался как от огня. Вопрос выживания. Это делало его самым пленительным юношей в Нью-Йорке.
Все эти девочки без отцов… - сказал он Джерри. - Должен же кто-то ими заниматься… Они бежали с Парк-авеню, чтобы учиться драматическому искусству. Девушки из Верхнего Ист-Сайда все рвутся в театр, потому что хотят быть любимыми, а те, кому полагается их любить, уехали на уик-энд в Хэмптонс35.
Мой отец в Париже, а мать в Лос-Анджелесе, - вставила Уна.
Посмотрите-ка вон туда, на Орсона, - вмешалась Кэрол. - Боже мой, какой он мерзкий! Он никогда не играл О’Нила? А надо бы! Так и вижу, как он дубасит свою жену пустой бутылкой.
А по мне, он почти красивый, - возразила Глория. - И я была в восторге, когда он убедил всех по радио, что на Бродвей напали марсиане.
Не вижу в этом ничего сенсационного, - пожал плечами Трумен. - Марсиане нападают на Бродвей каждый вечер.
С восьми часов Глория Вандербильт бросала «хелло» всем проходившим мимо красивым мужчинам. Если они отвечали на ее улыбку, она вставала из-за столика и направлялась к бару, откуда возвращалась с визитными карточками, передавала их от кресла к креслу и наконец забывала в белой пепельнице. То была большая честь, когда богатая наследница сидела на красном диванчике с компанией шумных друзей. Кэрол встала и пошла танцевать с Труменом. Оба были такими светловолосыми… Чтобы отыскать их в толпе танцующих, достаточно было следить за двумя язычками пламени, вспыхивавшими посреди танцпола, точно два блуждающих огонька на болоте.
Чтобы соблазнить девушку, которую вожделеют многие, надо убедить ее в том, что у вас есть время… хотя у вас его нет. Не бросайтесь на нее, уподобляясь всем остальным, но проявите интерес. Это игра тонкая и противоречивая. У вас есть всего две минуты, чтобы передать эти два месседжа: мне плевать, но мне не плевать. А вообще-то, если девушка остается с вами больше двух минут, значит она выбрала вас, так что лучше молчите.
Уна украдкой покосилась на Джерри, который грыз ногти; она поняла, что он задает себе тот же вопрос: «Что я здесь делаю?» Они смотрели друг на друга, ни слова не говоря. Зеркало над баром использовалось двояко: чтобы шпионить за другими и проверять, в порядке ли прическа. Время от времени один из них открывал рот, чтобы начать фразу, но так ничего и не произносил. Другой тоже в свою очередь пытался, но ничего не выходило, разве что колечки дыма от «Честерфильда». Им бы хотелось сказать друг другу что-нибудь небанальное. Они понимали, что должны быть достойны друг друга. Что беседу еще надо заслужить. Порой они обменивались междометиями, но львиную долю времени в свою первую встречу (добрых полчаса как-никак) провели, потягивая маленькими глоточками мартини с водкой и внимательно вглядываясь в дно своих стаканов, словно искали там сокровище, или оливку, или немного храбрости.
Эта песня…
Smoke Gets in Your Eyes?
Может быть…
Красивое название…
Здесь дым всегда застилает глаза…
Лучше всего ее исполняет Фред Астер… он танцует, будто скользит…
Как по льду в лаковых туфлях…
Мм… А знаете, что вы на него немного похожи?
Вы так говорите из-за моего длинного лица.
- (Смущенная улыбка.)
- (Растерянный вздох.)
Передайте мне пепельницу, пожалуйста…
Держите…
Это правда, мое лицо имеет форму земляного ореха.
Да нет же, он очень красив, Фред Астер.
Простите, что спрашиваю, но… Сколько вам лет?
Пятнадцать, а что?
- …ничего…
Двадцать один…
Знаете…
Я молчу, но… мне не скучно.
Мне тоже.
Мне нравится молчать с вами.
Здесь я прекращаю фиксировать диалог двух рыб, а то читатель подумает, что я тяну резину ради лишних строк (это правда) и что он недостаточно получил за свои кровные (а вот это неправда). Как бы то ни было, я привожу в точности первый не-диалог между Уной О’Нил и Джеромом Дэвидом Сэлинджером. Сидя рядом лицом к залу, эти двое пребывали в таком ступоре, что не решались даже взглянуть друг на друга. Они смотрели на мельтешение официантов и слушали, как надрывается оркестр под висящими над ним воздушными шариками. Уна теребила салфетку, Джерри принюхивался к своему стакану, как будто что-то смыслил в мартини, другой рукой вцепившись в подлокотник своего кресла, точно страдающий аэрофобией перед взлетом. Иногда он поднимал бровь или обе. Все знают, что такое «small talk», а Уна и Джерри в этот вечер изобрели «silent talk». Многословное молчание, лакуна, полная недосказанного. Все вокруг них поднимали шум по пустякам, они же проявляли немое любопытство. Это не могло не раздражать - такая внезапная глубина среди нью-йоркского легкомыслия. Эти двое, чувствовавшие себя одинаково неуютно, должно быть, испытывали облегчение оттого, что могли наконец помолчать в унисон. Компания вернулась за столик, устав от флирта и танцев. Трумен смотрел на Джерри с умилением и отпускал замечания вроде:
Говорят, Орсон снимает фильм о семействе Херст. Ни одна газета про него не напишет!
Кончайте пожирать ее глазами, darling. Это уже неприлично, попытайтесь хотя бы рот закрыть.
Вы видели «Великого диктатора»? Чаплин уморителен, но странно было слышать его голос. Мне казалось, он должен быть ниже.
Такая прелесть, когда он подражает немецкому, - вставила Кэрол. - «Und Destretz Hedeflüten sagt den Flüten und destrutz Zett und sagt der Gefuhten!»
А что это значит?
Это не настоящий немецкий. Ты же у нас владеешь всеми языками, когда выпьешь.
Если на то пошло, настоящий Гитлер тоже произносит свои речи на кухонном немецком. Поэтому никто не поверил тому, что он говорил.
Белокурая Кэрол слишком громко смеялась собственным шуткам, чтобы их услышали. Ей не нравилось, когда Уна пользовалась успехом. Она не хотела ее ни с кем делить, хотела держать при себе, как младшую сестренку, которой у нее никогда не было. Она заметно злилась, потому что нервным движением доставала пудреницу и прикладывала к лицу пуховку. А вот Глория радовалась, что она не единственная «чья-то дочка» за столиком. Таков крест дочерей знаменитостей: вместо того чтобы беспечно пользоваться их именами (в конце концов, родителей не выбирают), они чувствуют себя обезображенными своей фамилией, как изящная сумочка - крупным золоченым логотипом. Но три подруги знали, как себя подать: мужчин привлекала в первую очередь их наружность. Слава и богатство родителей были лишь вишенкой (отравленной) на торте их хрупких тел. Они продолжали перебрасываться шутками, а Джерри нахмурился. Не стоило быть ясновидящим, чтобы угадать его мысли: «Да что же такое в ней есть, в этой девушке, чего нет у других? Чем так восхитило меня ее детское личико? Почему я МГНОВЕННО запал на ее брови и ее грусть? Отчего я чувствую себя таким идиотом и мне так хорошо рядом с ней? Чего я жду, почему не возьму ее за руку и не уведу подальше отсюда?»
Лично я у Чаплина предпочитаю Полетту Годдар, - сказала Глория. - До чего шикарная женщина!
Он всегда был знатоком женщин и выбирал себе молоденьких, - пробормотал Трумен своими отсутствующими губами.
А меня «Великий диктатор» не насмешил. Толпам в Европе при виде Гитлера не до смеха, - обронил Джерри Сэлинджер и тут же пожалел о своей неспособности быть легкомысленным. - Интересно, сам Гитлер его видел?
It was nice not-talking with you, Miss O’Neil.
Эй! Ночь еще молода! - воскликнул Трумен.
Мне НУЖЕН блинчик креп-сюзетт СЕЙЧАС ЖЕ, не то я умру! - потребовала Глория.
Nice not-to-meet you too, Jerry, - тихо сказала Уна… (Чтобы скрыть бросившуюся в лицо краску, повернулась к подругам, а долговязый юноша шел к гардеробу, пытаясь отгрызть заусеницу на большом пальце левой руки.) - Странный он, этот дылда… Который час?
Спать еще слишком рано, - ответил Капоте.
Надо подождать, когда выпустят шарики, - подхватила Кэрол.
There’s a great day coming mañana, - грянул оркестр.
По воскресеньям в «Сторк-клубе» была «Ночь воздушных шариков»: в полночь, с последним ударом часов, девушки едва ли не дрались, чтобы проткнуть как можно больше шариков, падавших на их головы. Внутри некоторых скрывались боны на сюрпризы - украшения, безделушки, платье или шейный платок… Выигравшие визжали тогда еще громче, на грани оргазма, проигравшие не отставали, вопя от злости и зависти, после чего все топили эмоции в потоках виски. Надо бы возобновить эту моду на «шарики с сюрпризом», а то в наши дни не хватает шумных вечеринок. Сотня шариков, лопаясь, трещала как очередь из пистолета-пулемета MP-38, на время перекрывая звуки румбы. Самой разнузданной из трио была Кэрол. Стоя на столе, она готова была расцарапать, а то и укусить любого, кто преградил бы ей путь к Главному Шарику, который она вспарывала своими острыми как бритва ногтями.
Перевод с французского Нины Хотинской.
С такой же гордостью, с какой моя кошка Кокошка приносит мне на подушку растерзанного, окровавленного, но еще живого воробья, я кладу эту книгу вместе с моим заскорузлым сердцем к ногам мадам Лары Мишели
Are you going to Scarborough fair?
(War bellows blazing in scarlet battalions)
Parsley, sage, rosemary and thyme
(Generals order their soldiers to kill)
Remember me to one who lives there
(And to fight for a cause they’ve long ago forgotten)
She once was a true love of mine.Неизвестный йоркширский бард, XVI век(заключенные в скобки антимилитаристские строчки добавлены Полом Саймоном в 1966 году)
Copyright © Éditions Grasset & Fasquelle, 2014
© Н. Хотинская, перевод, 2015
© Издание на русском языке, ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2015
Издательство АЗБУКА®
Это не вымысел
Эта книга – чистый faction. Все в ней точно соответствует действительности: персонажи реальны, места существуют (или существовали), факты подлинны, а даты можно проверить по биографиям и учебникам истории. Все остальное вымышлено, и я прошу детей, внуков и правнуков моих героев великодушно простить меня за кощунственное вторжение.
В Соединенных Штатах для подобных романов Труменом Капоте был придуман ярлык: «non-fiction novel». В интервью Джорджу Плимптону в «Нью-Йорк таймс» 16 января 1966 года он определил свой замысел как «повествование, в котором автор использует все приемы художественной литературы, при этом по возможности придерживаясь фактов». На французский это следовало бы перевести как «невымышленный роман». Ужас!
Я предпочитаю «faction», ведь это слово существует и в нашем языке. Оно содержит намек – забавный в наше мирное время – на то, что автор этого повествования мог бы быть кем-то вроде солдата в дозоре или вождя опасного мятежа.
Персонажи этой книги прожили жизни, полные тайн, – что дает простор авторской фантазии. Однако я торжественно заявляю: будь эта история неправдой, я был бы глубоко разочарован.
* * *
Весной тысяча девятьсот восьмидесятого года завсегдатаи парка Пали в Нью-Йорке стали свидетелями довольно необычной сцены. У ограды припарковался длинный черный лимузин; было около трех часов пополудни. Шофер распахнул дверцу перед пассажиркой лет шестидесяти, в белом костюме и темных очках. Она медленно вышла из машины, постояла немного, нервно теребя жемчуга на шее, словно молилась, перебирая четки, и направилась в левый угол парка. Неспешно приблизившись к скрытому зарослями водопаду, дама достала из сумочки несколько осколков фарфора. Затем она повела себя более чем странно: опустилась на колени и принялась лихорадочно рыть землю наманикюренными ногтями. Прохожий, поедая хот-дог, мимоходом удивился, зачем эта бродяжка роется в клумбе, а не ищет чем поживиться в мусорном контейнере, расположенном в противоположном конце сквера. В тот момент он не обратил особого внимания, но ему показалось, что она закопала в ямку осколки фарфора и руками утрамбовала сверху холмик, стоя под кустами на четвереньках, как ребенок в песочнице. Обедающие под открытым небом от изумления перестали жевать, когда дама, явно не из простых, поднялась, отряхнула перепачканные землей руки и с достоинством села в свой «кадиллак». Несмотря на темные очки, на лице ее можно было прочесть удовлетворение от хорошо сделанной работы. Она выглядела чудачкой, каких можно встретить порой на улицах Нью-Йорка, особенно с тех пор, как стали общедоступны барбитураты. Шофер захлопнул дверцу, обошел машину, сел за руль, и длинный лимузин бесшумно заскользил к Пятой авеню.
Джерри, введение
Мне хочется рассказать историю. Смогу ли я когда-нибудь рассказать что-нибудь иное, кроме моей собственной истории?
Пьер Дрие Ла Рошель. Гражданское состояние, 1921
В начале 2010-х годов я заметил, что не вижу больше моих ровесников. Я был окружен людьми на двадцать-тридцать лет меня моложе. Моя девушка родилась в год, когда я в первый раз женился. Куда же делось мое поколение? Сверстники исчезали постепенно: большинство было слишком занято работой и детьми; настал день, когда они просто перестали выходить из своих офисов или домов. У меня так часто менялся адрес и телефон, что старые друзья не могли больше со мной связаться; некоторые из них, случалось, умирали; я невольно думал, что эти две трагедии, не иначе, связаны между собой (без меня жизнь останавливается). Отсутствие ровесников в моем окружении имело, возможно, и другую причину: я избегал своего отражения. Сорокалетние женщины пугали меня неврозами, идентичными моим: тут и ревность к молодости, и очерствение сердца, и неразрешимые физические комплексы, и страх, что их больше никто не захочет, если вообще еще хотят. Мужчины же моих лет мусолили воспоминания о былых загулах, пили, ели, толстели и лысели, непрерывно жалуясь кто на жену, кто на одиночество. «Земную жизнь пройдя до половины», люди говорили только о деньгах – особенно писатели.
Я стал самым настоящим геронтофобом. Я изобрел новый вид апартеида: мне было хорошо только с теми, кому я годился в отцы. Общество юнцов обязывало к усилиям по части гардероба, заставляло пересмотреть свою речь и культурный багаж: оно пробуждало меня, воодушевляло, возвращало мне улыбку. Здороваясь, я должен был скользнуть ладонью по ладоням моих юных собеседников, потом, сжав кулак, стукнуть им об их кулаки, после чего ударить себя в левую сторону груди. Простое рукопожатие выдало бы разницу поколений. Приходилось также избегать шуток моего времени: боже упаси, например, сказать, что я умею грести, как Жерар д’Абовиль («Это еще кто?»). Встречая одноклассников, я их не узнавал и, вежливо улыбаясь, поспешно обращался в бегство: мои ровесники решительно были слишком стары для меня. Я как мог избегал обедов с супружескими парами. Светские обязанности страшили меня, особенно сборища сорокалетних в квартирах серо-бурого цвета с ароматизированными свечами. Своим знакомым я не мог простить именно этого: они меня знали. Знали, кто я, а мне это не нравилось. В сорок пять лет я хотел вновь обрести чистоту. Посещал только новенькие бары для отвязной детворы, блестящие чистым пластиком ночные клубы с туалетами без всяких воспоминаний, модные рестораны, о существовании которых мои былые дружки узнавали только через пару-тройку лет, листая «Мадам Фигаро». Мне случалось иногда подцепить девушку, которая вскоре с умилением сообщала мне, что мы с ее матерью отплясывали на одних вечеринках. Единственная уступка старости: я не писал в «Твиттере». Не видел интереса посылать фразы незнакомым людям, когда можно собрать их в книгах.
Признаю, что, отказываясь общаться с ровесниками, я отказывался стареть. Я забыл, что молодиться и быть молодым – не одно и то же. В каждой морщинке на лице ближнего своего видишь собственную смерть в действии. Я искренне полагал, что, якшаясь только с юнцами, знающими скорее о Роберте Паттинсоне, чем о Роберте Редфорде, проживу дольше. Какой-то расизм по отношению к самому себе. Можно играть в Дориана Грея, не пряча на чердаке пагубного портрета: достаточно отрастить бороду, чтобы не видеть больше своего истинного лица в зеркале; бывать время от времени диск-жокеем со своими старыми сорокапятками; носить достаточно широкие футболки, чтобы не было видно растущего животика; не надевать очки для чтения (как будто, если читать книгу, держа ее на вытянутых руках, помолодеешь); снова взять в руки теннисную ракетку и надеть спортивный костюм American Apparel цвета антрацит с белой каймой, позировать для фото в витринах магазинов Kooples , танцевать с серфингистками-малолетками в Blue Cargo на пляже Ильбарриц и каждый день маяться похмельем.
К началу 2010-х годов я знал назубок биографию Рианны; судите сами, сколь серьезные опасения внушало мое положение.
Тремя годами раньше в ресторанчике в Ганновере, штат Нью-Гэмпшир, мне попалась на глаза вот эта фотография очаровательной покойницы.

Эту молодую женщину зовут Уна О’Нил: отметьте ее прическу под Джин Тирни (косой пробор, открытый лоб), ослепительной белизны зубки и напряженную яремную жилку на шее, выражающую ее веру в жизнь. Сам факт, что такая девушка жила на свете, обнадеживает. Эта темнокудрая малышка дышит полной грудью, кажется, верит, что нет ничего невозможного. А между тем ее детство… Девочке было два года, когда отец бросил ее мать и поселился в Европе с новой женой; тогда Уна писала ему душераздирающие открытки: «Папочка, я так тебя люблю, не забывай меня!» Он увиделся с ней только через восемь лет.
В 1940 году Уна О’Нил была влюблена в моего любимого писателя.
Я нашел ее фотографию, когда Дж. Д. Сэлинджеру оставалось жить еще три года. Мы с Жан-Мари Перье поехали к нему в Корниш, штат Нью-Гэмпшир, чтобы снимать документальный фильм. Идея была столь же абсурдна, сколь и банальна: пробиться к писателю, слывущему величайшим в мире мизантропом, стало чем-то вроде туристического маршрута, освоенного тысячами фанатов. В 1953 году автор романа «Над пропастью во ржи» поселился на ферме среди лесов Новой Англии. Он ничего не публиковал с 1965-го – года моего рождения. Не давал никаких интервью, не допускал к себе фотографов и отказался от всяких контактов с внешним миром. А я как раз и воплощал внешний мир, собираясь вторгнуться в его личное пространство с камерой высокого разрешения. Зачем? Я и сам тогда не знал, но моя тяга к этому старику была как-то связана с нарастающим отвращением к ровесникам. Сэлинджер, как и я, любил девушек намного его моложе. Во всех своих романах и новеллах он давал слово детям и подросткам. Они символизировали утраченную невинность, никем не понятую чистоту; взрослые же были все сплошь безобразными, тупыми, скучными, авторитарными, погрязшими в материальном комфорте. Лучшие из его новелл – те, в которых он использует детскую речь, чтобы выразить свое отвращение к материализму. «The Catcher in the Rye» с 1951 года разошелся по всему миру тиражом 120 миллионов экземпляров: короткий роман о мальчишке, исключенном из пансиона, который бродит по Центральному парку и спрашивает, куда деваются утки зимой, когда пруд замерзает. Посыл, быть может, ребяческий, наверняка ложный, а то и опасный, но Сэлинджер создал ту самую идеологию, добровольной жертвой которой я стал. Он – писатель, давший самое точное определение современному миру – миру, разделенному на два лагеря. С одной стороны, серьезные люди, отличники в галстучках, старые буржуа, которые ходят на работу, женятся на пустоголовых домохозяйках, играют в гольф, читают эссе об экономике и принимают капиталистическую систему такой, какая она есть: «Типы, которые только и знают, что хвастать, сколько миль они могут сделать на своей дурацкой машине, истратив всего галлон горючего». А с другой – незрелые подростки, грустные дети, навсегда застрявшие в первом классе лицея, бунтари, танцующие ночи напролет, и чудики, блуждающие в лесах, те, что задают вопросы про уток в Центральном парке, беседуют с бродяжками или монашками, влюбляются в шестнадцатилетних девочек и никогда не работают, свободные, бедные, одинокие, грязные и несчастные. Короче – вечные смутьяны, которые думали, что протестуют против потребительского общества, а на самом деле заставили западные страны обрасти долгами за последние шестьдесят лет и способствовали продаже товаров широкого потребления, начиная с 1940-х годов, на миллиарды долларов (диски, романы, фильмы, телесериалы, одежда, женские журналы, видеоклипы, жевательная резинка, сигареты, открытые машины, алкогольные и безалкогольные напитки, наркотики, все, что рекламировалось дерзкими маргиналами как мейнстрим). Мне было необходимо встретиться лицом к лицу с основоположником инфантильного фантазма, заставляющего мечтать наш продвинутый мир. С легкой руки писателя Сэлинджера люди больше не хотят стареть.
Мы взяли напрокат крытый грузовичок и отправились в путь по зеленым холмам. В Корниш прибыли ясным весенним утром, в четверг, 31 мая 2007 года, в 11:30. Небо было синее, но солнце ледяное. Холодные солнца бесполезны, какой обман – говорить о весне при такой температуре, в нескольких кабельтовых от Квебека. Адрес Сэлинджера легко найти в Интернете; после изобретения спутникового навигатора никто уже не может спрятаться на нашей планете. Сейчас я дам вам этот адрес, который был на протяжении шестидесяти лет самым засекреченным в мире. В Корнише есть старый крытый мост через реку Коннектикут. Переезжая его от соседней деревни Виндзор, вы почувствуете себя Клинтом Иствудом в «Мостах округа Мэдисон». Затем свернете налево, на Уилсон-роуд, и проедете несколько сот метров до маленького кладбища – серые могильные плиты, низкая ограда, выкрашенная белой краской, – оно останется справа. Далее направо, на Платт-роуд, что идет на подъем вдоль заросшего кустами и мхом кладбища. Если вы проделаете этот путь ночью, то теперь вам покажется, будто вы попали в клип «Триллер» Майкла Джексона. В поисках Сэлинджера требуется мужество; многие желторотые репортеры, приблизившись к здешним густым лесам, повернули назад. Бернанос где-то пишет о «жидкой тишине»: до 31 мая 2007-го я не понимал, что это значит. Нам всем в грузовичке было не по себе – и режиссеру Жан-Мари Перье, и продюсеру Гийому Рапно, да и мне тоже. А ведь Жан-Мари всякое видал: в семьдесят втором он, например, сопровождал в американском турне «Роллинг стоунз», а это далеко не буколическая прогулка. А теперь он скорбно смотрел на меня, словно говоря: «Это была твоя бредовая идея, старичок, так что кончай киснуть».
Дорога сужалась, петляя в высокой траве среди высоких сосен, старых берез, кленов и вековых дубов. Свет едва проникал сквозь черную листву; в этом замогильном лесу под переплетенными ветвями даже средь бела дня было темно, как в полночь. Войти в лес – это магический обряд: по лесам бродят в сказках, в литературе немецкого романтизма и во всех фильмах Уолта Диснея. Солнце мерцало сквозь кроны деревьев: день, ночь, день, ночь; свет возникал и исчезал, как будто солнце отбивало нам послание морзянкой: «Разворачивайтесь. Стоп. Бегите отсюда, пока не поздно. Назад. Мэйдэй, мэйдэй». Романтические леса могут стать враждебной территорией, как в фильмах про ведьму из Блэр или в Хюртгенвальде, зеленом аду зимой 1944/45 года. Я уже знал, что струшу. Никогда я не осмелился бы потревожить человека, привившего мне вкус к чтению, этого американского писателя, который был воплощением нежности и бунта. Мама хорошо меня воспитала, и я не в меру застенчив. После километра под густой листвой лес расступился справа. Вдруг снова стало светло, как будто Господь Бог включил гигантский прожектор. Это была вроде бы прогалина, но когда прогалина идет под уклон, ее называют лугом, или поляной, или лощиной – откуда мне знать, я ведь вырос в городе. К дому Сэлинджера ведет Лэнг-роуд, первый поворот направо. Она идет вверх, справа по борту красный амбар. Я даже могу дать вам его телефон: 603-675-5244 (опубликовал один биограф). И вот тут-то я не смог выйти из машины, меня била дрожь, короче, сдрейфил я самым позорным образом. Я представил себе старого Сэлинджера (тогда восьмидесятивосьмилетнего): он размышляет, сидя под навесом у поленницы в кресле-качалке, а рядом кошки точат когти о старые подушки… Коттедж стоит на вершине холма, вид оттуда, должно быть, изумительный, с террасы можно охватить взглядом реку и луга в белых крапинках домов. В небе носились темные птицы, солнце заливало ледяным светом деревья на синей вершине горы Аскутни. Воздух благоухал на лужайке, заросшей донником – я специально узнавал название этих золотистых цветов, которыми изобилуют здешние места. Кусты можжевельника росли на зеленеющем склоне, точно таком же, как в Саре . Как я любил в восемь лет, пачкая навозом свои штанишки NewMan , скатываться с него среди овечек. Это было необычайно спокойное место… как панорама Нового Света. Ни один человек не имел права нарушить такую безмятежность.
– Ну же, Фред, – сказал мне Гийом Рапно, – не для того мы так далеко забрались, чтобы уйти несолоно хлебавши!
– Я… нет… Я не думал, что… – Я внезапно заговорил в точности как Патрик Модиано. – Все-таки… мы же не папарацци…
– А кто же мы еще, идиот, ты работаешь в «Вуаси»! Ты что, не соображаешь, если он нам откроет, это же сенсация мирового масштаба, даже если захлопнет дверь перед носом, все равно картинка будет worldwide!
– Но… Сэлинджеру за восемьдесят, он глух как пень, к тому же он ветеран Второй мировой, так что наверняка вооружен.
– А-а. Вот об этом ты мог бы сказать нам раньше.
Деревянный щит перед владениями Сэлинджера предупреждал: «NO TRESPASSING». Накануне мы брали интервью у писателя Стюарта О’Нэна в его саду в нескольких километрах отсюда. Он напомнил мне девиз штата Нью-Гэмпшир: «LIVE FREE OR DIE». Огнестрельное оружие по-прежнему свободно продается в этом штате, несмотря на регулярные кровопролития в школах.
– Я так и знал, что ты сдрейфишь, – сказал Жан-Мари Перье. – Ты просто мифоман.
– Нет, я… я… вежливый.
Вся команда в машине расхохоталась, и я тоже – из вежливости. Но я не соврал. Учтивость вкупе с робостью сильно осложняет мне жизнь. Я всегда думал, что, будь все хорошо воспитаны, обществу не понадобились бы законы. И я плохо себе представлял, как позвонил бы в дверь затворника, точно нарядившийся ведьмой сорванец, требующий конфет в вечер Хеллоуина.
Отшельничество – достойная традиция, прочно укоренившаяся в этой части Соединенных Штатов со времен «Белой дамы» – поэтессы Эмили Дикинсон, прожившей всю жизнь, с 1830 по 1886-й, затворницей в Амхерсте, всего в часе езды к югу от дома Сэлинджера, в штате Массачусетс. Та, чьи стихи увидели свет только после ее смерти, написала: «Отсутствие есть сгусток Присутствия». Эта фраза говорит о Боге – но еще и о рекламе. Ведь отказ от общества – не обязательно осознанный выбор: это может быть душевным изъяном, социальной неприспособленностью, а может и расчетом, способом сделать свое присутствие еще заметнее, заставить людей думать о вас – или спасать свою душу, существовать, ощущать трепет жизни. Для Дикинсон эта неспособность покинуть свою комнату была, наверно, недугом и мукой. Некоторые ее биографы намекают на неразделенную любовь… Она будто бы была влюблена в некоего священника, женатого, отца семейства… Несчастная любовь… В «Утехах и днях» Пруст пишет то же самое, что Эмили Дикинсон: «Разве тот, кто любит, не ощущает, что отсутствие любимого человека есть самое достоверное, самое реальное, самое незыблемое, самое надежное его присутствие?»
Вот тут-то и появляется Уна О’Нил. Чтобы получить прощение за то, что отступил в нескольких метрах от цели, я пригласил свою команду пообедать в любимом ресторане Сэлинджера «Лу» в Ганновере, рядом с Дартмутским колледжем. Официантка не пожелала сказать нам, когда писатель приходил в последний раз (я где-то вычитал, что он завтракал там по воскресеньям). Вся округа берегла покой писателя-мифа. По радио передавали Smoke Gets in Your Eyes в исполнении «Платтерс». Я рассматривал висевшую на стене черно-белую фотографию, снятую в каком-то ночном клубе 1940-х: девушки в вечерних платьях и жемчугах позировали рядом с мужчинами постарше в костюмах-тройках и шляпах. На рамке была надпись: «Сторк-клуб, 1940». К 2007 году эти пятидесятилетние джентльмены наверняка давно уже умерли, а красивые девушки, улыбавшиеся на снимке, либо тоже похоронены, либо одной ногой в могиле, пускают слюни в инвалидной коляске и ничего не помнят о том веселом вечере. А рядом, на стене, – она, Уна.
Когда мы вышли из ресторана, меня снова затрясло. А между тем в воздухе пахло весной: желтые цветы, склонившиеся над рекой Коннектикут, называются золотыми жезлами. Только старики интересуются названиями цветов: им хочется знать, что вырастет вскоре над ними. В этих местах есть целые поля ромашек, такие белые – ни дать ни взять лыжная трасса. Любимый писатель Сэлинджера Фрэнсис Скотт Фицджеральд приезжал в Дартмут в феврале 1939-го с Баддом Шульбергом поработать над сценарием под названием Winter Carnival для «Юнайтед артистс» (кинокомпании, основанной Чаплином). Он допился до того, что пришлось госпитализировать его в Нью-Йорке, прежде чем вернуть в Голливуд, где он скончался год спустя, угощаясь плиткой шоколада у Шейлы Грэм в доме 1443 на Норт-Хейворт-авеню. Бадд сам рассказал мне о своих «сеансах работы» со Скоттом. Я познакомился с ним в Довиле, когда ему присудили литературную премию фестиваля. Плюс-минус пара лет – и Сэлинджер вполне мог бы лакомиться пышками с мисс О’Нил, Скоттом Фицджеральдом и Шульбергом здесь, возле Дартмутского колледжа, в 1939-м (Уне было четырнадцать лет, Сэлинджеру двадцать, Скотту сорок три, а Бадду двадцать пять). Чем я старше, тем теснее становится мой век.
6 . Французский гребец Жерар д’Абовиль в 1991 г. в одиночку пересек на веслах Тихий океан за 134 дня.
Джин Тирни (1920–1991) – американская актриса. Считалась одной из самых красивых голливудских актрис.
Нобелевский лауреат 2014 г. известен своей почти болезненной застенчивостью. Надо отметить, что его младшему собрату по перу Фредерику Бегбедеру это несвойственно.
За что мы любим обаятельного бородатого француза, автора романов« 99 франков» и «Любовь живет три года» Фредерика Бегбедера, так это за элегантный, слегка циничный романтизм. О чем бы ни писал анфан террибль современной французской литературы, он пишет о любви и, конечно, о себе любимом. О поисках настоящих чувств в компании насквозь фальшивой парижской богемы(«Каникулы в коме»); о нечаянно нагрянувшей — в заснеженной Москве(«Идеаль»); о любви мимолетной(«Романтический эгоист»).
Наш любитель русской водки, борща, «луны, и бус, и всех молодых соседок» начал писать в 9 лет, а к 35 годам за скандальный и самый известный его роман« 99 франков» был даже с грохотом выгнан из компании Young and Rubicam, поскольку очень жестко, местами гротескно обличал всю подноготную рекламного бизнеса.
Про его бурные, страстные романы с моделями, актрисами и проходящими мимо красотками знали всегда абсолютно всё и абсолютно все. Но сегодня, как признается Фредерик, единственной настоящей любовью, музой и абсолютным идолом стала дочь Хлоя. Он считает ее настоящим другом до конца своей жизни, которая любит его просто так и ни за что.
На этот раз месье Бегбедер рассуждает о любви возвышенной, а потому всегда мучительной — в новом романе« Уна & Сэлинджер».
Герои этой книги — реальные люди: 21-летний начинающий писатель Джерри Сэлинджер знакомится в одном из модных клубов Нью-Йорка начала 1940-х годов с 15-летней Уной О’Нил, дочерью известного драматурга, и влюбляется в нее. Отношения молодых людей продлились недолго, через несколько месяцев японцы напали на Пёрл-Харбор и Соединенные Штаты вступили во Вторую мировую. Сэлинджер отправился воевать в Европу, а Уна решила попытать счастья на кинопробах к фильму Чарли Чаплина. Она получила главную роль — в жизни великого комика, став его женой. А Сэлинджер честно воевал, потом пробивался сквозь журнальные публикации в большую литературу и, наконец, создал свою главную вещь — «Над пропастью во ржи».
Сам Фредерик Бегбедер так рассказывает о новом романе: «Эта книга — чистый „вымысел“. Все в ней точно соответствует действительности: персонажи реальны, места существуют(или существовали), факты подлинны, а даты можно проверить по биографиям и учебникам истории. Все остальное вымышлено, и я прошу детей, внуков и правнуков моих героев великодушно простить меня за кощунственное вторжение… Персонажи этой книги прожили жизни, полные тайн, — что дает простор авторской фантазии. Однако я торжественно заявляю: будь эта история неправдой, я был бы глубоко разочарован».
Отрывок из книги« Уна & Сэлинджер»:
« Уроженец Нового Орлеана, молоденький блондинчик с высоким, пронзительным голосом, непрестанно улыбался, сопровождая трио наследниц: Глорию Вандербильт, Уну О’Нил и Кэрол Маркус, — то были первые „it-girls“ в истории западного мира, скрытые за дымовой завесой. Днем он рассылал тексты в газеты, которые их пока не печатали. А ночью, протерев свои круглые очки платочком из черного шелка, вновь водружал их на нос, а шелковый квадратик возвращал в левый наружный карман белого пиджака, аккуратно расправив четыре треугольничка, направленные вершинами в потолок, точно стрелы, целящиеся в воздушные шарики над головой. Он полагал, что, для того, чтобы сойти за умного, надо быть хорошо одетым, и в его случае это было верно. Ему исполнилось шестнадцать лет, звали его Трумен Капоте, а сцена происходила по адресу: Восточная третья, угол Пятьдесят третьей улицы.
— Крошки мои, вы мои лебеди.
— Почему это ты называешь нас лебедями? — спросила Глория, выпустив клуб дыма ему в лицо.
— Ну так, во-первых, вы такие беленькие, — отвечал Капоте, едва сдерживая кашель, — потом, вы так изящно двигаетесь, у вас длинные грациозные шейки…
— И острые оранжевые клювы, а?
— Да, у тебя, Глория, очень острый клювик, ты доказываешь нам это каждый вечер. Но он скорее красный, если по нему размазано, как и по твоим передним зубкам, содержимое тюбика губной помады.
— Но где же наши крылья? — спросила Уна.
Глаза Трумена Капоте(голубые) были устремлены только на официанта, молодого антильца с неправильным прикусом, смахивавшего на Янника Ноа задолго до рождения Янника Ноа.
— Будьте любезны, молодой человек, принесите нам, пожалуйста, четыре мартини с водкой — так я буду уверен, что скоро увижу вас снова.
Трумен улыбнулся самой красивой из трех своих спутниц.
— Пока вы спали, Уна, darling, я подрезал вам крылья, — ответил он ей, — чтобы не дать вам улететь далеко от меня. Вы у меня в плену на ближайшее десятилетие. Не волнуйтесь, годы пройдут быстро».