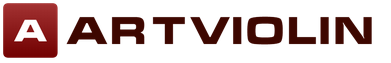Мстислав Ростропович. Любовь с виолончелью в руках Афанасьева Ольга Владимировна
Солженицын и борьба с системой
И Вишневская, и Ростропович обладали независимым характером и не умели подстраиваться под общее мнение. К тому же им этого и не потребовалось: сила таланта и трудолюбие избавили их от медленного и мучительного восхождения по карьерной лестнице, хорошо знакомого посредственностям. Это вызывало зависть многих менее талантливых музыкантов и недовольство властей, до поры до времени скрываемое. Как музыкальным звездам мировой величины, им прощалось многое. Но не все.
Раздражение начало проявляться отчетливее во время сотрудничества Вишневской и Бриттена, предложившего ей исполнить партию в «Военном реквиеме» - произведении, которое нужно было спеть на открытии восстановленного Ковентрийского собора. Открытие наметили на 30 мая 1962 года.
«…В течение зимы Бриттен по частям присылал мне нотный материал моей партии, и я тут же ее учила. Когда Слава впервые посмотрел в мои ноты, он был потрясен и ошарашен, и не только гениальностью музыки.
Даже если бы я не знал, что Бен писал это для тебя, я бы сказал, что это ты, он написал твой портрет.
И в самом деле, моя партия в “Военном реквиеме” совершенно непохожа ни на что, написанное Бриттеном до того или после. Первое исполнение намечалось на 30 мая 1962 года в Ковентрийском соборе, и это было для меня замечательно, поскольку перед этим я должна была петь впервые в лондонском “Ковент-Гардене” в шести спектаклях “Аиды” и могла попутно заниматься “Реквиемом” с самим композитором.
И вдруг мне позвонил взволнованный Бен, что ему отказывают в моем участии. Я не могла понять, почему: ведь я же все равно в это время в Лондоне, - и кинулась в Министерство культуры к Фурцевой. Пока я дожидалась в ее приемной, моя знакомая, работавшая в иностранном отделе, потихоньку принесла и отдала мне - на память - выброшенное в мусорную корзину письмо Бриттена, адресованное заведующему иностранным отделом Степанову, которое я храню как драгоценную реликвию.
Через несколько минут я сидела у Фурцевой и, слушая ее, пыталась понять, что же происходит.
Немцы разрушили Ковентрийский собор во время войны и теперь его восстановили…
Так это же замечательно, что восстановили!..
Но люди могут потерять бдительность, забыть, что Западный Берлин…
Г. Вишневская и Б. Бриттен
Она несла какую-то чушь, а я мучилась нестерпимой болью, что меня лишают права петь замечательное сочинение.
Катерина Алексеевна, сочинение призывает к миру против войны. У нас же каждый день во всех газетах пишут, что мы боремся за мир. И вот тут-то и получается просто изумительно - русские, англичане и немцы все вместе объединяются за мир во всем мире.
Но как же вы, советская женщина, будете стоять рядом с немцем и англичанином в политическом сочинении? А может, в данном вопросе наше правительство не во всем с ними согласно?
Да в чем не согласно-то? Сочинение не политическое, а призыв к людям за мир во всем мире…
Но Ковентрийский собор восстановили немцы…
Так и не поняв - за войну мы или за мир, увидев, что невозможно выйти из этого заколдованного круга, я распрощалась с нею и ушла. Слава через наших знакомых в Лондоне просил передать Бриттену, чтобы он снова добивался разрешения, и эта переписка продолжалась всю зиму.
… Я не могла понять, как же может советское государство отказываться от чести, что великий английский композитор, вдохновленный пением русской певицы, написал для нее партию в своем гениальном сочинении… Ведь это честь не только мне, но и моему народу. Это уже история мировой культуры.
…в Москве, пока я пела в «Ковент-Гарден», Слава все пытался добиться для меня разрешения. Наконец, начальник отдела внешних сношений Министерства культуры В. Степанов ему разъяснил:
Не ходи больше никуда, мы свое решение не изменим.
Но почему?
Потому что собор восстановили немцы. Лучше бы он стоял разрушенным как памятник зверств фашизма. Нельзя бывшего врага превращать в своего друга. Понял? Он восстановлен на немецкие деньги, а мы в этом вопросе с англичанами не согласны, и принимать участие в их торжествах мы не будем.
…Я навсегда запомнила дату первого исполнения - 30 мая 1962 года, когда вместо того, чтобы ликовать и участвовать со всеми вместе в этом торжественном событии, я обливалась слезами у себя дома, в Москве.
А через несколько месяцев, в январе 1963 года, я пела «Военный реквием» в Лондоне на сцене Альберт-Холла и в те же дни записала пластинку с Питером Пирсом, Дитрихом Фишером-Дискау и Бенджамином Бриттеном».
В Советском Союзе «Реквием» был исполнен лишь в мае 1966 года, до того триумфально обойдя уже почти все страны мира.
Приблизительно в то же время Вишневской запретили исполнение написанного для нее учеником Шостаковича Б. Чайковским цикла на стихи И. Бродского. Это были первые сигналы недовольства власти.
Ростропович был далек от политики. Он не был диссидентом, но никогда не одобрял то, что считал морально неприемлемым. Если от него требовали выступить в унисон с нелепым партийным распоряжением, он всячески старался уклониться.
«Секретарь партийной организации Московской консерватории вызвал меня и предложил:
В понедельник в Центральном Доме работников искусств будет собрание, посвященное подонку Пастернаку. Тебе нужно выступить.
А у меня в субботу был концерт в Иваново. Как раз в понедельник я должен был возвратиться в Москву. После концерта я сказал директору Ивановской филармонии:
Как я люблю ваш город знаменитых ткачих! Я хочу побывать у них. Я готов для этого задержаться на понедельник.
В Иваново были в восторге. Я возвратился в Москву утром во вторник, появился в Консерватории, и партийный руководитель меня встретил с недобрым блеском в глазах:
Ты меня подвел.
Я ему билет показал:
Только что приехал. Концерты у ткачих».
Растление личности, свойственное большинству напуганных репрессиями людей, не коснулось ни Ростроповича, ни Вишневской. Из их жизни ушли бедность и приниженность, появились свобода и независимость, а этого советская система стерпеть не могла. Она и так уже скрипела зубами на все эти непонятные музыкальные дружбы с Бриттеном - мало того что англичанином, так еще и открытым гомосексуалистом, чьим спутником жизни и постоянным музыкальным сотоварищем был певец Питер Пирс. Рано или поздно столкновение с системой должно было стать открытым. И поводом к нему послужила дружба с Солженицыным.
О Солженицыне Ростропович узнал, прочитав повесть «Один день Ивана Денисовича» и рассказ «Матренин двор», опубликованные в журнале «Новый мир». Но знакомство состоялось лишь через. пять лет. Солженицын в то время почти нигде не появлялся, от интервью отказывался, слыл отшельником. Как он писал сам, «все годы после освобождения из лагеря я находился на советской воле, как в чужеземном плену, родные мои - были только зэки, рассыпанные по стране невидимо и неслышимо, а все остальное было - либо давящая власть, либо подавляющая масса, либо советская интеллигенция, весь культурный круг, который-то своей активной ложью и служил коммунистическому угнетению».

Питер Пирс, Галина Вишневская, Бенджамин Бриттен, Мстислав Ростропович и Марион Харвурд на Красной площади. 1963 г.
К тому же Солженицын берег время, годы которого потерял в заключении. Теперь он писал днем и ночью, наверстывая упущенное, и уклонялся от любой публичности.
Весной 1968 года Ростропович поехал на концерт в Рязань, где жил Солженицын: играл «Вариации на тему рококо» П. Чайковского с оркестром Московской филармонии под управлением К. Кондрашина. Звучали также Пятая симфония Бетховена и Классическая симфония Прокофьева. Солженицын музыку любил, чему способствовала его жена Н. Решетовская, игравшая на рояле. Музыка была необходима его творчеству, влияла на душевный настрой, к музыке его направляла верный друг ленинградка Е. Воронянская, с нею не раз он слушал «Реквием» Моцарта и «Реквием» Верди.
Перед выходом на сцену Ростропович узнал, что в зале присутствует Солженицын. Ему захотелось познакомиться со знаменитым писателем. Он решил, что тот зайдет к нему за кулисы после концерта, но Солженицын уехал домой. Тогда Ростропович раздобыл его домашний адрес и на другой день утром просто заявился к нему:
Здравствуйте. Я - Ростропович, хочу с вами познакомиться.
Солженицын жил в маленькой квартирке на первом этаже, и Ростропович был удивлен стесненностью и убожеством быта знаменитого писателя. Кроме него с женой, в квартире жили еще две престарелые родственницы жены.
Солженицын вспоминал их встречу так: «Вихрем налетел на меня». Солженицын, как он признавался, «решал для себя людей с первой встречи, с первого взгляда». По-лагерному недоверчивый и настороженный Солженицын не устоял перед обаянием Ростроповича: его детская непосредственность и доброжелательность были неотразимы. Солженицын поверил в искреннее сочувствие музыканта и ощутил в нем близкую ему творческую натуру.
Солженицын тяготился провинциальной Рязанью, но на переезд в Москву не решался. Там не было жилья, прописки, там могли мешать работе, а работа была для Солженицына единственной целью в жизни. Сбитый с толку триумфом «Ивана Денисовича», всенародной славой, смелостью Твардовского, планировавшего новые публикации в «Новом мире», Солженицын растерялся. Он собирался купить машину для путешествий и скромный домик где-нибудь в лесу. Домик был вскоре куплен, и Солженицын перебрался туда.
Дружба Ростроповича с Солженицыным крепла. Время от времени они встречались. Еще ощущалась хрущевская «оттепель», еще была надежда на обновление общества. В 1967 году Солженицын отмечал, что «на шею мне петля уже два года как наложена, но не стянута», и собирался в новой книге очерков «Бодался теленок с дубом» удавку «головой легонько рвануть». По воспоминаниям Н. Решетовской, после рязанского концерта Солженицын побывал у Ростроповича в его квартире на улице Неждановой и был поражен диковинной обстановкой, посудой, заморской едой. Делясь с музыкантом трудностями публикации романов «В круге первом» и «Раковый корпус», Солженицын оставил ему для прочтения рукописи этих произведений. Прочтя их, Ростропович написал Солженицыну: «До сих пор и еще, видимо, долго буду потрясен твоим гением». К пятидесятилетию писателя он привез ему из зарубежной поездки в подарок копировальную машину, чтобы тот мог сам размножить свои сочинения. Это было строго запрещено законом, провоз копировальных аппаратов считался преступлением, но, к счастью, багаж прославленного артиста таможня не проверяла. И долго еще служила эта машина «самиздату».
В 1968 году окончательно рухнула надежда Солженицына на публикацию его произведений на родине, и он стал их передавать за рубеж. Его выступления против советского строя становились все более резкими.
Галина Вишневская вспоминает: «Уже первая книга Солженицына “Один день Ивана Денисовича”, напечатанная в журнале “Новый мир” в 1962 году, принесла ему мировую известность, имела сенсационный успех. Во всех советских газетах несколько месяцев печатали хвалебные рецензии, сравнивая писателя с Достоевским и Толстым. И даже книгу его выдвинули на соискание Ленинской премии. Но на том так стремительно было начавшийся официальный успех писателя и закончился. Увидев произведенный в народе «Иваном Денисовичем» эффект, власти стали срочно бить отбой.
Опасность они увидели не в фактах, изложенных в повести. Уже прошли XX и XXII съезды партии с разоблачением культа личности Сталина, и народ знал о миллионах погибших в советских концентрационных лагерях. Но цифры покрывались мутью времени, новыми лживыми клятвами и трескучими лозунгами партии, которым так хотелось верить. Опасность для властей была в масштабе таланта писателя, в моральном воздействии “Ивана Денисовича” на читателей. Образ деревенского русского мужика вставал со страниц повести обобщенным образом народа и, не отпуская от себя, терзая ум и душу, взывал к совести людской, к ответу за великое злодеяние и к покаянию.

Писатель Александр Солженицын за работой. 1962 г.
Можно ли забыть ее страшную в своей простоте заключительную фразу: “Таких дней в его сроке от звонка до звонка было три тысячи шестьсот пятьдесят три. Из-за високосных годов - три лишних дня набавлялось…”
И вот следующая повесть Солженицына “Раковый корпус” уже прочно легла на дно сейфа Твардовского - редактора “Нового мира”. Даже он, с его связями и влиянием на верхах, не смог протолкнуть ее в печать. Я прочла ее в рукописи, когда Солженицын поселился у нас».
В начале 1969 года Солженицын побывал у Ростроповича в его подмосковном доме в поселке Жуковка. Они вместе гуляли, и Ростропович повторил Солженицыну приглашение пожить здесь, в Жуковке: «Пусть только кто-нибудь посмеет прикоснуться к тебе в моем доме. Я хочу, чтобы у тебя были все условия для творчества».
«Он был вторым Толстым, вторым Достоевским после «Одного дня Ивана Денисовича». Дело было так. Меня встретила Чуковская и спросила: «Вы любите Солженицына?» Я ответил: «Еще бы не любить, конечно, очень люблю». «Он умирает, умирает от рака. Находится он сейчас на 83-м километре Можайского шоссе, там у него садовый участок».
А на таких садовых участках хозяева не имели права делать в домах отопление. Я сразу же поехал туда, нашел эту единственную маленькую хатку, в которой можно было держать только огородный инвентарь, увидел Солженицына под десятью какими-то бушлатами, потому что холод был собачий. А у меня уже была построена маленькая квартирка на даче, и я ему сказал: «Санечка, что ты здесь лежишь один, двигаться не можешь? Поедем ко мне, у меня там отопление, поживи».
Он говорит: «Ты знаешь, у меня не рак, а прострел оказался, люмбаго так называемое». Он приехал к нам, ему стало лучше, и в это время начались на него гонения. И со мной два министра - Щелоков и Фурцева - имели разговор; они заявили, что я должен выгнать Солженицына со своей дачи. Я ответил: «Если бы вы ему дали комнату, он бы сам ушел». - «Нет, ничего мы не дадим, а ты выгонишь его на улицу». - «Нет, не выгоню!» - «Ну, тогда посмотрим, что с тобой делать». - «Ну, смотрите».
Вот так все и началось. А если бы выгнал я его тогда? Что, было бы мне лучше? Нет! И сейчас, в 70 лет, я, может, повесился бы, потому что думал бы, сколько я сделал зла, сколько раз шел на компромиссы с собственной совестью…
Ведь кого только ни ругали, кого ни уничтожали! Уничтожали Ахматову, уничтожали Осю Бродского, с которым мы очень дружили, когда он жил в Америке. Но уничтожали только тех, кто чего-либо стоил; тех, кто не стоил, не трогали…»
Ростропович считал, что обязан помочь безвинно страдающему человеку. Солженицын справедливо впоследствии писал, что его новый друг, «предложив мне приют широкодумным порывом, еще совсем не имел опыта представить, какое тупое и долгое на него обрушится давление».
В книге «Галина» Вишневская рассказала, как произошло вселение Солженицына. Гостевой домик был закончен - две комнатки, кухня, ванная, веранда, но еще не обставлена. Вишневская сама с помощью дочерей таскала в домик кровать, стол, стулья. «Особую заботу доставили мне портьеры. Купить негде, шить же новые не было времени. И я, сорвав свои с третьего этажа нашего дома, повесила их в его будущий кабинет. Из американской поездки я привезла их - белые с синими разводами и все приставала к Славе: хорошо ли, что я Александру Исаевичу такие занавески повесила? Не слишком ли модерно и не будут ли они действовать ему на нервы?»
19 сентября 1969 года в шесть утра Солженицын на своем старом «Москвиче» появился на даче Ростроповича, оставил свои вещи и тотчас же уехал по делам на несколько дней в Москву.
Вишневская и Ростропович пошли в домик, посмотреть, не нужно ли что-либо улучшить, помочь в устройстве. Никаких вещей Солженицына не было видно. Только в спальне на кровати лежал узел из залатанной наволочки, старый черный ватник и алюминиевый мятый чайник. Пораженная Вишневская спросила:
Слава, это что же, «оттуда», что ли?

Солженицын на даче у Ростроповича
Долго стояли блистательные хозяева дачи над этим узлом: «будто человек из концентрационного лагеря только что вернулся и опять туда же собирается».
Возвратившись из Москвы, Александр Исаевич привез в дополнение свой старый письменный стол. Приближалось исключение из Союза писателей, после чего Солженицын становился беззащитным.
Поначалу в Жуковке шутили, что у Ростроповичей в сторожах нобелевский лауреат. Солженицын редко выходил за ворота, а на пребывание известного писателя без прописки милиция сначала внимания не обращала: такое в привилегированной Жуковке тоже случалось.
Кроме того, Солженицына в тот год, когда он поселился у Ростроповича, побуждали добровольно покинуть родину. Даже «удавку» ослабили на время, что удивило Солженицына: «В правительственной зоне, - откуда выселить любого можно одним мизинцем, - не выселяли, не проверяли, не приходили: только бы сам убрался, на Запад». А Солженицын отвечал: «Разрешают мне из родного дома уехать, благодетели! А я им разрешаю ехать в Китай!» И пояснял: «Ненапечатанные вещи кричат, что жить хотят. Но скорбным контуром вырастала и другая согбенная лагерная мысль: неужели уж такие мы лягушки-зайцы, что ото всех должны убегать? Почему нашу землю мы должны им так легко отдавать?.. Неужели мы так слабы, что здесь побороться не можем?»
Поселение Солженицына на даче ничего не изменило в распорядке хозяев. Они уезжали на гастроли, в Москву по делам, встречали гостей. Солженицыну старались не мешать. Он работал дни и ночи, экономил на всем, тратя на необходимые нужды всего рубль в день.
У Ростроповича и Вишневской предполагались долгие гастроли. По просьбе Солженицына они поселили в своей части дачи двух бывших заключенных - Н. Аничкову и Н. Левитскую, и те стали помогать Солженицыну в работе. Переводили для него исторические материалы из иностранных трудов, переправляли рукописи за рубеж, находили места для хранения.
Из Жуковки Солженицын изредка ездил в Ленинград, где печатала ему на машинке Е. Воронянская и прятала «Архипелаг ГУЛАГ».
За гостеприимство Солженицын был очень благодарен: «Что б я делал сейчас в рязанском капкане? Где бы скитался в спертом грохоте Москвы? Надолго бы еще хватило моей твердости? А здесь… под чистыми деревьями и чистыми звездами - легко быть непреклонным, легко быть спокойным… Не помню, кто мне в жизни сделал больший подарок, чем Ростропович, этим приютом… В ту осень он охранял меня так, чтоб я не знал, что земля разверзается, что градовая туча ползет».
Вскоре туча разразилась грозой - Солженицына исключили из Союза писателей СССР. Возмущенный Ростропович после этого написал открытое письмо в Союз писателей: «Ваши часы отстали от века, вы не способны предложить ничего конструктивного, ничего доброго, а только ненависть…»
В «Литературной газете» был напечатан ответ секретариата Союза писателей, в котором, поливая Солженицына грязью, ему вновь предлагали «отправиться туда, где всякий раз с таким восторгом встречают его антисоветские произведения и письма».
Ростропович собирался протестовать, надеясь, что протест поддержат Твардовский и Шостакович. Он давно хотел сблизить Шостаковича и Солженицына. В Жуковке Шостакович жил по соседству с Ростроповичем, Солженицыну сочувствовал, а «Иваном Денисовичем» восхищался. В его семье тоже были репрессированные, многие его друзья были расстреляны в 1937 году. Солженицын дружил с Лидией Чуковской, племянник которой был женат на дочери композитора.
На вступление советских войск в Чехословакию летом 1968 года Солженицын откликнулся гневной статьей «Стыдно быть советским» и уже собрался к Шостаковичу и другим знаменитостям, чтобы подписали, но засомневался, раздумал: «Пленный гений Шостаковича замечется как раненый, захлопает согнутыми руками - не удержит пера в пальцах».
Понимая масштаб таланта Шостаковича, Солженицын не принимал его вынужденного конформизма, вступления в партию, участия в руководящей работе. «Как Иван Карамазов с чертом, так я с Шостаковичем - не могу утрястись. Сложно то, что и отдался он, и в то же время единственный, кто в музыке проклял их». Лицемерить Солженицын не мог, а обижать Шостаковича не хотел.
Усилия Ростроповича стали совсем бесполезными, когда Шостакович, поддавшись слабости, подписал письмо, в котором группа композиторов осуждала академика А. Сахарова.

М. Ростропович, Д. Шостакович, Е. Светланов на сцене Большого зала Московской консерватории после премьеры Второго виолончельного концерта. 1966 г.
Вспоминает Галина Вишневская:
«Когда у нас поселился Солженицын, то волею судьбы он оказался рядом с Сахаровым - с одной стороны, и с Шостаковичем - с другой.
Естественно, что в таком близком соседстве он часто общался с Андреем Дмитриевичем. Теперь Слава захотел свести поближе Солженицына с Шостаковичем, который очень высоко ценил писательский дар Александра Исаевича, хотел писать оперу на его повесть “Матренин двор”.
Они встречались несколько раз, но контакта, видно, не получилось. Разные жизненные пути, разные темпераменты. Солженицын - бескомпромиссный, врожденный борец, рвался хоть с голыми руками против пушек в открытую борьбу за творческую свободу, требуя правды и гласности. Затаенный всю жизнь в себе Шостакович не был борцом.
Скажите ему, чтобы не связывался с кремлевской шайкой. Надо работать. Писателю надо писать, пусть пишет… он великий писатель.
Шостакович, конечно, чувствовал себя лидером, за которым идут, на которого равняются все музыканты мира. Но он также видел и укор в глазах людей за свой отказ от политической борьбы, видел, что от него ждут открытого выступления и борьбы за свою душу и творческую свободу, как это сделал Солженицын. Так уж повелось, что один должен дать распять себя за всех. А почему все не спасут одного - гордость своей нации?
Бедный Дмитрий Дмитриевич! Когда в 1948 году в переполненном людьми Большом зале Московской консерватории он, как прокаженный, сидел один в пустом ряду, было о чем ему подумать, а потом помнить всю жизнь. Он часто говорил нам, когда мы возмущались какой-нибудь очередной несправедливостью:
Не тратьте зря силы, работайте, играйте… Раз вы живете в этой стране, вы должны видеть все так, как оно есть. Не стройте иллюзий, другой жизни здесь нет и быть не может.
А однажды высказался яснее:
Скажите спасибо, что еще дают дышать.
Не желая закрывать глаза на жестокую правду, Шостакович отчетливо и ясно сознавал, что он и все мы - участники отвратительного фарса. А уж коль согласился быть паяцем, так и играй свою роль до конца. Во всяком случае, тогда ты берешь на себя ответственность за мерзость, в которой живешь и которой открыто не сопротивляешься.
И, раз навсегда приняв решение, он не стесняясь выполнял правила игры. Отсюда его выступления в печати, на собраниях, подписи под «письмами протеста», которые он, как сам говорил, подписывал не читая, и ему было безразлично, что об этом скажут. Знал, что придет время, спадет словесная шелуха и останется его музыка, которая все расскажет людям ярче любых слов…»
Новый 1970 год Солженицын встретил в Жуковке. Ростропович и Вишневская находились на гастролях в Париже. До ограничения их концертной деятельности дело еще не дошло. Ростроповича уговаривали и увещевали, взывали к его чувству благодарности. Министр культуры Е. Фурцева пыталась его образумить. Советские музыкальные издательства включили в свои планы и опубликовали «Юмореску» М. Ростроповича и многие виолончельные сочинения в его редакции: Сонату Э. Мирзояна, Сонату и Симфонию-концерт С. Прокофьева, Второй концерт Д. Шостаковича, Концерт Б. Тищенко. В Кракове под его редакцией был издан Концерт В. Лютославского.
Ростропович упорствовал. Он продолжал заступаться за Солженицына, отказывался выгонять его из дома, и даже Шостакович, который считал, что музыкант должен прежде всего заниматься своим делом, не смог на него повлиять.
Живя на даче в Жуковке и оттуда изредка приезжая в Москву по своим литературным делам, Солженицын познакомился с Натальей Светловой и сразу сблизился с ней. После «Архипелага ГУЛАГ» и «Ракового корпуса» он начал роман о 1917 годе. Это совпало с семейными переменами - разводом с Решетовской и женитьбой на Наталье Светловой. Процесс этот был мучительным, и хозяевам дачи невольно пришлось принимать в нем участие.
Вскоре у Солженицына родился сын Ермолай. Мальчика крестили в Обыденской церкви в Москве, и крестным отцом стал Ростропович. Солженицыну не давали развода, а без этого он не мог покинуть страну с новой неофициальной женой и уже двумя детьми.
За «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицыну присудили Нобелевскую премию. Это известие пришло на дачу Ростроповича, и его отпраздновали с несколькими самыми близкими друзьями.
В Стокгольм на вручение премии Солженицын поехать не смог. Провокации следовали одна за другой. И Ростропович разослал в центральные газеты «Правда», «Известия», «Литературная газета», «Советская культура» открытое письмо в защиту Солженицына. Он писал о праве художника свободно творить: «Уже перестало быть секретом, что Александр Исаевич Солженицын большую часть времени живет в моем доме под Москвой. На моих глазах произошло и его исключение из Союза писателей в то самое время, когда он усиленно работал над романом “1914-й год”, и вот теперь награждение его Нобелевской премией и газетная кампания по этому поводу. <…> На моей памяти уже третий раз советский писатель получает Нобелевскую премию, причем в двух случаях из трех мы рассматриваем присуждение премии как грязную политическую игру, а в одном (Шолохов) - как справедливое признание ведущего мирового значения нашей литературы.

Александр Солженицын с Натальей Светловой и сыном
Если бы в свое время Шолохов отказался бы принять премию из рук присудивших ее Пастернаку - «по соображениям холодной войны», - я бы понял, что и дальше мы не доверяем объективности и честности шведских академиков. А теперь получается так, что мы избирательно то с благодарностью принимаем Нобелевскую премию по литературе, то бранимся. <…> Я помню и хотел бы напомнить Вам наши газеты 1948 года, сколько вздора писалось там по поводу признанных теперь гигантов нашей музыки С.С. Прокофьева и Д.Д. Шостаковича. <…> Сейчас, когда посмотришь на газеты тех лет, становится за многое нестерпимо стыдно. Неужели прожитое время не научило нас осторожнее относиться к сокрушению талантливых людей? Не говорить от имени всего народа? Не заставлять людей высказываться о том, чего они попросту не читали и не слышали?»
Письмо не опубликовали, но оно не осталось без ответа: к гонениям на Солженицына добавились гонения на Ростроповича и Вишневскую. Если сначала к тому, что Ростропович приютил Солженицына, еще относились снисходительно, то после этого письма отношение к нему изменилось.
Для ареста прославленного музыканта Ростроповича повода не было. Но можно было его унизить придирками и ограничениями, не давать выступать.
Ростропович до 22 декабря должен находиться на гастролях в «капиталистических государствах Европы». По линии КГБ были даны указания «принять меры к вывозу Ростроповича в Советский Союз». Для этого министру культуры СССР Е. Фурцевой, находящейся в Чехословакии, предлагалось пригласить его в Прагу для выступлений перед общественностью. Кроме того, предписывалось «под благовидным предлогом отложить поездку в Австрию жены Ростроповича - народной артистки СССР Вишневской Г. П.».
Не остался в стороне и руководитель Союза композиторов Т. Хренников, уверив письмом ЦК КПСС в том, что «по поводу письма Ростроповича от всех я слышал только резкие слова осуждения, возмущения его поведением». Когда Ростропович возвращался после гастролей в Москву, на пограничном пункте в Бресте его ожидал многочасовой обыск.
Все это привело лишь к тому, что Ростропович еще больше сблизился с Солженицыным. Он чем мог помогал и ему самому, и его лагерным друзьям.
На даче Ростроповича Солженицын сблизился с Сахаровым. В своих мемуарных очерках он отмечал: «Когда я переехал в Жуковку к Ростроповичу, я оказался в ста метрах от дачи Сахарова, надо же так совпасть. А жить в соседях - быть в беседах…В конце 1969 года я дал ему свою статью по поводу его меморандума («На возврате дыхания и сознания»)… Иногда мы говорили о возможных совместных действиях…» В 1970 году Сахаров советовался с Солженицыным о проекте комитета защиты прав человека: «Я не нашел возражений… мы продолжали встречаться с Сахаровым в Жуковке в 1972 г.». Весной 1973 года Сахаров навестил Солженицына в Жуковке в последний раз.
Было решено роман «Август 1914-го» печатать за рубежом. Солженицын отправил рукопись в Париж. Ростропович предложил послать «Август» и в советские издательства.
Понятно, что ни одно советское издательство не решилось издать Солженицына. Но теперь можно было объяснить, почему он послал свою рукопись за рубеж.
Весной 1972 года Ростропович вместе с А. Сахаровым, Л. Чуковской, А. Галичем, Е. Боннэр и другими видными деятелями советской науки и культуры подписал два обращения в Верховный Совет СССР: об амнистии политических заключенных и об отмене смертной казни. Такого власти стерпеть уже не могли. Ростроповича выгнали из Большого театра, в репертуаре которого значились оперы «Евгений Онегин» и «Война и мир» под его управлением. Министр культуры Е. Фурцева предупредила Ростроповича, что его лишат зарубежных гастролей на год. Он ответил: «Я и не знал, что выступать на родине - это наказание».

Андрей Сахаров, Елена Боннэр и ее сын от первого брака Алексей. 1972 г.
На приглашения Вишневской или Ростроповичу выступить за границей Госконцерт стал сообщать о мнимой болезни супругов. Получили указание не приглашать Ростроповича и столичные оркестры.
К Ростроповичу и Вишневской обратилась радиостанция Би-би-си, снимавшая фильм о Шостаковиче, с просьбой участвовать в этой картине. Позвонили из Агентства печати «Новости» и сообщили, что официальное разрешение получено и договорились о дате и времени съемок. К назначенному времени Слава и Галина приоделись, приготовились к съемке и записи, но руководители съемок не появились. Оказалось, что представителя Би-би-си предупредили, что Ростропович и Вишневская срочно уехали и сниматься отказались.
Студенты столичных вузов пытались организовывать творческие вечера, но афиши о них срывались и вывешивались объявления о мнимых болезнях, отъездах.
Вспоминает Галина Вишневская:
«Я продолжала петь в Большом театре столько, сколько мне хотелось, в этом ограничений мне никаких не было.
Еще в 1971 году наградили меня орденом Ленина - и даже выпускали за границу: последняя моя поездка была в Венскую оперу в 1973 году - я пела “Тоску” и “Баттерфляй”.
Просто обо мне перестали писать в центральных газетах. Мой голос больше не звучал по радио, по телевидению; что бы я ни спела - все падало в бездонную пропасть. Если бы мы жили в век, когда не было не только радио, но и прессы, то так же можно было бы выходить на сцену и делать свое дело. Но рядом со мной, окруженной стеной молчания, шла другая, цивилизованная жизнь, где технические достижения человеческого разума давали людям информацию о культурной жизни страны, но без меня и Ростроповича.
Этим власти старались не только унизить нас, но и создать атмосферу пустоты, незаинтересованности в нас, ненужности нашего творчества. Но я, в конце концов, имела свое привилегированное место на сцене, где могла предъявить мое искусство. У меня был прежний уровень - столичный театр, великолепный оркестр, я могла сохранять свою прежнюю творческую форму и, пользуясь неизменным успехом и любовью публики, окруженная поклонниками и почитателями, стараться не замечать гнусную возню вокруг меня. Но сколько же на это ушло душевных сил!
Совсем в другом положении оказался Слава. После блистательных оркестров Америки, Англии, Германии, после общения с выдающимися музыкантами современности, ему пришлось опуститься в болото провинциальной жизни России. Теперь он играл с дирижерами, оркестрами, которые, как бы они ни старались, не могли даже приблизительно выразить идеи такого музыканта. Значит, каждый раз нужно было идти на творческий компромисс, постепенно снижать свой исполнительский уровень, приспосабливаться к посредственности. В этих случаях на помощь, по старой русской традиции, приходит водка, и Ростропович не оказался исключением. Все чаще выпивал он после концерта родимую поллитровку и все чаще хватался за сердце - мучили приступы стенокардии. Нужно было срочно вмешаться, оградить его от пьяных компаний, снова хлебнуть провинциальной жизни».
Ростропович и Вишневская стали выступать с гастролями в провинции. На пароходе «Ярослав Галан» они отправились вместе с группой музыкантов по городам Поволжья. В Ульяновске распорядились прекратить печать объявлений о предстоящих гастролях и заклеить фамилию Ростроповича на афишах, в Саратове концерты вообще отменили.
Саратовский оперный театр пригласил Ростроповича участвовать в летних гастролях в Киеве. Договорились о двух представлениях «Тоски» Дж. Пуччини. Ростропович вместе с дочерями выехал в Киев на автомобиле. В Брянске они получили телеграмму, что выступления отменяются: киевское начальство запретило Ростроповичу появляться на Украине, публике объявили, что он сам в Киеве дирижировать отказывается. Обманутая в своих ожиданиях публика негодовала, а Ростропович в это время бесплатно играл в Брянском музыкальном училище.
Из Московской консерватории Ростроповича не увольняли. Но коллеги от него шарахались, а студенты провожали сочувственными взглядами. Он чувствовал себя прокаженным. Теперь с ним общались немногие и либо случайно, либо по необходимости.
Чтобы совсем не забросить театр, Ростропович задумал поставить в Московском театре оперетты «Летучую мышь» Иоганна Штрауса, которую очень любил. Оркестр дополнил консерваторской молодежью. Репетиции вел с воодушевлением. Подготовка спектакля стоила огромных денег, но его запретили.

Галина Вишневская и Мстислав Ростропович тайно повенчались 2 мая 1970 г. в Саратове. На фото вместе с Владыкой Пименом, совершившим обряд
Вспоминает Галина Вишневская:
«Скоро провинциальные концерты стали оставлять в душе Славы горький осадок творческой неудовлетворенности. Но еще невыносимее было сидеть в Москве и ничего не делать, в то время как в концертных залах выступают его коллеги, в Большом театре идут спектакли, он же может быть только слушателем - гениальный музыкант, в расцвете сил. Надо сказать, что более верной медленной казни для Ростроповича придумать не могли. Весь вопрос был - надолго ли его хватит.
У нашего друга была хорошая коллекция русского фарфора, и вдруг Слава стал все чаще и чаще к ней приглядываться, потом начал покупать какие-то вещицы. В России все это давно исчезло из антикварных магазинов, и нужно было заводить новые знакомства с коллекционерами, ездить по каким-то адресам… А так как Ростропович ничего не делает наполовину, то скоро решил, что у нас должна быть самая лучшая в России коллекция русского фарфора. Поставив себе такую задачу, он кинулся на поиски сокровищ.
Пока он научился разбираться в этих вещах, была масса всяческих конфузов, когда ему за бешеные деньги продавали размалеванную дрянь, выдавая ее за музейную редкость. Но настоящим знатоком можно стать, только пройдя через ошибки и обманы. И Ростроповича это нисколько не смущало. Я рада была его новому увлечению и всячески поддерживала в нем энтузиазм, понимая, что лучше в доме битые, склеенные чашки, чем пьяные компании и разговоры ни о чем до утра…»
Благодаря настойчивости дирижера Сейджи Озавы состоялось выступление с гастролировавшим в Москве Симфоническом оркестром Сан-Франциско. Ростропович сыграл Концерт Дворжака. Подобные редкие выступления подбадривали, но не могли предотвратить уже намечавшуюся в этом цельном характере трещину, остановить прогрессирующую депрессию, спасение от которой он начал искать в алкоголе. Шостакович был стар и смертельно болен - он уже ничем не мог помочь. В 1972 году умерла мать Ростроповича Софья Николаевна, до последнего дня переживая за сына.
Ростропович обратился к секретарю ЦК КПСС П. Демичеву, ведавшему культурой. Он принял его любезно, пообещал помочь. И действительно, на студии грамзаписи «Мелодия» была разрешена запись оперы «Тоска» на пластинки с оркестром и солистами Большого театра. Но в травлю включились коллеги по Большому театру.
Вспоминает Галина Вишневская:
«Тенор, баритон, бас, сопрано и меццо-сопрано, не считаясь со слаженностью ансамбля, заголосили, каждый желая выделиться, кто как может.
Он поддержал Солженицына своим письмом и тем самым выступил против линии нашей партии… И теперь, когда по иностранному радио передают “Архипелаг ГУЛаг”, мы от имени коллектива и коммунистов Большого театра требуем не допускать Ростроповича к оркестру театра. (Ай, как не повезло им, что был уже не 37-й год!) Тут уж даже видавший виды секретарь ЦК по идеологии разинул рот от столь блестящего и хитрого хода и долго пребывал в таком состоянии. Когда же опомнился, то понял, что оставить сей великолепный донос без внимания нельзя: бравая пятерка, имея в руках «козырный туз» - не допустить к оркестру Большого театра врага народа, - побежит в другой кабинет по соседству, уже с доносом на него, что у него отсутствует чувство бдительности… Всю эту историю рассказал нам на другой день, зайдя к нам вечером, министр внутренних дел Н.А. Щелоков…»
Когда завершили запись первого акта, студия объявила, что «Тоска» для пластинок не нужна. Ростропович, лишенный любимого дела, стал совсем сдавать. «Не дают играть!» - то и дело с тоской повторял он.
Весной 1973 года Солженицын решил покинуть дачу, чтобы хоть как-то облегчить существование своим хозяевам. Таких благодатных условий для творчества у него никогда еще было. За четыре года он написал «Август 1914-го», «Октябрь 1916-го», очерки «Бодался теленок с дубом», подготовил сборник «Из-под глыб». Как признавался Солженицын, «…заедать жизнь Ростроповича - Вишневской и дальше я уже не смел… Ростропович стал уставать и слабеть от длительной безнадежной осады… Вырастал вопрос: правильно ли одному художнику хиреть, чтобы дать расти другому?»
В интервью американскому агентству «Ассошиэйтед пресс» и французской газете «Монд» Солженицын, помимо прочего, подробно рассказал о Ростроповиче: «Мстислав Ростропович преследовался все эти годы с неутомимой изобретательной мелочностью. Одно время его и даже Галину Вишневскую вовсе снимали с радио и телевидения, искажались газетные упоминания о нем. Немало его концертов было отменено без ясных причин - даже, когда он находился на пути в город, где концерт назначен. Его методически лишили творческого общения с крупнейшими музыкантами мира. Из-за этого, например, уже несколько лет задерживается первое исполнение Виолончельного концерта Лютославского в Польше, на родине композитора, куда Ростроповича не пускают, и первое исполнение концерта Бриттена, посвященного Ростроповичу. Наконец, ему преградили пути дирижерской работы в Большом театре, которая была для него наиболее творчески важна и интересна…»

Ростропович и Солженицын в Подмосковье
В 1974 году Ростропович оставался без работы, без денег, без творческой атмосферы, познал горечь предательства. Возникла мысль об отъезде. Но как оставить то, что ему дорого, - Московскую консерваторию, конкурсы имени П. Чайковского, сестру Веронику и ее семью - двух сыновей, поступавших в институт, и мужа - работника внешней торговли. Вероника играла в группе первых скрипок оркестра Московской филармонии, и отъезд брата мог бы иметь для нее печальные последствия.
29 марта 1974 года Ростропович по настоянию Вишневской отправил через П. Демичева письмо Л. Брежневу с просьбой о командировке за рубеж на два года. Написали и самому Демичеву: «…Мы едем за границу, чтобы получить работу, достойную нас, по нашей квалификации. Как Вы знаете, много раз письменно и устно по разным вопросам мы обращались к министру культуры СССР Е. Фурцевой, но все оказалось безрезультатно… Достигнув творческой зрелости, мы обязаны свое умение отдать людям».
Леонард Бернстайн перед поездкой в СССР сенатора Эдварда Кеннеди обратился к нему с просьбой помочь артисту, и Кеннеди, принятый Брежневым, замолвил за них словечко. Довольно быстро Брежнев согласился на их отъезд. Руководству страны не жаль было терять ведущую певицу Большого театра и гениального виолончелиста и педагога.
Много лет спустя, когда все переживания остались в далеком прошлом, Ростропович признавался: «Если бы вы знали, как я плакал перед отъездом. Галя спала спокойно, а я каждую ночь вставал и шел на кухню. И плакал, как ребенок, потому что мне не хотелось уезжать!»
Заключительный сольный концерт Ростропович дал на земле своих предков - в литовском городе Шауляе. А 10 мая 1974 года он дирижировал Шестой Патетической симфонией Чайковского в Большом зале Московской консерватории, последний раз в Москве.
Вспоминает Галина Вишневская:
«Рассказал он мне за границей, как за два дня до отъезда он пришел к нашему соседу по даче Кириллину, зампредседателя Совета министров, чтобы тот поговорил с кем-нибудь в правительстве.
Ты объясни им, что я не хочу уезжать. Ну, если они считают меня преступником - пусть сошлют меня на несколько лет, я отбуду наказание, но только потом-то дадут мне работать в моей стране, для моего народа… Перестанут запрещать, не разрешать…
Кириллин обещал поговорить. На другой день, придя к Славе на дачу, вызвал его в сад. Вид у него был очень расстроенный.
Я говорил о тебе, но слишком далеко все зашло - ты должен уехать. Уезжай, а там видно будет…
После чего они вдвоем в дымину напились.
Провожать Славу приехали в аэропорт его друзья, ученики… Вокруг вертелись какие-то подозрительные типы в штатском. Проводы были как похороны - все молча стоят и ждут. Время тянулось бесконечно… Вдруг Слава схватил меня за руку, глаза полные слез, и потащил в таможенный зал.
Не могу больше быть с ними, смотрят на меня как на покойника…
И, не прощаясь ни с кем, исчез за дверью. Меня и Ирину Шостакович пропустили вместе с ним.
Галя, Кузя не хочет идти! - раздались крики нам вслед, Наш огромный, великолепный Кузя распластался на полу, и никакие уговоры не могли заставить его подняться. Это природное свойство ньюфаундлендов - если не захочет пойти, то ни за что не встанет. А веса в нашем Кузе девяносто килограммов - попробуй подними!
Мне пришлось почти лечь рядом с ним и долго ему объяснять, что он уезжает вместе со Славой, а не один, что его никому не отдают… Наконец, поверив мне, он встал и позволил провести себя в зал, где с восторгом бросился к Славе.
Откройте чемодан. Это весь ваш багаж?
Да, весь.
Слава открыл чемодан, и я остолбенела - сверху лежит его старая рваная дубленка, в которой истопник на даче в подвал спускался. Когда он успел положить ее туда?..
Ты зачем взял эту рвань?! Дай ее сюда, я обратно унесу.
А зима придет…
Так купим! Ты что, рехнулся?
Ах, кто знает, что там будет… Оставь ее.
Из книги Переписка автора Шаламов ВарламВ.Т. Шаламов - А.И. Солженицын Москва, 15 ноября 1964 г.Дорогой Александр Исаевич.Написал Вам целых два письма, но из-за их нетранспортабельности, негабаритности в чисто физическом смысле - не отправил и думаю вручить Вам лично, при встрече. Там есть мои замечания на Ваше
Из книги Режиссерские уроки К. С. Станиславского автора Горчаков Николай МихайловичЗНАКОМСТВО С «СИСТЕМОЙ» Впервые я увидел К. С. Станиславского - увидел в жизни, а не на сцене - на генеральной репетиции «Каина» в Художественном театре в 1920 году.Зал был предоставлен молодежи московских театров и студий, пришедшей после революции учиться театральному
Из книги Моя жизнь с отцом Александром автора Шмеман Иулиания СергеевнаСолженицын Когда Александра Солженицына выслали на Запад после выхода в свет его книги «Архипелаг ГУЛАГ», Александр с удивлением получил письмо из Цюриха с приглашением провести вместе с ним несколько дней в горах. Оказалось, что Солженицын много лет слушал передачи
Из книги Анти-Ахматова автора Катаева ТамараСОЛЖЕНИЦЫН Прощенья и любви… Премудрости этих добродетелей якобы научила Ахматова Иосифа Бродского. Сама же Ахматова не простила в жизни никого. Да и как простить Солженицыну - славу, Пастернаку - Нобелевскую премию и Марине Цветаевой - то, что она из «demod?», плохо
Из книги В круге последнем автора Решетовская Наталья Алексеевна«Г?н Солженицын нам надоел» «Советская культура» публикует интервью Сергея Михалкова западногерманскому журналу «Шпигель», обратившемуся к писателю с просьбой ответить на ряд вопросов. Интервью было напечатано в №6 этого журнала от 4 февраля 1974 года. «Шпигель»:
Из книги Знаменитые эмигранты из России автора Рейтман Марк ИсаевичСолженицын «цитирует» В недавно опубликованной книге «Архипелаг Гулаг» ее автор Солженицын, пытаясь придать видимость правдоподобия своим домыслам, ссылается на труды и документы Владимира Ильича Ленина. Некоторые читатели могут не знать досконально истории СССР. На
Из книги Александр Галич: полная биография автора Аронов МихаилСолженицын в рубище 8 января 1973 года газета «Нью-Йорк таймс» опубликовала статью комментатора АПН С. Владимирова «Беден ли Солженицын». Ниже следует текст этой публикации: Нобелевский лауреат без крыши над головой и цента в кармане. Этот жалостливый портрет литератора
Из книги Воспоминания о русской службе автора Кейзерлинг АльфредАлександр Солженицын Солженицын Александр Исаевич (р. 1918), русский писатель. Сохранение человеческой души в условиях тоталитаризма и внутреннее противостояние ему - сквозная тема рассказов «Один день Ивана Денисовича» (1962), «Матрёнин двор» (1963), оба опубликованы А. Т.
Из книги Бальзак без маски автора Сиприо ПьерСолженицын 1Первая заочная встреча Галича и Солженицына имела место в 1967 году после того, как 16 мая Солженицын обратился с «Письмом IV съезду писателей СССР», где призвал обсудить вопрос о политической цензуре и о недопустимости репрессий по отношению к писателям.
Из книги Максимализмы [сборник] автора Армалинский МихаилПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С ТЮРЕМНОЙ СИСТЕМОЙ В начале августа я прибыл в Сретенск, где меня ожидали точные телеграфные инструкции генерал-губернатора и предоставленные им широкие полномочия. Пароходик почтового ведомства уже стоял у причала, готовый немедля доставить меня в
Из книги Чёрная кошка автора Говорухин Станислав Сергеевич«БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ НЕДОСТАТОЧНО, НЕОБХОДИМО БЫТЬ СИСТЕМОЙ» В 1814 году Бернару-Франсуа исполнилось 68. Начиная с 1807 года он публиковал записки, ставящие перед собой благородные цели, эдакие труды эдила, который, следуя лучшим традициям эпохи Просвещения и беря за основу успехи
Из книги Сталинский социализм. Практическое исследование автора Хессе КлаусМой Солженицын Он умер идеально – во сне.Солженицыну я во многом обязан своей судьбой – убёгом в США.Когда на Западе был издан Архипелаг, и в газетах да журналах стали печататься возмущённые вопли советских людей, я стал делать вырезки и набрал таких целую папку.
Из книги автораАлександр Солженицын Декабрь 1992 года, Нью-Йорк. Я только что вернулся с Аляски (снимал там кино), чуть простудился. Лежу, прихожу в себя в прокуренном номере отеля. Отель расположен в самом поганом месте Нью-Йорка, на углу 42 улицы и Бродвея - секс-шопы, нищие,
Из книги автораГлава 3. Внутрипартийные разногласия, классовая борьба и борьба за власть После краха военной интервенции и блокады инициаторы прямого военного вмешательства в дела Советского Союза, казалось, были вынуждены изменить свои дальнейшие шаги. Их представители видели в
И подумала: а ведь я знаю больше, значительно больше. Нашла свой старый материал. К чести моей должна заметить, что писался н при жизни кумира))) Перечитала, улыбнулась, но править не стала. Нам ведь важны только факты, верно?
Моя подружка чу дно печет пирожки. Я больше скажу: она их печет лучше всех в мире. Но - никому в голову не придет на этом основании делать из нее политического эксперта. А теперь скажите мне: чем музыкант Ростропович отличается от моей подружки? Тем - что из него таки сделали эксперта и властителя умов.
Музыкант он - во вторую очередь. Более того: как музыкант, он в России мало кого интересует. Иначе, вчера, в его юбилей, телевидение должно было показать запись его концерта. Но они же не идиоты. Они же понимают, что будет с рейтингами. Оно им надо? Поэтому вчера весь вечер мы слушали разглагольствования Ростроповича «за демократию и текущий политический процесс».
Ростропович вчера был вдруг очень похож на Сахарова. Мягкий дедушко, не от мира сего… И дело даже не в образе двух «уютных мужей-подкаблучников». Так же, как и Ростропович, академик Сахаров был хорошим специалистом в своем деле (у него это была ядерная физика).
Но с чего он взял, что, постигнув законы термодинамики, он теперь с легкостью напишет конституцию? И написал: « Россия должна разделиться на 150 независимых государств». Я ничего не придумываю. Это - сахаровская Конституция, которую освистали взбешенные (тогда еще - народные) депутаты. А демократы рыдали: «Простите нас, Андрей Дмитриевич, за это быдло!»
Право, не понимаю, почему они отказываются взять в свою компанию «государственных деятелей» мою подружку? Может быть, потому, что у кухарки - больше здравого смысла и ответственности?
Но на самом деле проблема не в них. Проблема - в нас. Мы-то куда смотрели?
А сейчас, когда в партийных списках борцы и боксеры - мы, простите, куда смотрим?
Я обожаю Аллу Пугачеву. Но ей надо петь про любовь, а не заседать в Общественной палате. Она давно живет в другом, вымороченном мире. Ее изумление («Я читаю письма и прихожу в ужас!») - мило, трогательно. Но любая доярка на ее месте была бы полезнее. У доярки - знание жизни, опыт и ответственность за детей, за землю… Она не гражданин мира. Ей жить на этой земле.
На самом деле, это отработанная технология, на которую мы попались тогда. И продолжаем наступать на те же грабли сейчас. Когда вместо авторитетов нам подсовывают кумиров.
Но ведь 15 лет уже прошло. Мы видим результат. А они, наши кумиры, они - видят?
Я ведь не зря упорно говорю об ответственности. Лучистое благодушие Ростроповича вчера изумляло. Ему бы на колени бухнуться - мол, простите меня, люди добрые… Или гениально, так, как может только он, смахнуть смычком слезы у плачущей виолончели.
Но - нет. Нам, как заезженная пластинка, пели то, что записано уже в энциклопедиях.
« Во время советского режима Галина Вишневская активно противостояла власти. Вместе с мужем, великим виолончелистом и дирижером Мстиславом Ростроповичем, оказывала неоценимую поддержку выдающемуся русскому писателю и правозащитнику Александру Солженицыну, и это стало одной из причин постоянного внимания и давления со стороны спецслужб СССР. В 1974 году Галина Вишневская и Мстислав Ростропович покинули Советский Союз и в 1978 году были лишены гражданства» wikipedia.
Да неужели? Активно противостояли власти? Да будет вам… Был, правда, небольшой скандалец, когда Ростропович уезжал на очередные гастроли за границу и потребовал, чтобы командировочные заодно выписали и его жене, так как он обладает отменным здоровьем… Власть быстро сдалась и выписала. А в остальном - особенно не противились: ни сам Ростропович, когда ему вручали звания и премии (Народный артист СССР (1966), лауреат Сталинской (1951) и Ленинской (1964) премий СССР), ни Вишневская, которая тоже была Народной артисткой и кавалером Ордена Ленина (1971г)
« Гнездо свое Ростроповичи устраивали с размахом и вкусом. Слава в концертных поездках выискивал диковинную старинную мебель. Галина заботилась об уюте. Дом был открытым, с шампанским после концертов, с дружеским застольем. С.Хентова. «Ростропович»
Самое забавное, что теперь их эмиграция подается чуть ли не как принудительная высылка из страны. Они, вроде как, не хотели. И страдали.
А ведь все было немножко не так. Вернее - совсем не так. Они сбежали.
29 марта 1974 года, спустя два дня после того, как семья отметила сорокасемилетие Ростроповича, он, по настоянию Вишневской, отправил через П.Демичева письмо Л.Брежневу с просьбой о командировке за рубеж на два года.
Ростропович и Вишневская официально значились в зарубежной творческой командировке сроком на два года, имели советские паспорта... С.Хентова. Ростропович
Согласитесь, тем, кого прессуют спецслужбы, командировочные на два года не выдают, и за границу с легкостью не отпускают. Я бы еще добавила - с доверием. Просто обратите внимание на дату: 4 года страна их ждала и не лишала гражданства. Кстати, для лишения гражданства, видимо, был серьезный повод.
Что же касается Александра Исааковича Солженицына…
«- Но, к примеру, Ростропович уезжал не по своей воле...
- Слава не глупее нас с вами, поверьте. Он всегда знал, что делает. И пуская в дом «литературного власовца» Солженицына, должен был предвидеть последствия.
А если бы к вам в той ситуации обратился Александр Исаевич, приютили бы гонимого?
Не обратился бы. Кем я был для Солженицына? А перед вынужденной эмиграцией у меня на даче полгода жил Гавриил Гликман, талантливейший опальный питерский художник. Я никогда не использовал этот факт, чтобы заработать лишние очки. Из меня - никакой пиарщик.» (Лауреат Госпремии России пианист Николай Петров, КП)
Петров сильный и умный человек. Назвать «литературным власовцем» Солженицына - для этого нужно мужество. Даже сейчас, когда стали общеизвестны весьма любопытные подробности об этом «совписе».
Николай Николаевич Яковлев, написавший блестящие работы о деятельности ЦРУ, цитирует американского сотрудника Д. Бима:
"Первые варианты рукописей Солженицына были объемистой многоречивой сырой массой, которою нужно было организовывать в понятное целое, их нужно было редактировать. Вскоре я нашел десяток талантливых редакторов и засадил их за основательную чистку текста. Получилась книга "Архипелаг ГУЛАГ", которая помогла сокрушить диктатуру пролетариата в СССР".
Но Господь с ним, с ЦРУ. Не знаю, кого они там нанимали, но цифры ужасающе перевраны, а язык Солженицына, как был, так и остался - ниже всякой критики. Не в этом дело. Не знаю, как вы, а я, как гражданин моей страны, никогда не прощу Александру Исааковичу речи, которую он произнес в США 30 июля 1975 года:
« Я друг Америки… США давно проявили себя, как самая честная и самая великодушная страна в мире… Ход истории сам привел вас - сделал мировыми руководителями… Пожалуйста, побольше вмешивайтесь в наши дела».
А в «Письме Вождям» Солженицын называет США «могучим победителем Второй мировой войны» и «кормильцем человечества». А еще он предлагает России добровольно «отказаться от технического прогресса».
Еще один кумир. Особенно - для любителей изучать историю по комиксам.
Я думаю… Ждала ли я вчера от него покаяния? Нет. Зачем требовать раскаяния от того, кого пока не в силах простить? Разве, когда Ельцин сказал «простите меня» - мы его простили?
Я просто хочу, чтобы из этих юбилеев перестали устраивать государственные праздники.
Слишком много вчера было Ростроповича…
СЛАВА, это Тополь. Мы попали в грозу и не успеваем...
А где ты?
Во Французских Альпах. Тут такой ливень - дороги не видно!
И когда ты приедешь?
Ну, нам еще двести километров, под дождем.
А я ушел из гостей. И там не пил, чтоб с тобой... - в голосе Ростроповича было по-детски искреннее огорчение.
Я понимаю, Слава. Извини. Зато я первый поздравлю тебя с днем рождения - мы будем утром.
Утром я не смогу и рюмки, у меня в десять репетиция.
Будем пить чай. В девять, о"кей?
Нет, приходи в восемь, хоть потрепемся. Какая жалость!..
Я выключил мобильный телефон и покосился на Стефановича. Он вел машину, подавшись вперед - то ли потому, что "дворники" не успевали справляться с потоками воды и даже мощные фары "БМВ" не пробивали этот ливень дальше метра, то ли еще не остыв от недавнего покушения, когда нас чуть не расплющили двумя "фурами".
Это ужасно, - сказал я. - Слава там без Галины Павловны. И представляешь - из-за нас просидит весь вечер в одиночестве. Накануне своего дня рождения! По моей вине!
Саша не ответил. Иссекаемая ливнем дорога, виляя, подло выскакивала то слева, то справа столбиками боковых ограждений буквально в метре от переднего бампера. Я то и дело рефлекторно жал правой ногой на воображаемый тормоз. Дорожный щит сообщил, что до Турина пятьдесят километров, а до Милана - сто девяносто.
К часу ночи будем в Милане...
Дай Бог - в два, - уточнил Саша. - А как ты подружился с Ростроповичем?
Это не любовная история, Саша.
Ничего. Сегодня у нас ночь истины.
"Дешевый провокатор"
ТЫ ПРАВ. Ладно. Этого никто не знает, а если меня все-таки грохнут, то пусть это останется хоть в твоей памяти. Ты помнишь мое письмо Березовскому и другим евреям-олигархам в "Аргументах и фактах"? Оно было напечатано 15 сентября прошлого года, за день до самого главного еврейского праздника - Судного дня. По закону наших предков, принятому ими у горы Синай, в эти Дни Трепета каждый еврей обязан накормить голодного и одеть нищего. Обязан, понимаешь? И я написал своим братьям по крови, что миллиарды долларов, которые они обрели в России, не упали на них за какие-то особые их таланты - никто из них не Билл Гейтс и даже не Тед Тернер. Они сделали эти деньги в России - не мое дело на чем, но в святой для евреев день они могут и должны помочь этой нищей стране - ведь как раз накануне, 17 августа, Россия ухнула в катастрофу кризиса и, по русской традиции, винить в этом будут евреев. Ты же знаешь, в России всегда и во всех бедах винят кого-то - татар, литовцев, евреев, американцев. Только не себя. Так и тут - падение в экономический кризис чревато, писал я, вспышкой антисемитизма. Помогите нищим, накормите голодных, это ваш долг перед своим народом - вот, по сути, и все, что я сказал. Разве не могли они сделать, как Ян Курень в Польше десять лет назад, - взять у армии полевые кухни и кормить на улицах голодных людей? Разве трудно создать национальную программу поддержки школьных учителей? Или одеть детей в детских домах и приютах? Но, Господи, что тут началось! Ты не можешь себе представить, сколько собак - и каких! - на меня спустили! И не столько в России, сколько в русскоязычной прессе Израиля и Америки! Меня назвали провокатором погромов, наемником фашистов, наследником Гитлера, духовным отцом Макашова. В течение месяцев мое имя не сходило со страниц газет. "Позор Тополю!", "Политический дикарь", "От погромщиков не откупиться", "Тополь и его последователи играют со спичками", "Боже, спаси Россию от Тополя!", "Тополя нужно повесить, а его книги сжечь!"... Сестра позвонила из Израиля и сказала, что боится за мою жизнь. Тетя из Бруклина сообщила, что плачет пятый день, потому что по местному радио и телевидению меня день и ночь проклинают ведущие публицисты. От Брайтона до Тель-Авива эмигрантские газеты печатали развороты с коллективными письмами читателей, которые объясняли публике, какой я мерзавец и сколько добра евреи сделали России. В Москве делегаты Еврейского конгресса дружно клеймили меня позором. Иосиф Кобзон по "горячей линии" "Комсомольской правды" объяснил читателям, что я "дешевый провокатор"...
Конечно, я понимал, что это издержки корпоративного страха моего народа и его экстремизма, ведь я и сам экстремист. Именно такие экстремисты от страха даже распяли когда-то одного еврея. Но что из этого вышло? Чем это обернулось для евреев? И вообще, винить меня в новой вспышке антисемитизма - все равно что шить провокацию плохой погоды матросу, кричащему с мачты о приближении шторма.
Короче, это было похлеще грозы, которую мы проехали. Я перестал выписывать русские газеты, не слушал русское радио. Но когда на тебя обрушивается такой поток грязи - да еще сразу с трех континентов! - трудно сохранять рабочую форму. Даже если считаешь, что это полезно для творчества, что я на своей шкуре испытываю то, что пришлось испытать Пастернаку, когда вся советская пресса печатала коллективные письма: "Мы Пастернака не читали, но считаем, что ему не место в Советском Союзе!.." Я не сравниваю себя с гением, да и поводы были разные, но ощущения от плевков и битья камнями - близкие. В будущем, думал я, это пригодится для романа о каком-нибудь изгое общества...
"Включите факс"
И ВОТ теперь представь, что этому изгою, "подонку", "предателю" и "провокатору", заплеванному всей эмигрантской прессой от Израиля до Австралии, вдруг звонят из Москвы, из "АиФ", и говорят:
Пожалуйста, включите факс-машину, сейчас вам из Парижа по факсу пришлет письмо Мстислав Ростропович.
И действительно, через пятнадцать минут из факс-машины поползла бумажная лента, а на ней - летящие рукописные строки великого музыканта нашего века.
Старик, я не опубликовал это письмо, потому что оно личное. Но тебе я могу пересказать его. В нем было сказано: дорогой господин Тополь, дорогой Эдуард, дорогой друг! Сегодня я прилетел из Тель-Авива, где играл концерт, и моя жена Галина дала мне "АиФ" с вашим открытым письмом и велела прочесть. Но было много дел, я прочел его только в два часа ночи, когда лег в постель. И - расплакался, как ребенок. И, понимая, что уже не усну, уселся писать вам. Я стараюсь не говорить о том, что мы с Галей делаем в области благотворительности, потому что мы это делаем для себя, для ощущения своего присутствия и сопричастия в той драме, а может, и трагедии, которая происходит сейчас в России...
Так он писал. Но тебе, Саша, я могу назвать это "сопричастие" - Галина Павловна Вишневская помогает продуктами, одеждой и мебелью детскому дому в Кронштадте, Ростропович после премьеры "Хованщины" в Большом театре оставил свой гонорар в банке, и на эти деньги уже три года живут двадцать два музыканта оркестра Большого театра. А все 250 тысяч долларов его премии "Глория" идут на выплату стипендий двадцати трем студентам Московской консерватории. И еще они регулярно отправляют тонны - тонны, старик! - продуктов в различные детские дома и больницы и туда же - медикаменты на миллионы долларов...
Саша, пойми, он не хвалился этим, он написал, что они с Галей просто хотят чувствовать себя людьми среди тех соотечественников, которые находятся в тяжелейшем положении.
Но ведь и я написал свое письмо, вступаясь за свой народ, и ради того, чтобы мои баснословно богатые братья по крови стали людьми среди людей. Я не мог не крикнуть им об этом. Разве они бедней Ростроповича? Тем более что это мое письмо совсем к нему не относилось, так как он и не олигарх, и не еврей.
А Ростропович в конце письма написал мне, что он потрясен моей смелостью. Но признаюсь тебе, Саша, это была ни смелость, ни глупость, ни, тем более, какая-то рассчитанная акция. Это статья была написана просто по вдохновению - ее буквально вдохнули в меня среди ночи. Я, как под диктовку, написал ее на одном дыхании и без всякой правки отнес в редакцию. Думая по наивности, что вслед за мной с таким же призывом к олигархам русской национальности обратятся мои братья-славяне Слава Говорухин или Олег Табаков. Этого не случилось - к моему полному изумлению, - зато теперь я стоял посреди вселенской хулы над своей факс-машиной и читал последние строки письма Ростроповича. Там было написано его рукой и его летящим почерком: "Об одном очень вас прошу: если где-нибудь когда-нибудь будут у вас неприятности в связи с этой публикацией - дайте мне знать. А если когда-нибудь при моей жизни будет вблизи вас погром, я сочту за свой долг и за честь для себя встать впереди вас. Обнимаю вас с благодарностью и восхищением, всегда ваш Ростропович, а для вас - просто Слава..."
Саша, я получил это письмо 5 октября - за три дня до своего дня рождения. И это поздравление стоило всех поздравлений! Скажу тебе, как на духу, ведь сейчас у нас Ночь Истины - если бы мне сказали сегодня: не пиши своего письма олигархам, не подставляйся под этот огнемет проклятий - я бы все равно написал. И потому, что не мог не писать, и еще потому, что без той публикации не получил бы письма Ростроповича. Дело не в том, что это, конечно, ужасно лестное, просто замечательное письмо великого музыканта и не менее великой личности - человека, который вопреки всей мощи советской империи дал в свое время кров и пристанище великому изгою этой власти Александру Солженицыну. Нет, дело не в этом. А в том, что именно это письмо делает меня Евреем. Понимаешь, о чем я? Да, я еврей и горжусь этим, и пишу об этом в своих книгах с гордостью и даже с хвастовством. И когда я восхваляю в этих книгах наш ум и половую мощь, ни одна еврейская газета не оспаривает меня, хотя среди евреев полно и дураков, и импотентов. Зато стоило мне призвать своих богатых собратьев по крови к благотворительности, как меня прокляли, предали анафеме, назвали юдофобом и антисемитом. Но я думаю, что не им судить. Даже если они все в ногу, а я - не в их ногу, я еврей не по их суду и не тогда, когда хожу в синагогу. А тогда, когда меня, как еврея, уважают и ценят лучшие люди других народов, и особенно того народа, среди которого мы родились. Потому что еврей - это звание, которое еще нужно оправдать. И если сам Мстислав Ростропович готов защитить меня от погрома, то я - настоящий еврей, истинный! Да будет это, кстати, известно тебе - наполовину русскому, на четверть украинцу и на четверть поляку.
Я это учту, старик... - усмехнулся Саша. - А у этой истории есть продолжение? Ты ответил на это письмо?
На концерте
ПРОДОЛЖЕНИЕ этой истории случилось в Москве, в декабре прошлого года, в день рождения Александра Солженицына. В честь его юбилея Ростропович прилетел в Москву и давал концерт в актовом зале Московской консерватории. Я в те дни был в Москве по своим литературным делам. И, конечно, приехал в консерваторию. Но, если ты помнишь, в тот день был ужасный снегопад, и я больше часа ехал машиной от Шмитовского проезда до консерватории и опоздал аж на сорок минут! Оправданием мне может служить только то, что из-за этого снегопада опоздал не я один, а даже жена юбиляра! И все первое отделение Александр Исаевич просидел один, рядом с пустым креслом жены. И с лицом, окаменевшим от обиды, - ведь он никуда и никогда не ходит без нее. А тут - на концерте в его честь! под объективами телекамер! на виду у всей московской элиты и самого Ростроповича! - он сидел в одиночестве. Можешь себе представить его лицо?!
Ну а я, опоздав на сорок минут, уже не пошел в администрацию за билетом, а, чтобы не терять времени, по какой-то немыслимой цене купил с рук простой входной и побежал в зал. Но все двери в зал были уже закрыты, их охраняли суровые билетерши. Тогда я нырнул за кулисы, поднялся по лестнице куда-то наверх, в гримерные. И оказался вдруг прямо в том узком коридорчике, который ведет от гримерных на сцену.
Где тут комната Ростроповича? - спросил я у администраторши.
Вас туда не пустят. Но стойте здесь, он сейчас пойдет на сцену.
И действительно, через минуту в глубине коридора возник Ростропович в обнимку со своей виолончелью. Он шел стремительно - навстречу аплодисментам, которые неслись из зала. А он, насупившись, смотрел не вперед и не себе под ноги, а куда-то в себя, внутрь. Словно уже был до макушки наполнен музыкой, которую нельзя расплескать. И свою огромную виолончель тоже нес не как тяжесть или груз, а в обнимку и с той нежной силой, с какой я ношу своего весьма увесистого сына.
Мне бы, конечно, не встревать поперек его пути в эту святую для него минуту! Но я встрял. Я шагнул к нему от стены и сказал:
Мстислав Леопольдович, я...
Он пролетел мимо, даже не поведя зрачком в мою сторону!
Наверное, на моем лице отразилось такое унижение, что администраторша сказала:
Не обижайтесь. Он вас просто не слышал. Вы приходите в антракте.
Я ушел вниз, в буфет, взял коньяк и, медленно цедя его, думал: не уйти ли мне отсюда к чертям собачьим? Зачем я пришел? Я не мальчишка, чтобы стоять у стены. Да, у Ростроповича была сентиментальная минута, когда он читал мое письмо олигархам. Да, как человек эмоциональный, он прослезился и даже написал мне несколько возвышенных строк. Но помнит
ли он об этом? И на фиг я ему нужен? И что, собственно, мне нужно от него? А что, если он уже раскаивается в том, что писал мне? Что, если он будет со мной сух - на бегу, мельком, ведь сегодня юбилей его друга, и какого друга! Так до меня ли ему? Но ведь еще один его жест невнимания, равнодушия - и все это перечеркнет все его письмо! И с чем я останусь? С эпитетами Кобзона?
Но, видимо, коньяк был твоими французами придуман не зря. При его поддержке я дождался антракта и снова поднялся за кулисы, к гримерным. Там была уже просто толпа! Журналисты, фотографы, музыканты, какие-то дамы с цветами, оркестранты во фраках - толчея ужасная! Но я протиснулся к комнате маэстро. Тут, однако, стоял заслон посерьезней - гренадеры-телохранители.
Мстислав Леопольдович меня приглашал...
Даже не думайте! Только после концерта!
Я опоздал из-за снегопада...
Пожалуйста, освободите коридор! - высокий и плечистый парень смотрел на меня сверху вниз такими стальными глазами, что я понял: это либо ФСБ, либо управление по охране президента.
Не меньше.
Вечер звезд
Я ПОВЕРНУЛСЯ и пошел прочь, но тут же увидел спешащую к Ростроповичу Вишневскую. Она царственной походкой шла сквозь расступающуюся толпу.
Галина Павловна, я Эдуард Тополь, здравствуйте.
Ой, здравствуйте! Приходите после концерта на банкет. А сейчас он просто ничего не видит и не слышит, ведь ему играть. Понимаете?
Понимаю, Галина Павловна. Спасибо.
И я пошел по лестнице вниз, пять этажей, пролет за пролетом, и прямиком - в раздевалку. Левая рука уже держала наготове номерок от куртки, а правая ощупывала, сколько в кармане денег на выпивку в каком-нибудь кабаке. Денег было немного, но в "Экипаже" на Спиридоновке меня знают и принимают мою "Визу". А уж емкостей моей "Визы" мне на сегодня хватит...
Чья-то тяжелая рука легла на мое плечо и легко развернула меня на 180.. Я изумленно поднял глаза - тот же молодой сероглазый охранник.
Я вас еле догнал, - сказал он. - Быстрей! Ростропович приказал найти вас и немедленно поднять к нему. Бежим!
Не говоря больше ни слова, он своей клешней подхватил меня за локоть и, как подъемный кран, буквально вознес по крутой закулисной лестнице с первого этажа на пятый, а затем по коридорам - тараном сквозь толпу и прямо в распахнутые другими охранниками двери комнаты Ростроповича.
И я увидел Маэстро.
Посреди просторной и почти пустой комнаты он сидел в золоченом елизаветинском кресле и, держа в ногах виолончель, наклонялся к ее грифу и шептал ей что-то своим мягким смычком.
Так гладят детей и возлюбленных.
Но шум распахнувшейся двери отвлек его, он поднял глаза и вдруг...
Я даже не заметил, куда он, вскочив, подевал свою возлюбленную виолончель.
Дорогой мой! - бросился он ко мне и буквально стиснул в объятиях, шепча прямо в ухо: - Никуда не уходи! Никуда, ты слышишь! После концерта я жду тебя на банкете, мы должны выпить на брудершафт! Ты понял?
Слава, уже третий звонок! - сказала Галина Павловна.
Иду! - ответил он ей и повторил мне в ухо: - Обязательно приходи, обязательно!
Не нужно тебе говорить, Саша, что то был банкет в честь Александра Исаевича Солженицына. И что юбиляру и маэстро подносили адреса и бокалы с частотой как минимум двух раз в минуту. И что десятки каких-то послов, знаменитостей, звезд и друзей произносили тосты и разрывали маэстро, чтобы сфотографироваться с ним и с юбиляром. Но среди этого карнавала амбиций и честолюбий он вдруг подошел ко мне и сказал:
Где твой бокал? Мы должны выпить на брудершафт и перейти на "ты".
Бокал я тут же нашел, вино тоже, мы скрестили руки и под блицы фотографов выпили до дна. Но сказать ему "ты" я не смог, у меня не хватило духу.
Ах так! - возмутился он. - А ты пошли меня на фуй и сразу сможешь!
Идите куда хотите! - произнес я.
Нет! Так не пойдет! Еще бокал! И пошли меня на фуй! Обязательно! - приказал он.
Я, дерзая, послал. Самого Ростроповича. После чего был представлен Солженицыну, его жена Наталья Дмитриевна сказала Александру Исаевичу, который уже собирался идти домой:
Саша, я хочу познакомить тебя. Это Эдуард Тополь...
Как же! - сказал Солженицын без секунды промедления. - Я помню. Семнадцать лет назад я написал вам, что не смогу принять участие в том проекте. Я действительно не мог, извините.
Старик, это меня просто сразило! Семнадцать лет назад я был главным редактором первой русской радиостанции в Нью-Йорке, и мы сделали тогда театр у микрофона - у меня были лучшие актеры-эмигранты, выпускники ГИТИСа и "Щуки". Они классно разыграли перед микрофоном несколько глав из "Ракового корпуса", и я отправил эту запись Солженицыну в Вермонт с предложением заслать, при его согласии и поддержке, сотню таких магнитофонных кассет в СССР, чтобы люди там копировали их самиздатом.
Ты понимаешь, какая это была бы бомба в 1982 году! Книги Солженицына - "Раковый корпус",
"Архипелаг ГУЛАГ", "Ленин в Цюрихе" и все остальное - на кассетах, которые размножались бы под носом КГБ и безостановочно! Миллионы копий! Да советская власть рухнула бы на пару лет раньше!
Через месяц я получил ответ Солженицына. Он написал мне буквально три строки. Мол, в связи с большой загруженностью он не может принять участие в этой акции. Я решил, что он просто не хочет вязаться с нами, эмигрантами, другого объяснения я тогда не смог придумать, поскольку идея была чиста, как слеза. И акция с заброской этих кассет в СССР не состоялась, я позабыл о ней и даже теперь, встретив Солженицына, не вспомнил. А он - вспомнил! Мгновенно! Просто, как суперкомпьютер, вытащил из-подо лба файл с моей фамилией и извинился за свое сухое письмо семнадцатилетней давности...
О жизни титанов
СРАЗУ после банкета Ростропович увез меня в ресторан на ужин, где были только он, Галина Павловна и еще трое их друзей.
И в этом ресторане я вдруг услышал совершенно иного Ростроповича - не только гениального музыканта, но и гениального рассказчика. Ох, Саша! Если бы при мне была кинокамера или хотя бы магнитофон! Слава был в ударе, он много и, не хмелея, пил, я против него просто молокосос в этом вопросе. И он рассказывал байки из своей жизни - но как! Я слышал в узком кругу, в домашних компаниях и Аркадия Райкина, и Леонида Утесова, и Александра Галича, и Володю Высоцкого. Но я не помню, чтобы с таким юмором и артистизмом они рассказывали о себе. Ростропович рассказал о том, как после своего первого концерта в Париже он был зван к Пабло Пикассо, приехал к мэтру с виолончелью и с ящиком водки и к утру, находясь подшофе, подарил тому свой бесценный смычок - не просто подарил, а гвоздем выцарапал на нем "ПАБЛО от СЛАВЫ"! А жена Пикассо в ответ сорвала с себя бриллиантовую диадему на золотой цепи и надела на Ростроповича. За что Пикассо тут же устроил ей скандал, потому что, оказывается, это был первый подарок, который Пикассо сделал ей еще в начале их романа. А Ростропович, проснувшись наутро в цепи и бриллиантовой диадеме, которые ему и на фиг не были нужны, обнаружил, что у него нет смычка и играть ему нечем. Кстати, теперь тот смычок хранится в музее Пикассо на Французской Ривьере, и Ростропович готов отдать за него любые деньги, потому что второго такого смычка нет во всем мире, но директор музея отказывается не только продать смычок, но даже обменять на другой, тоже ростроповичский.
А после ресторана они повели меня к себе домой, где мы сидели на кухне, втроем пили чай, обсуждали всякие благотворительные проекты, а потом Ростропович сказал мне, что сегодня состоялся его последний концерт в России - новые российские "отвязные" критики пишут о нем гадости, и больше он играть здесь не будет.
Как? - сказал я. - Ты же сам только что внушал мне, что нужно быть выше этой хулы и грязи!
Нет, я больше тут не играю.
Но ведь публика не виновата!
Однако он был непреклонен, и я подумал: а так ли верно, что публика не виновата в том, что пишут ее "отвязные" критики, что поют с экранов ее кумиры и что творят ее министры и правители?
Мы расстались в четыре утра, а в девять я снова был у него и, представь себе, застал у него уже человек десять певцов и певиц, которых он прослушивал в связи со своей постановкой оперы в Самаре. И тогда я понял, что значит слово "титан". Солженицын и Ростропович - два последних титана нашего века, это бесспорно. При этом я не знаю, какой титан Солженицын насчет выпивки и застольных баек, но что Ростропович титан в трех лицах - и в музыке, и в риторике, и в застолье - это я видел своими глазами. И потому втройне жаль, что мы не попали сегодня в Милан и не выпили с ним. Ты бы услышал великие байки великого человека!
Городишко Наварра, - перебил Саша. - До Милана полста километров.
Александр Солженицын
Одним из самых известных эмигрантов, вернувшихся в Россию, был русский писатель, драматург, общественный и политический деятель Александр Солженицын. После его знаменитого «Письма съезду» Союза писателей советская власть стала воспринимать писателя как врага. В 1968 году в США и Европе без разрешения автора были опубликованы романы «В круге первом» и «Раковый корпус», принесшие ему популярность. Но этот факт привел к развертыванию пропагандистской кампании против автора, вскоре Солженицына исключили из Союза писателей СССР.
С конца 60-х для разработки Солженицына в КБГ была создано отдельное подразделение. В 1970-м он был номинирован на Нобелевскую премию, после чего антисолженицынская пропаганда только усилилась. 7 января 1974 года на заседании Политбюро обсуждались выход «Архипелага ГУЛАГа» и «пресечения антисоветской деятельности» Солженицына. 12 февраля писатель был арестован и обвинен в измене Родине. 13-го его выслали из СССР и на самолете доставили в ФРГ. 29 марта страну покинула и его семья. Вскоре после высылки Солженицын решил временно поселиться в Цюрихе.
С приходом перестройки отношение власти к писателю и его творчеству поменялось. Были опубликованы некоторые его произведения, в 1989 году в журнале «Новый мир» напечатали отдельные главы «Архипелага ГУЛАГа». В следующем году Солженицын был восстановлен в советском гражданстве, а уголовное дело в отношении него было прекращено. В декабре он был удостоен Госпремии РСФСР за «Архипелаг ГУЛАГ». Личным распоряжением Бориса Ельцина в марте 1993 года писателю была подарена на правах пожизненного наследуемого владения госдача «Сосновка-2» в Троице-Лыкове. 27 мая 1994 года Александр Солженицын вернулся на родину, прилетев из США в Магадан. После из Владивостока он проехал на поезде через всю страну и закончил свой путь в Москве. В беседе с журналистами Солженицын сказал: «Все эти годы в разлуке с Родиной я внимательно следил за повседневной жизнью России, однако то был взгляд со стороны. <…>Я хочу быть лишь добрым советчиком россиянам, и постараюсь не ошибиться самому, уйти от общих рассуждений, но прийти к конкретному делу. Я хочу принести своей Родине наибольшую пользу».
Галина Вишневская и Мстислав Ростропович
В 1969 году, после начавшейся травли Солженицына, советский виолончелист, пианист и дирижер Мстислав Ростропович и его семья всячески поддерживали писателя. Он разрешил Солженицыну жить на своей даче под Москвой и написал открытое письмо Брежневу в его защиту. Меры последовали незамедлительно — отменялись концерты и туры, остановились записи. В 1974 году Ростропович и его супруга, известная оперная певица Галина Вишневская, получили выездную визу и вместе с детьми выехали за границу на длительный срок. Это было оформлено как командировка от Минкультуры СССР. В 1978 году их лишили советского гражданства, званий и наград.
Вот как об этом вспоминал сам Ростропович: «В 1974 году нас изгнали из Советского Союза на два года как бы в командировку. В 1978 году вместе с моей женой Галиной Павловной Вишневской мы продлевали паспорта. Но никакого ответа не было. 15 марта семьдесят восьмого года вдруг (мы находились в Париже) Галина кричит мне: «Славка, беги скорей сюда, к телевизору…» Я подбежал и увидел наши фотографии на экране. В этот день парламент Советского Союза утвердил постановление о лишении гражданства за антисоветскую деятельность Вишневскую и Ростроповича».
После этого они купили квартиру в Париже, а вскоре уехали в Америку, где Ростропович стал главным дирижером Национального симфонического оркестра США. Ростроповичу и Вишневской вернули гражданство СССР в 1990 году. Однако, они отказались от гражданства, заявив, что не просили его у себя ни отбирать, ни возвращать. До конца своих дней Галина Вишневская прожила со швейцарским паспортом, а Мстислав Ростропович считал себя «гражданином мира». В августе 1991 года во время путча ГКЧП Ростропович специально прилетел в Москву и присоединился к защитникам российского Белого дома.
Однако окончательно Вишневская и Ростропович вернулись в Россию только в 2002 году.
Василий Аксенов
Писатель Василий Аксенов еще в 1963 году вместе с поэтом Андреем Вознесенским подвергся критике со стороны Хрущева на встрече с интеллигенцией в Кремле. А в 1966 был арестован за попытку демонстрации на Красной площади против реабилитации Сталинизма. В 70-е произведения Аксенова перестают публиковаться на родине. Критика в адрес писателя становилась все более резкой, его и его деятельность называли «несоветской» и «ненародной». В 1977-м произведения Аксенова стали появляться за рубежом, прежде всего в Америке. В 1978 году писатель принял участие в создании так и не вышедшего в СССР альманаха «Метрополь» совместно с Битовым, Ерофеевым, Ахмадуллиной, Поповым и Искандером. Позднее альманах, как и большинство произведений, не прошедших цензуру, был издан в США. Все его участники подверглись проработкам. В 1979 году Попова и Ерофеева исключили из Союза писателей, Аксенов последовал за ними в знак протеста.

В 1980-м Аксенов по приглашению уехал в США, после чего его сразу же лишили гражданства. До 2004 года он жил в США. В Америке Аксенов преподавал русскую литературу в различных университетах. Работал в качестве журналиста на «Голосе Америки» и «Радио Свобода», писал для журнала «Континент» и альманаха «Глагол». В США впервые были опубликованы написанные еще в России романы Аксенова: «Золотая наша Железка» (1973, 1980), «Ожог» (1976, 1980), «Остров Крым» (1979, 1981), сборник рассказов «Право на остров» (1981). Впервые после долгих лет эмиграции писатель посетил СССР в 1989 году по приглашению американского посла Дж. Мэтлока. А в 1990 году Аксенову, как и многим известным эмигрантам, было возвращено советское гражданство. Однако окончательно на родину Аксенов так и не вернулся. Он продолжал жить во Франции и в Москве.
Людмила Алексеева

Знаменитая правозащитница и общественный деятель Людмила Алексеева начала свое участие в правозащитном движении еще в середине 1960-х годов. Ее квартира была местом хранения и распространения самиздата. В 1968 году за участие в правозащитном движении Алексееву исключили из КПСС и уволили с работы. А в 1974 году она получила предупреждение КГБ о прекращении «антисоветской деятельности» и возможном аресте. В 1976 году она стала одним из учредителей и членом новой правозащитной организации — Московской Хельсинской группы. Под угрозой ареста в 1977 году Алексеева была вынуждена выехать из СССР и поселилась в США. В эмиграции она продолжила свою правозащитную деятельность, оставаясь зарубежным представителем МХГ. Она вела передачи о правах человека на радиостанциях «Свобода» и «Голос Америки», печаталась в эмигрантской периодике, консультировала правозащитные организации. Во второй половине 80-х Алексеева участвовала в работе конференции ОБСЕ в составе делегации США. Американское гражданство правозащитница получила в 1982 году.
В 1993 году Людмила Алексеева вернулась в Россию, а в 1996 году была избрана председателем МХГ. На родине она продолжила свою активную деятельность. В 2009-м Алексеева была одним из организаторов акций «Стратегии-31» — регулярные выступления на Триумфальной площади в Москве в защиту 31-й статьи Конституции о свободе собраний. Однако в конце 2010 года из-за разногласий с Эдуардом Лимоновым она вышла из организации. В 2007-м году Людмила Алексеева пророчила России демократическое будущее: «Я верю, что мы тоже сумеем обуздать нашу бюрократию. Не знаю, доживу ли я до этого, но я желаю вам: в 2017 году — легко запомнить! — вспомните о предсказании бабушки Люды. В 2017 году мы уже будем демократическим и правовым государством».
Ты - жизнь, назначенная к бою,
Ты - сердце, жаждущее бурь.
Федор Тютчев
И смертный приговор талантам возгремел.
Гонения терпеть ужель и мой удел?
Александр Пушкин
Много воды утекло с тех пор, минуло более тридцати пяти лет. Но и сегодня это письмо и его автор выглядят провозвестниками нового демократического мышления России, которое и в наши дни - лишь на путях к становлению. Перед нами свидетельство поразительного мужества великого музыканта, вставшего на защиту гонимого писателя. Перед нами Мстислав Ростропович в момент решающего выбора, который он сделал, заняв позицию борца-гражданина, поставив на карту свою личную судьбу. С исторической дистанции это инакомыслие Ростроповича видится нам не вызывающей бравадой баловня судьбы, но страстным восстанием патриотической совести подвижника - русского интеллигента.
Представители нового поколения, которые, возможно, впервые прочтут «крамольное» письмо Ростроповича, должны знать, в какой исторической обстановке оно писалось, в каком положении оказалась духовная культура и ее корифеи на рубеже 1960-1970 -х годов.
Момент возникновения настоящего письма, можно сказать, хронологически точно отделяет одну эпоху от другой, и автор его, быть может, как никто, почувствовал этот исторический перелом. Кончилась блаженная передышка, данная хрущевской «оттепелью» вдохновенному поколению «шестидесятников». И на пути поэтов, писателей, актеров, режиссеров, художников, музыкантов уже вырастали угрюмые бастионы самодовольной брежневской политической конъюнктуры с ее надежными рычагами унификации и кастрации культуры и искусства. Безвозвратно уходили времена, когда можно было печатать и даже выдвигать на Ленинскую премию «Один день Ивана Денисовича» Александра Солженицына, или ставить на Таганке «Дом на набережной» (по роману Юрия Трифонова), или сочинять Тринадцатую симфонию Дмитрия Шостаковича на стихи «Бабьего Яра» Евгения Евтушенко… Вплотную надвинулась ситуация, когда многие мужественные и принципиальные художники оказались в положении диссидентов, людей непрестанно унижаемых, гонимых, выталкиваемых за пределы родной страны. В их числе к 1970 году оказался и Александр Солженицын, чье восхождение к литературной славе стало крупнейшим общественно-политическим событием эпохи XX съезда КПСС и низвержения сталинизма.
Теперь все переменилось. Эпоха завершалась, мрачно бросая на жертвенник истории своих недавних героев. Рассыпана верстка «Ракового корпуса» Солженицына, и задвинут на дальнюю полку Госфильмофонда «Андрей Рублев» Тарковского, и свинцовое молчание прессы окружает премьеру Четырнадцатой симфонии Шостаковича… Месть Системы за посмертное изобличение ее творца становилась все более оголтелой и беспощадной. Но многие ли решались на открытый протест?
Ростропович написал «Открытое письмо» на имя редакторов четырех центральных советских газет. С точки зрения тех, кто жил и привык жить в тисках страха и ущемлений, этот поступок мог показаться чистейшим безумием. Да и безрассудством тоже. Ведь знаменитый виолончелист буквально купался в лучах славы, преуспеяния, всенародной любви и признания. Его имя упоминалось рядом с такими колоссами советской исполнительской школы, как Давид Ойстрах и Святослав Рихтер. Целая когорта музыкальных сочинителей создавала в его честь и под его непосредственным обаянием новые произведения для виолончели. Он был любимцем и вдохновителем трех величайших композиторов XX века - Прокофьева, Шостаковича, Бриттена, сочинивших для него свои лучшие виолончельные концерты.
Все давалось, все шло ему в руки. Все, к чему ни прикасался в музыке, в педагогике, в организационной деятельности кипучий темперамент Ростроповича, становилось уникальным явлением. Его московская виолончельная школа. Его виолончельные конкурсы в рамках Международного конкурса имени Чайковского. Его клубы виолончелистов. Его разнообразные ансамбли, где он - то у рояля, то вновь с виолончелью. Его блестящие спектакли в Большом театре… Спрашивается, чего не хватало этому любимцу муз и фортуны, живущему в центре Москвы, в потрясающей квартире, женатому на первой красавице и неповторимой певице - Примадонне Большого театра Галине Вишневской, имеющему обширные международные контакты и постоянные гастроли за рубежом, пользующемуся непререкаемым авторитетом в профессиональной среде соотечественников-музыкантов? Так чего же не хватало?
Ему, счастливцу Ростроповичу, не хватало кислорода. Не мог он равнодушно смотреть, как самые одаренные, сильные и честные - за стойкость свою - расплачиваются попранным достоинством, несвободой и нищетой. Солженицын жил в те годы со своей семьей на 1 рубль в день. Об этом рассказывали мне Галина Вишневская и Мстислав Ростропович, сокрушаясь, что этот человек отказывается принимать их материальную помощь. Однако он принял как дар судьбы их гостеприимный кров. В разгар кампании, развернутой властями вокруг имени и произведений писателя, в острейший момент его бездомного скитальчества, возможность жить на даче Ростроповича была уже спасением.
Я хорошо помню то время, то ощущение неудержимо растущего напряжения, когда вся Москва вдруг заговорила о том, что на даче у Ростроповича живет «изгнанник» Солженицын. Тучи собирались над головой лучезарного Маэстро…
И вот однажды, как бы невзначай, Ростропович вдруг сунул мне две тоненькие странички машинописного текста на папиросной бумаге и сказал тихим голосом заговорщика:
Прочти. Я это отослал. Сохрани на всякий случай.
Думаю, он «подарил» это письмо не мне одной. Храню этот бесценный документ по сию пору. Вот текст. Воспроизвожу его без всяких сокращений:
Открытое письмо главным редакторам газет «Правда», «Известия», «Литературная газета», «СоветскаЯ культура»
Уважаемый тов. редактор!
Уже не стало секретом, что А. И. Солженицын большую часть времени живет в моем доме под Москвой. На моих глазах произошло и его исключение из СП - в то самое время, когда он усиленно работал над романом о 1914 годе, и вот теперь награждение его Нобелевской премией и газетная кампания по этому поводу. Это последнее и заставляет меня взяться за письмо к Вам.
На моей памяти уже третий советский писатель получает Нобелевскую премию, причем, в двух случаях из трех, мы рассматриваем присуждение премии как грязную политическую игру, а в одном (Шолохов) - как справедливое признание ведущего мирового значения нашей литературы. Если бы в свое время Шолохов отказался принять премию из рук, присудивших ее Пастернаку «из соображений холодной войны», - я бы понял, что и дальше мы не доверяем объективности и честности шведских академиков. А теперь получается так, что мы избирательно то с благодарностью принимаем Нобелевскую премию по литературе, то бранимся. А что, если в следующий раз премию присудят т. Кочетову? Ведь нужно будет взять?!
Почему через день после присуждения премии Солженицыну в наших газетах появляется странное сообщение о беседе корреспондента ИКС с представителем секретариата СП ИКС о том, что ВСЯ общественность страны (т.е., очевидно, и все ученые, и все музыканты и т. д.) активно поддержала его исключение из Союза писателей? Почему «Литературная газета» тенденциозно подбирает из множества западных газет лишь высказывания американской и шведской коммунистических газет, обходя такие несравненно более популярные и значительные коммунистические газеты, как «Юманите», «Леттр Франсэз», «Унита», не говоря уже о множестве некоммунистических? Если мы верим некоему критику Боноски, то как быть с мнением таких крупных писателей, как Белль, Арагон и Ф. Мориак?
Я помню и хотел бы напомнить Вам наши газеты 1948 года - сколько вздора писалось там по поводу признанных теперь гигантов нашей музыки С.С.Прокофьева и Д.Д.Шостаковича. Например: «Тт. Шостакович, С.Прокофьев, Н.Мясковский и др.! Ваша атональная дисгармоничная музыка органически чужда народу… Формалистическое трюкачество возникает тогда, когда налицо имеется немного таланта, но очень много претензий на новаторство… Мы совсем не воспринимаем музыки Шостаковича, Мясковского, Прокофьева. Нет в ней лада, порядка, нет широкой напевности, мелодии». Сейчас, когда посмотришь на газеты тех лет, становится за многое нестерпимо стыдно. За то, что три десятка лет не звучала опера «Катерина Измайлова», что С.С. Прокофьев при жизни так и не услышал последнего варианта своей оперы «Война и мир» и Симфонии-концерта для виолончели с оркестром; что существовали официальные списки запретных произведений Шостаковича, Прокофьева, Мясковского, Хачатуряна.
Неужели прожитое время не научило нас осторожно относиться к сокрушению талантливых людей? не говорить от имени всего народа? не заставлять людей высказываться о том, чего они попросту не читали и не слышали? Я с гордостью вспоминаю, что не пришел на собрание деятелей культуры в ЦДРИ, где поносили Б. Пастернака и намечалось мое выступление, где мне поручили критиковать «Доктор Живаго», в то время мной еще не читанный.
В 1948 году были списки запрещенных произведений. Сейчас предпочитают устные запреты, ссылаясь, что «есть мнение», что это не рекомендуется. Где и у кого есть мнение - установить нельзя. Почему, например, Г.Вишневской запретили исполнить в ее концерте в Москве блестящий вокальный цикл Бориса Чайковского на слова И. Бродского? Почему несколько раз препятствовали исполнению цикла Шостаковича на слова Саши Черного (хотя тексты у нас были изданы)? Почему странные трудности сопровождали исполнение XIII и XIV симфоний Шостаковича? Опять, видимо, «было мнение»?..
У кого возникло «мнение», что Солженицына надо выгнать из Союза писателей, мне выяснить не удалось, хотя я этим очень интересовался. Вряд ли пять рязанских писателей-мушкетеров отважились сделать это сами без таинственного МНЕНИЯ. Видимо, МНЕНИЕ помешало моим соотечественникам узнать проданный нами за границу фильм Тарковского «Андрей Рублев», который мне посчастливилось видеть среди восторженных парижан. Очевидно, МНЕНИЕ же помешало выпустить в свет и «Раковый корпус» Солженицына, который уже был набран в «Новом мире». Вот когда б его напечатали у нас, - тогда б его открыто и широко обсудили на пользу автору и читателям.
Я не касаюсь ни политических, ни экономических вопросов нашей страны. Есть люди, которые разбираются в этом лучше меня, но объясните мне, пожалуйста, почему именно в нашей литературе и искусстве так часто решающее слово принадлежит людям, абсолютно некомпетентным в этом? Почему дается им право дискредитировать наше искусство или литературу в глазах нашего народа?!
Я ворошу старое не для того, чтобы брюзжать, а чтобы не пришлось в будущем, скажем, еще через 20 лет, стыдливо припрятывать сегодняшние газеты.
Каждый человек должен иметь право безбоязненно самостоятельно мыслить и высказываться о том, что ему известно, лично продумано, пережито, а не только слабо варьировать заложенное в него МНЕНИЕ. К свободному обсуждению без подсказок и одергиваний мы обязательно придем!
Я знаю, что после моего письма непременно появится МНЕНИЕ и обо мне, но не боюсь его и откровенно высказываю то, что думаю. Таланты, которые составят нашу гордость, не должны подвергаться предварительному избиению. Я знаю многие произведения Солженицына, люблю их, считаю, что он выстрадал право писать правду, как ее видит, и не вижу причин скрывать свое отношение к нему, когда против него развернута кампания.
Мстислав Ростропович
Вот такой славный урок демократии преподал брежневскому правительству Мстислав Леопольдович Ростропович, народный артист СССР, лауреат Ленинской и многих международных премий и наград, 43-летний профессор и завкафедрой Московской консерватории, дирижер Большого театра.
Но урок не пошел впрок! Как и предполагал и писал Мстислав Леопольдович, вскоре началась травля и дискредитация его самого. Исчезли афиши его концертов. Исчезло имя его со страниц прессы. Были заблокированы его плановые гастроли. Дьявольская машина «отторжения» и осуждения семьи прекрасных музыкантов была запущена на полный ход. И не остановилась даже после того, как Александр Солженицын в 1974 г. был вопреки его желанию выдворен из страны на Запад. Дело было уже не в Солженицыне и его крамольных произведениях, которые защищал Ростропович. Дело было в самом Ростроповиче, который «изволил сметь свое суждение иметь». И какое суждение! «К свободному обсуждению без подсказок и одергиваний мы обязательно придем!» «Таланты, которые составят нашу гордость, не должны подвергаться предварительному избиению». «Почему именно в нашей литературе и искусстве так часто решающее слово принадлежит людям абсолютно некомпетентным?..» Он стал социально опасен, этот «диссидентствующий» Ростропович, готовый взрывать и разрушать изнутри «морально-политическое единство» советского общества. А раз так - ату его!
Хорошо помню, как мужественно и терпеливо поначалу сносила чета Ростроповичей все признаки нарастающего гонения и «отторжения». А кольцо-удавка сжималось, потому что гонения шли и по линии творческой, и бытовой. Участились набеги на дачу в Жуковке с требованием выселения Солженицына. Милиция даже предупреждала, что могут «отнять дачу у самого Ростроповича». Дело доходило до обысков, после которых возмущенный Мстислав Леопольдович и мужественная Галина Павловна помогали Александру Исаевичу писать протестные письма главе правительства А. Косыгину. Останови кто-нибудь тогда ход тупой идеологической советской машины, эту бессмысленную и беспощадную травлю знаменитых музыкантов - и не случилось бы непоправимого. Но нет. Ход тупой идеологической машины лишь набирал обороты…
Мне врезался в память один эпизод, связанный с приездом в Москву в 1971 году замечательного английского композитора Бенджамина Бриттена и Лондонского симфонического оркестра с солистами (пианистом Джоном Лиллом, пианистом и дирижером Андре Превином, органистом Ноэлем Росторном). Это были беспрецедентные по атмосфере и художественному значению дни английской музыки в России, праздник единения двух великих культур. Именно единения, потому что в концертах англичан и Бенджамина Бриттена, по его личной просьбе, приняли участие два прославленных русских музыканта - Святослав Рихтер и Мстислав Ростропович, исполнившие концерты с оркестром, созданные выдающимся английским композитором.
И что же? Произошло нечто неприличное на виду у почетных английских гостей: демонстративно, ни единым словом не обмолвилась центральная и столичная пресса об участии виолончелиста Ростроповича в этих концертах, тогда как имя Святослава Рихтера распечатали все газеты. И даже смелая и относительно независимая «Комсомольская правда», печатая мою статью «Лондонские виртуозы» (28 апреля), в последний момент вырубила целый абзац, посвященный Мстиславу Ростроповичу, без всякого, разумеется, согласования со мной. Весь парадокс заключался в том, что в этот же день, в «Вестнике» АПН «Культура и искусство», в другой моей статье «Британские Орфеи», абзац о выступлении Ростроповича с виолончельным концертом Бриттена под управлением автора был полностью сохранен. Как же! Ведь материалы «Вестника» АПН рассылались в десятки стран! Мы хотели выглядеть «благородно»…
Разумеется, я подарила этот «Вестник» Мстиславу Леопольдовичу. Не думаю, чтобы это его особенно утешило…
Власти пытались Ростроповича обуздать, унизить, придавить. Устраивались многочасовые бесцеремонные обыски на таможнях после возвращения музыканта с зарубежных гастролей. «Первое, чем я был встречен на родине, - это был обыск. Я глубоко подавлен и возмущен», - писал тогда Мстислав Леопольдович в другом своем письме редакторам центральных газет. Но вскоре и сами зарубежные гастроли, как говорится, повисли в воздухе для обоих супругов. Всесильный, ведавший всеми контрактами Госконцерт стал беспросветно врать, сообщая зарубежным «просителям» о мнимых болезнях Ростроповича и Вишневской. Министр культуры Екатерина Фурцева предупредила Ростроповича, что ему запретят зарубежные гастроли на целый год, если он не расстанется с Солженицыным. Мстислав ответил гениально: «А я и не знал, что выступать на родине - это наказание». Сей афоризм пополнил «золотой фонд» диссидентского подполья.
Ростроповича выгнали из Большого театра. Уволили из Московской филармонии. Столичные оркестры получили указания - не приглашать виолончелиста для участия в концертах. Оставалась еще надежда на периферию. Но и периферийные концерты для Ростроповича и Вишневской, отправившихся однажды в большое концертное турне по Волге, принесли лишь горькие разочарования и унижения. Информацию о концертах блокировали; фамилию Ростроповича на афишах заклеивали; а концерты в Саратове и вовсе были отменены. Так же, впрочем, как и в Киеве, о чем Маэстро узнал только из телеграммы, находясь уже в Брянске, по пути на Украину. А так хотел своим дочерям - Ольге и Елене - показать красавец град Киев! Но и публика в столице Украины была повержена в шок: ей объявили, что Ростропович в Киеве дирижировать отказывается. А планировалась «Тоска» Пуччини в гастрольных спектаклях Саратовского оперного театра. Еще никто не знал, что киевское партийное руководство вообще запретило Ростроповичу появляться на Украине.
Мстислав неоднократно письменно обращался к генсеку ЦК КПСС Л.И. Брежневу в 1972-1973 годах. Он писал: «Моя жизнь продолжает идти под знаком травли и издевательств». Просил о личной встрече, требовал расследования случаев дискредитаций и лжи и, в конце концов, «немедленного прекращения травли». Но все тщетно. На приеме у замминистра культуры на вопрос «Что же вы к нам не обращались?» - Ростропович горестно воскликнул: «Не обращался?! Да я лично Брежневу несколько телеграмм и писем посылал, прося спасти мне жизнь… Меня никто ни разу не удостоил ответом».
Руководство Московской консерватории Ростроповича не увольняло, но стимулировало нарастающий «вакуум» вокруг недавнего кумира. Последней творческой надеждой музыканта стал Московский театр оперетты, где он с увлечением ставил любимую «Летучую мышь» Иоганна Штрауса. Но перед самой премьерой Ростроповича по-хамски отстранили, доведя до отчаяния и рыданий в ближайшей уличной подворотне… И самой последней каплей в чаше терпения оказалась история с неожиданным прекращением записи на пластинки оперы Пуччини «Тоска» с участием Вишневской, солистов и оркестра Большого театра.
«Да кто ж посмел отменить запись, разрешенную секретарем ЦК партии? - писала Галина Вишневская, анализируя те роковые дни в своей книге. - Отменить, когда уже записан первый акт? В открытую, на виду всего театра, замахнуться на меня и Ростроповича… Раз уж так взялись, значит, решили душить намертво». А в кабинете замминистра культуры Примадонна Большого театра разразилась гневной филиппикой в защиту мужа: «Вы запретили ему все заграничные поездки, гноите его в провинциальной глуши и хладнокровно ждете, чтобы этот блестящий артист превратился в ничтожество. К сожалению, он терпел бы ваши выходки еще долго. Но в хулиганской истории с записью „Тоски“ вы нарвались на меня, а уж я терпеть не намерена, характер у меня не тот».
29 марта 1974 года, по настоянию Вишневской, Ростропович отправил письмо Л.И. Брежневу с просьбой о командировке за рубеж на два года вместе со всей семьей.
«Мы подошли к иконам, - вспоминает Галина Павловна, - и дали друг другу слово, что никогда не упрекнем один другого в принятом решении».
Ответа с «положительным решением» не пришлось долго ждать. Власти спешили как можно скорей избавиться от Ростроповича и «выдавить» его за границу вслед за Солженицыным. Дело в том, что к этому времени в КГБ уже прочли рукописный экземпляр главного тираноборческого произведения «Архипелаг ГУЛАГ», хранившийся в Ленинграде у помощницы писателя Е. Воронянской (которая после пятисуточных допросов повесилась). Политическая атмосфера накалилась до предела. В этих тяжелейших условиях Мстислав, как никогда, ощутил, что значил для него брачный союз с Вишневской, что значила для него вообще эта сильная женщина, с ее твердым и решительным характером, житейской мудростью и готовностью к жертвам и лишениям. «Именно ей, Галине Вишневской, ее духовной силе я обязан тем, что мы уехали из СССР тогда, когда во мне уже не оставалось сил для борьбы, и я начал медленно угасать, близко подходя к трагической развязке… Вишневская своей решительностью спасла меня», - признавался Ростропович впоследствии. И еще: «Если бы вы знали, как я плакал перед отъездом. Галя спала спокойно, а я каждую ночь вставал и шел на кухню. И плакал, как ребенок, потому что мне не хотелось уезжать!»
Дело, начатое «Открытым письмом» Ростроповича, наконец, приблизилось к неминуемой развязке. Отъезд Ростроповича был назначен на 26 мая 1974 года. Галина Павловна с дочерьми должна была выехать позднее, когда старшая - Ольга сдаст экзамены в Московской консерватории.
И вот он наступил - час прощания, о котором до сей поры помнит вся музыкальная Москва. Конечно, было известно, что Ростропович и Вишневская получили разрешение на гастроли за рубежом по контракту условно на два года. Но в воздухе ощущалось нечто совсем другое, и все мы знали, что расстаемся надолго, может быть, - это немыслимо было даже представить! - навсегда.
Власти милостиво разрешили Ростроповичу дать в Большом зале консерватории последний прощальный концерт. Он состоялся 10 мая 1974 года, под занавес сезона, когда в Москве уже бурлила весна. Я бережно храню программу этого скорбного концерта, с портретом Петра Ильича Чайковского и автографом Ростроповича. Он выступал со студенческим молодежным симфоническим оркестром (впервые в жизни) и играл гениальную русскую музыку: фрагменты из «Щелкунчика», «Вариации на тему рококо» (где солировал его ученик Иван Монигетти) и Шестую симфонию Чайковского. На дворе цвела звонкая весна, а под сводами Большого зала консерватории витали фиолетовые тени прощальных мелодий-плачей. Что сказал нам в тот вечер и что сделал с нами Ростропович-дирижер музыкой Чайковского - останется непостижимой тайной потрясенных сердец. Но вряд ли хоть один человек в зале не понимал, что слышит прощальную исповедь гениального музыканта перед соотечественниками.
А потом к нему шли и шли «паломники». Помню, как не мог скрыть слез Иван Семенович Козловский. Плакали многие. Провожали Ростроповича как национального героя, великого сына русской земли, принесшего славу ее музыке. Никто и ничто не могло помешать этому вечеру быть именно таким. И остаться в памяти таким навсегда. Что было потом - знают все. Ростропович и Вишневская были лишены советского гражданства, всех государственных наград СССР. Ростроповича исключили из Союза композиторов и так далее. Дело дошло до выписки и выселения из квартиры, откуда в течение двух ночей Веронике Ростропович пришлось вывозить (спасать!) вещи, а главное - бесценный архив.
Вот, коротко, и вся история «отлучения» великого музыканта и выдающейся певицы от Родины. Затем последовали долгие 16 лет вынужденной эмиграции. Об этом - отдельный рассказ. А сейчас - еще несколько слов о других, более светлых временах.
В конце 1980-х годов Мстислав Ростропович говорил в одном из интервью, что, пока в России будут прощать только трупы, - он не забудет своих обид. Но не прошло и нескольких недель, как все резко переменилось. Повеяли свежие ветры коренных перемен «горбачевской перестройки». Мир вдруг узнал, что Ростропович восстановлен в Союзе композиторов СССР и что общественность требует возвращения Маэстро и его жене советского гражданства. И наконец, дали реальный результат долгие и трудные переговоры с Госконцертом. Мы не поверили собственным ушам, когда услышали: в феврале 1990 года вместе со «своим» Вашингтонским симфоническим оркестром в Москве и Ленинграде выступит с четырьмя концертами наш легендарный Мстислав Ростропович.
А что, Мстислав Леопольдович, - спросил виолончелиста накануне гастролей американский корреспондент, - ожидали ли вы столь быстрых перемен в Советском Союзе?
Нет, не ожидал! - воскликнул Маэстро горячо и запальчиво, в своей неподражаемо экспрессивной манере. А потом добавил нечто мрачно-юмористическое: - И, по правде говоря, уже подыскивал себя местечко на здешних кладбищах…