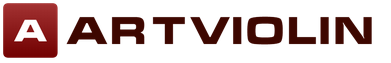Не шей ты мне, матушка, красный сарафан
Вера Мосова
© Вера Мосова, 2016
© Мария Лебедева, иллюстрации, 2016
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Хмурое мартовское утро взорвалось пронзительным воплем. Спросонок Маруся не поняла, что происходит. Кричала Лушка, жена Ивана, старшего брата, который вместе с отцом был сейчас в отъезде. Хлопотавшая у печи мать уже спешила к ней за занавеску, сонная ребятня повскакивала с полатей.
– Ой-ёй-ёй, сыночек мой, голубочек! Да как же так? Да что же это такое? – причитала Лукерья в голос.
Плетеная зыбка была пуста, а заглянуть за занавеску Маруся не решалась. Она сообразила, что случилось что-то страшное с Гришенькой, её племянником, первенцем Лукерьи и Ивана. Вспомнила, что сквозь сон слышала, как младенец ночью громко плакал, потом замолчал. Видимо, Лушка положила его к себе и дала грудь.
– Ой, что же я Ванечке скажу? Ой, как же так? Боженька, за что ты меня караешь? За что, Господи?! – продолжала вопить Лукерья.
Из-за занавеси молча вышла мать с Гришенькой на руках, положила его на лавку и повернулась к застывшим в ужасе детям:
– Василко, беги за тёткой Тоней, скажи, обмыть надо.
Маруся, словно в тумане, видела, как младший брат метнулся к двери, сдернув с печки пимы и на ходу натягивая овчинный полушубок. Она смотрела на посиневшего Гришеньку и не могла поверить, что всё это правда, что нет больше её милого мальчика, который ещё вчера кривил губки, смешно причмокивал и таращил свои глазёнки, когда она качала зыбку. Нет! Не может быть! Сейчас он откроет глазки. Он не мог умереть. Это ошибка. Он оживет. Вот… сейчас… Слезы застилали глаза, боль душила, а безумные крики Лушки совершенно сводили с ума. Сзади подошла Нюра, мягко приобняла её, и Маруся, повернувшись, уткнулась в плечо сестры.
Весть о том, что беловская сноха приспала ребеночка, мигом облетела околоток. Дело-то обычное, никого этим не удивишь. Бог дал, Бог взял. К вечеру вернулись мужики. Лукерья бросилась в ноги Ивану, причитала, каялась, что не сберегла сыночка. Он подошел к младенцу, сел рядом и уронил голову в ладони. Дом, погруженный в печаль, тихо мерцал лампадами, словно скорбел вместе со своими жильцами. Вдруг с улицы послышался звон колокольчика, и у ворот остановилась повозка. Прохор махнул рукой Васятке, как бы зазывая его за собой, и направился во двор встречать гостя. Горе горем, а работу никто не отменял…
Дом Степана Белова в далёком уральском заводе знает каждый. Большой пятистенок, рубленный еще его отцом, приветливо смотрит на мир всеми своими пятью окнами с затейливыми резными ставнями. Место выбиралось специально на самом въезде, по пути следования из Екатеринбурга в сторону Верхотурья. Просторный постоялый двор всегда готов принять путешественников, и редкая повозка не останавливается тут на отдых. Хозяева приветливо встречают гостя. Уставших лошадей распрягают, засыпают им овса. А путника приглашают к высокому крыльцу, которое переходит в длинную галерею с перилами, тянущуюся вдоль всей избы. Отсюда два входа в дом. Первая дверь ведёт в просторную горницу, где стоит большой стол и лавки вдоль стен. Пол застлан половиками, на окнах строчёные задергушки. Хозяйские дочери мигом разжигают самовар, подают наваристые щи, кашу и румяный домашний хлеб. Удобная лежанка, накрытая домотканым покрывалом с кружевным подзором, призывно манит к себе горкой подушек, обещая сладкий сон. В комнате всегда чисто и уютно, а потому и постояльцы часто останавливаются на отдых именно здесь, а порой и на ночлег остаются.
Во второй половине этой большой избы живет сын Степана Прохор со своим многочисленным семейством – женой Анфисой Игнатьевной и четырьмя отпрысками. Сам же Степан, крепкий семидесятилетний старик с седой бородой и цепким взглядом карих глаз, овдовев, поселился в малухе. Тут у него и дом, и работа. Он каждый день топит небольшую печурку, в объемной колоде вымачивает лозу и плётёт на продажу корзины, туеса, большие решётки, с которыми бабы ходят на реку бельё полоскать. И сколько не звал его сын вернуться в дом, старик наотрез отказывается. В такой уединённой жизни обрёл он покой своей душе. Правда, внуки не дают ему поотшельничать вволю, постоянно топчутся тут же. Они любят смотреть, как дед работает, а еще больше слушать его сказы да притчи. Младший, Василко, пытливый парнишка двенадцати лет от роду, уже старается помогать Степану, осваивает его ремесло. Погодки Нюра и Маруся – девицы на выданье. Нюре исполнилось шестнадцать, и отец уже начал приглядывать ей жениха. Маруся годом младше. Обе девки справные, работящие, хорошая подмога матери по хозяйству. Старший внук Иван – человек семейный. Год назад привёл он в дом молодую жену, дочь заводского шихтмейстера. И всё вроде сладилось, и сыночка народили, Гришеньку. Да только радость нередко с бедою чередом идёт.
После смерти сына Лукерья совсем лицом почернела. Вину свою себе простить не может. Из дому не выходит, ни с кем не разговаривает, только всё молчит да вздыхает. А тут и масленичные гулянья подоспели. Весь посёлок ходуном ходит, гармошки играют, балалайки звенят, песни льются рекой. В каждом доме румяные блины на сковородах шкворчат да бутыли с бражкой распечатываются. Молодёжь гуляет- развлекается, на тройках катается. Нюре с Марусей так и хочется примкнуть ко всеобщему веселью, но боятся даже заикнуться матери об этом. Нельзя, траур в семье.
А как, бывало, весело проходили у них масленичные гулянья! Маруся всегда любила этот праздник, ведь он нёс с собой особый, неповторимый привкус грядущей весны. Отец доставал праздничную сбрую с бубенцами, запрягал Буянку в красивую кошёвку1, на дугу с колокольцами девочки крепили бумажные цветочки, в гриву ленточки вплетали. На сиденье стлали телячью шкуру, поверх шубеек мать укутывала дочерей в большие дорожные шали, отец бросал им на ноги старую дедову ягу2 для тепла. А Василке позволял сесть на передок, рядом с собой, и доверял ему вожжи. Весь завод, казалось, приходил в движение. Порой на улицах выстраивались целые санные поезда. И так это было лихо, задорно, что потом вспоминалось весь год.
– Разрешите, маменька, девушкам на гулянье пойти, – обратилась Лукерья к свекрови в последний день масленичной недели. – Они молодые, а молодым завсегда веселья хочется. Негоже им тут со мной горевать. Да и я себя еще виноватее чувствую, когда они дома томятся из-за моей беды. Пусть хоть на катушки сходят.
Глянула тогда Анфиса Игнатьевна на мужа, словно спрашивая его разрешения, а он только рукой махнул – пусть, мол, идут.
Обрадовались девицы, быстренько стали собираться. Кабы их воля, давно бы уже были они в центре веселья. За ними и Василко увязался, прихватив с собой деревянные санки, на которых можно поочерёдно катить друг дружку. Сегодня надо успеть побывать во всех самых оживлённых местах. Вот поперек Заводской улицы снежный городок выстроен, ребятня перебрасывается снежками, и лихие наездники скачут тут же. На базарной площади огромная Масленица стоит, ждёт своего часа, чтоб погибнуть в огне. Тут же идет бойкая торговля, дымятся самовары, играет гармонь. Но ребята уже бегут на Катушечную улицу, которая имеет сильный уклон, и в праздники превращается в чудесную забаву. Здесь всегда царит веселье. Катаются не только дети, но и взрослые. Вздымая снежную пыль, летят санки вниз, почитай, до самого конца улицы. А по бокам, вдоль домов, тянутся вверх вереницы людей, готовых вновь с ветерком промчаться с горы. Они тащат за собой в гору кто сани, кто ледянки. Вот из одного дома высыпала на склон ватага подгулявших парней, двое из них несут в руках лавку, переворачивают её вверх ногами и вся орава плюхается на широкое сиденье.
– Ой, чо творят, окаянные! – доносится из толпы, – вот щас зубы-то повышшелкают!
– Неее, ничо не выйдет, не покатится она, – подхватывает другой голос, – навозом бы смазать да тонкого ледку наморозить, тогда другое дело!
В это время один из парней, ухватившись за крепкие ножки скамьи, толкает её, и вся компания с криками и улюлюканьем уже несётся вниз под дружный смех зевак.
Чтоб не ждать всяк своей очереди, на сани беловские ребята стали усаживаться втроём, обхватив друг друга за пояс. Впереди Василко, а позади Нюра, как самая старшая. А кому ж, как не ей? Ведь порой бывает, что сидящий последним на ходу вываливается из саней. Марусе досталось место посередине. И то хорошо, хоть снег в лицо не летит, только как повернёшь голову в один бок, так и катишься до конца. То ли дело сидеть первым, тут можно и санями управлять, если их заносить начнёт, но и в сугроб лететь тоже первым придётся. Зато как это весело – вместе мчаться с горы, вместе вываляться в снегу. В гору тянули сани по очереди, чтоб никому не обидно было.
Роман «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан» является первой книгой трилогии о жизни простой русской семьи Беловых. Он погружает читателя в жизнь уральской глубинки 70-х годов XIX века. Нехитрый быт, заботы и чаяния членов большого семейства, их стремление к счастью и борьба за него, а ещё и старые тайны, всплывающие в самые неожиданные моменты и круто меняющие жизнь героев, – всё это ждёт читателя на страницах увлекательного романа.
* * *
Приведённый ознакомительный фрагмент книги Не шей ты мне, матушка, красный сарафан (В. Е. Мосова) предоставлен нашим книжным партнёром - компанией ЛитРес .
Лукерья проснулась в хорошем настроении. Пожалуй, впервые с того страшного утра, когда она обнаружила рядом с собой мёртвого Гришеньку. Наконец вчера она решилась поговорить с мужем, и, кажется, он её понял. Они возвращались домой в телеге, оба довольные сделанными покупками. Буянка бежал лёгкой рысью, сквозь голые ветви деревьев были видны начавшие зеленеть поляны. Кое-где близ кустарников стайками белели ветреницы, называемые в народе подснежниками. И, несмотря на хмурость апрельского дня, в воздухе пахло весной.
– Ванечка, давай свой дом поставим, – вдруг произнесла Луша.
Иван удивлённо вскинул брови:
– А чем тебе в нашем доме не нравится?
– Нравится мне, конечно, но уж больно много нас тут. Мы могли бы рядом построиться, подворье-то большое. Деток нарожаем, им простор нужен.
– Скоро Нюру замуж отдадим, – возразил он, – меньше народу будет.
– А мне её жаль, – произнесла Лукерья с грустью.
– С чего бы это? Ей такой жених завидный подвернулся!
– А с того, Ванечка, что за нелюбимого идти – то же самое, что жить с мужем, который любит другую бабу. Даже если она уже покойница. И не прикидывайся, что тебе самому не жаль сестру, ты ведь тоже видишь, как она исстрадалась.
Иван с удивлением посмотрел на жену.
– Да, Ваня, – продолжала она с горечью в голосе, – я всё вижу, не слепая. И что Нюру ты жалеешь, и что по Алёнке до сих пор сохнешь. Кабы я раньше знала, что ты другую любишь, я бы матушку с батюшкой слёзно умоляла не отдавать меня замуж за тебя. Но теперь ведь уже взад не воротишь. Ты живёшь так, словно меня виноватишь в твоей беде. Но ведь это не я к тебе, а ты ко мне посватался. Ты венчался со мной, ты обещал перед Богом любить меня. Так чего ж ты теперь-то меня губишь? И себя губишь, Ванечка.
Он молча слушал жену и удивлялся тому, как спокойна и рассудительна она, как много боли накопилось в её душе, но при этом за весь год она ни разу ничем его не попрекнула, только охала и вздыхала, когда он пьяный возвращался домой.
– Вроде мы с тобой и вместе живём, а на самом деле поврозь. Всяк своё горе пестует. Я живу со своей бедой, ты – со своей. Подумай-ка хорошенько, Ванечка, куда мы так придём? Алёнку уже не воротишь, да и Гришеньку тоже, так уж случилось. А у нас семья, и мы ещё могли бы стать счастливыми, если бы оба захотели этого. Оба, Ванечка. Раз уж мы с тобой вместе, так давай и будем вместе лепить свою жизнь. Она должна быть у нас общей. Одной на двоих. А иначе и смысла нет нам делить одну постель. Когда постель холодна, тогда и жизнь семейная постыла. Хуже смерти такая жизнь. Для чего, по-твоему, живёт человек? Для радости, Ванечка, для счастья. А чтоб счастье было в твоей жизни, надо просто очень сильно этого хотеть.
Иван обнял жену, положил её голову себе на плечо и глубоко вдохнул весенний воздух. На душе словно потеплело. Оказывается, она у него такая умница! Как всё просто, всё разумно обсказала. И главное – правильно! Ну, чего, казалось бы, проще – жить для радости. Наверное, так и должно быть. А может, стоит попробовать? Жизнь-то ещё не кончается.
Весь вечер Луша чувствовала на себе внимательные взгляды мужа, будто заново открывал он её для себя, будто только что знакомился с ней. А ночью, устав ждать, пока угомонится вся их большая семья, встал с лежанки, потянул её за руку и повёл во двор, укутавшись с ней в один тулуп. Большой плетёный короб с сеном словно только их и ждал тут. И не было в её жизни ничего прекраснее этой ночи, и не было на всём свете бабы, счастливее её. Когда они, замерзшие, тихонько крались обратно, боясь скрипеть половицами, домочадцы уже сладко спали.
Оттого и пробуждение их было счастливым, и Иван, сладко потянувшись, шепнул ей, что хотел бы прямо сейчас повторить их ночные вольности и что она права, им нужен свой, отдельный дом. Лукерья слушала мужа, смотрела в его потеплевшие глаза и не могла поверить, что всё это происходит наяву, уж больно горькой была её жизнь с самого первого дня замужества, а особенно после смерти Гришеньки. Может, зря она так долго молчала? Может, давно надо было вот так откровенно поговорить? Хотя, всегда всему своё время. Значит, теперь и её время пришло.
Иван вышел во двор, посмотрел на короб с сеном и улыбнулся. Он и не ожидал от себя такой выходки. Наверное, жена права – мы сами растим свои беды и радости. Хотим – лелеем горе, хотим – радуемся счастью. Почему так нелепо сложилась его жизнь? Он долго спорил с отцом, когда тот, решив его оженить, заводил разговор про Лукерью. Иван Алёнку любил, и расстаться с ней не было сил. Ну, беда ли, что она сирота, что живут они вдвоём с глухой бабкой в покосившейся избёнке? Он молодой здоровый мужик, много чего умеет руками и работы не боится. Упорно стоял на своём, убеждая отца, что сможет быть хорошим хозяином. Хотел уже, было, пойти наперекор семье и самовольно у Алёнки поселиться, да только дал слабину, когда услыхал в кабаке от мужиков, что Гришка Кривой к его Алёнке похаживает, что видели, как он под утро из избы её выходил. Осерчал он тогда, махнул рукой и пошёл на поводу у отца. А потом, уже после свадьбы, посидев однажды с дружками в кабаке, не выдержал и зашёл к Алёнке. Как она изменилась! Казалось, на лице одни глаза и остались. Только раньше это были голубые озёра, в самую глубь свою манящие, а теперь поблекли как-то, словно жизнь из них ушла. Под глазами тени залегли, нос заострился, губы сложились в скорбную складочку. Поговорили они тогда по душам. Рассказала она, как зашёл однажды к ней Гришка, а она, не спрося, дверь открыла, думала, Иван это. Тот был пьян сильно, начал к ней приставать, она его и вытолкала в сени. А он там свалился, да и заснул. Под утро только оклемался и ушёл. Взревел Иван зверем подбитым, хлопнул дверью и обратно в кабак направился. …А потом Алёнки не стало, и вся его жизнь пошла под откос. Даже рождение сына не вернуло ему прежней радости.
Иван взмахнул рукой, словно отгоняя непрошеные воспоминания, оседлал Буянку и поскакал в кузницу. Отец давно велел коня перековать, да как-то все не до того было. В посёлке спрос на кузнецов большой, и потому работают несколько кузен, но он направился, как всегда, к лучшим мастерам. Таковыми слывёт семья Петра Кузнецова, чья кузня стоит возле плотины, на берегу пруда. Поговаривают, что их предок когда-то был сослан из самой аж столицы за то, что ковал там оружие для стрельцов во время бунта. Потому их в посёлке и прозвали Москалями. Это уж потом, после вольной, когда всем фамилии приписывали, стали они Кузнецовыми, но старое прозвище и теперь ещё в ходу. Отец Петра был мужик крутого нрава, люди бают8 , однажды он поссорился с попом да и послал того по матери, за что потом был отлучён от церкви. Пётр нравом пошёл в отца, тоже мог крепко словцом приложить. Он постоянно бранился с кем-нибудь, за что и поплатился – сожгли ему дом в самое Рождество. Погоревал он немного, разослал проклятия на головы недругов, да начал с сыновьями катать новый сруб, еще поболе прежнего, благо, что сердобольные соседи приютили их у себя.
В кузне оказался сын Петра Александр, парень лет двадцати. В семье его кликали Санко, так это имя за ним и закрепилось в посёлке. Он со знанием дела подошёл к коню, снял старую подкову, расчистил копыто, сделал мерку и пошёл ладить новую подкову. Иван проследил за его действиями и остался доволен – парень стал хорошим мастером. Буянко, уже привыкший к этому делу, стоял спокойно, терпеливо позволяя обиходить очередную ногу. Когда вся работа была закончена, Иван расплатился с мастером и вскочил, было, в седло, но Санко его окликнул. Иван повернулся, а тот смущённо протянул ему диковинный железный цветочек на длинном стебле.
– Вот… передай, пожалуйста, Марусе, – произнёс он и слегка покраснел.
Иван улыбнулся, взял цветок и помахал парню рукой. Надо же, и у Маруси ухажёр появился! Против такого парня отец едва ли что скажет. Семья крепкая, работящая, именно такая, как ему надобно. Пожалуй, так отцовский дом мигом опустеет, и есть ли смысл ставить свою избу?
Маруся очень удивилась подарку, не сразу сообразила, от кого он. Потом вспомнила этого парня и рассмеялась. Нюра с интересом рассматривала железную розу, хвалила мастера, а сестра только пожимала плечами, словно говоря, что она тут ни при чём. Иван сел на лавку и невольно залюбовался женой, хлопотавшей у печи. Чёрные косы двумя змеями вьются по спине, опускаясь ниже пояса. Брови красиво изогнуты, карие очи глядят на него призывно и многообещающе. Какая-то в них появилась игривость, и ему это очень нравится. Невольно залюбовался её слегка припухшими губами, едва сдерживая порыв подойти и поцеловать их. Оглянулся на сестёр и подумал о том, что народу в избе всё-таки многовато. Эх, права Лушенька, права – надо свой дом ставить! Куда бы сестриц спровадить?
– Девки, а вы уже видели Зорькиного телёнка? – обратился он к сёстрам. – Надо бы ему имечко придумать.
– Ой, и правда! – воскликнула Маруся и потянула сестру за собой.
– Соломинки в зубы взять не забудьте! – крикнул брат им вслед, – не то сглазите!
Только хлопнула за ними дверь, Иван тут же обнял Лукерью и впился губами в её губы. Эх, до чего же сладкая у него жёнушка, так бы и не выпускал её из своих объятий! Она потянулась к нему, прильнула всем телом, и почувствовал Иван, как земля уходит у него из-под ног. Ещё миг, и он готов был подхватить её на руки да унести к себе за занавеску. Тут послышались какие-то шорохи, и с печи свалились старые подшитые пимы, издав глухой звук об пол. Оказалось, что это дед Степан лежит на печи, кости греет, да, видно, неудачно повернулся с боку на бок. Лукерья звонко рассмеялась, Иван нехотя оторвался от жены. А тут и сёстры вернулись, наперебой рассказывая, какой миленький телёночек у Зорьки, как он громко причмокивает, когда сосёт молоко, и объявили, что назовут его Пёстрик.
– Пёстрик! – повторила Маруся. – Он же пёстрый, вот пусть и будет Пёстрик. Называют же коров Пеструхами!
Вошёл надутый Василко. Все обернулись на него.
– А что это братец у нас такой хмурый сегодня? – спросила Нюра.
– Никто на качуле9 не качается, а одному мне неинтересно, – проворчал он. – Раньше, как в Пасху качулю повесят, так и до самой посевной веселье, полон двор народа. А нонче из-за ваших женихов всё наперекосяк!
– И то, правда, – встрепенулся Иван, глаза его хитро блеснули, – айда все качаться!
Все загалдели, быстренько оделись и высыпали во двор, где к крепкой перекладине на веревках была подвешена длинная доска.
– Тять, покачаешь? – крикнул Василко вышедшему из конюшни Прохору.
– А, давай, покачаю! – улыбнулся отец и направился к детям.
Василко, Маруся, Нюра и Лукерья уселись верхом на эту доску, друг за другом, свесив ноги по обе стороны. Отец с Иваном встали по краям доски и начали раскачивать её.
– Ну, что? Кого на сеновал закинуть? – весело кричал отец, приседая в очередной раз, чтоб отправить вверх другой конец доски.
– Держитесь крепче! – кричал Иван, приседая в свой черед и глядя на радостное лицо Лукерьи.
Все дружно заливались смехом, который разносился по всей округе. И вскоре у ворот уже собралась ватага соседской ребятни, с завистью наблюдавшей за этим разгулом веселья.
Иван любовался женой, глаза которой светились, щеки раскраснелись, волосы выбились из-под платка. Он думал о том, какая же она умница, его Лушенька-душенька, как права она была, говоря, что сами мы выбираем, жить ли нам в радости или в печали. Отныне он выбирает радость! Лукерья тоже любовалась мужем. Какой он высокий, статный, гибкий. Как красив он сейчас, с горящими глазами и широкой улыбкой на лице. Вернувшаяся с реки мать только руками всплеснула, увидев эту весёлую картину. И даже дед Степан не усидел на печи. Он вышел на крыльцо и, облокотясь на перила, любовался своим семейством, сожалея лишь о том, что покойная жена его, Марьюшка, не видит сейчас этого.
История русского свадебного наряда начинается с послереволюционного времени, вместе с отделения церкви от государства и попытки замены венчания регистрацией ЗАГС. До этого периода свадебный наряд на Руси назывался подвенечным.
В старину девушка, выходящая замуж, считалась "умершей" для прошлой девической жизни и для своей семьи, поскольку с момента замужества уходила жить к мужу. Поэтому женский свадебный наряд на Руси менялся в течение дня бракосочетания, и состоял из довенчального и послевенчального.
На венчание девушка шла в "траурных", печальных и скромных одеждах, так как она расставалась со своей девичьей жизнью. В некоторых регионах девушки шли под венец в одежде черного цвета и такой же фате.

После венчания невеста переодевалась в праздничные и нарядные одеяния, красных оттенков. Красный цвет символизировал радость и начало новой жизни.


Русская невеста
Подвенечный наряд для невесты, в основном, состоял из комплекса одежд с сарафаном. Свадебный сарафан русской невесты был настоящим произведением искусства - ведь он демонстрировал мастерство рукоделия будущей хозяйки и материальную обеспеченность ее семьи. Часто подвенечные наряды передавались из поколения в поколение и служили частью приданого невесты.



Сарафаны искусно вышивались золотыми нитками, украшались бисером и тесьмой и отделывались золотым и серебряным шитьем. Неудивительно, что свадебный наряд на Руси для знатных невест отличался особенным богатством и роскошью. Шился он из парчи, и оторачивался дорогими мехами и жемчугом. Нередко вес таких нарядов доходил до 15 кг.


Поверх сарафана в некоторых губерниях было принято одевать еще короткую широкую душегрею, напоминающую жакет. Она также богато отделывалась вышивкой, позументами и канителью.



Частью свадебного наряда являлась венчальная рубаха, рукава которой, в зависимости от местности, могли быть пышными, сужающимися к низу, или длинными, с боковыми прорезями. Такие рукава назывались "плакательными", и выполняли "защитную" функцию. Считалось, что жених и невеста не должны во время свадьбы касаться друг друга голыми руками.
Под сарафан невеста надевала большое количество нижних юбок, которые визуально делали ее фигуру более пышной, а также служили нижним бельем.


Стихи запоминаются, когда они музыкальны, когда являются музыкой по преимуществу. Русские поэты, писавшие стихи именно так, становились народными. С годами их имена и вовсе исчезали, а русская песня на их стихи оставалась жить, теряя свое авторство.
К числу таких поэтов-песенников принадлежит Николай Григорьевич Цыганов, о котором мало кто знает, о нем почти ничего неизвестно, но его русские песни живут и по сей день, значась под рубрикой «Народная песня».
Самая известная русская песня на слова поэта «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан». Музыку к ней написал Александр Варламов, известный по романсам «Белеет парус одинокий», «На заре ты ее не буди» и другим.
«Не шей ты мне, матушка,
Красный сарафан,
Не входи, родимушка,
Попусту в изъян!
Рано мою косыньку
На две расплетать!
Прикажи мне русую
В ленту убирать!..."
.........................
«Дитя мое, дитятко,
Дочка милая!
Головка победная,
Неразумная!
Не век тебе пташечкой
Звонко распевать,
Легкокрылой бабочкой
По цветам порхать!..."
(Красный сарафан, музыка А.Варламова)
На стихи Николая Цыганова Варламов сочинил еще несколько песен, в том числе известные
«Что ты рано, травушка, пожелтела?», «По полю, полю чистому», «Ох, болит да щемит ретиво сердечко!». Известными стали и другие стихи поэта: "Ах спасибо же тебе, синему кувшину", "Течет речка по песочку", "Каркнул ворон на березе", "Я посею, молоденька, цветиков маленько" и другие
Ах, спасибо же тебе,
Синему кувшину,
Разгулял ты мою
Горькую кручину;
Знаться б мне давно с кувшином,
Горе б по ветру неслось,
Ретивого б не сушило,
В русы кудри не ввилось.
Кроме Варламова, музыку на стихи Николая Григорьевича сочиняли Титов, Чайковский, Рахманинов, Верстовский и другие. Раньше всех сочинял музыку к своим стихам сам поэт, любивший русскую песню и часто исполнявший ее под гитару. Фактически это была та же авторская песня.
Но, как часто бывает с людьми скромными, застенчивыми и тихими, Цыганов не считал свое сочинительство достойным всеобщего внимания, и никогда не стремился ни собирать своих стихов, ни, тем более, публиковать их.
При жизни поэта было опубликовано всего несколько стихотворений, а первый поэтический сборник русских песен Цыганова, собранный его друзьями, появился только три года спустя после смерти поэта, в 1934 г.. Издание моментально разошлось, став библиографической редкостью. Второе издание вышло через двадцать три года, и тоже разлетелось как горячие пирожки.
«Что ты рано, травушка, пожелтела?
Что вы рано, цветики, облетели?
Что ты так, красавица, похудела:
Впали алы щеченьки, побледнели…
Впали ясны оченьки, потускнели?..»
- «Не успели цветики распуститься,
Уж их злая засуха поедает…
Не успела я с дружком обручиться,
Уж он меня, бедную, покидает -
Без поры, без времени убивает!»
(1830. Музыка А.Варламова)
Сын бывшего крепостного крестьянина, Николай с детства ездил с отцом по всей России, т.к. отец работал у купца Злобина, участвуя в его торговых оборотах и приходилось много ездить. Уже тогда мальчик любил слушать русские народные песни, с годами став заядлым собирателем русского фольклора.
Известно, что он собрал большую коллекцию разбойничьих песен и готовил ее к изданию, но по цензурным соображениям сборник так и не вышел, в конце концов бесследно исчезнув. Вообще сведений о Николае Григорьевиче Цыганове очень мало и они противоречивы.
Точно известно только дата его рождения (1897), то, что он в 19 лет поступил в Саратовскую бродячую труппу и вместе с театром странствовал двенадцать лет. Потом его увидел писатель Загоскин и стал хлопотать, чтобы Цыганова приняли в труппу Малого театра в Москве.
Актером он был, правда, не самых выдающихся способностей, часто злоупотреблял загулами, но в театре его любили за искренность, доброту и за то, что всегда был на месте. В Малом театре поэт прослужил всего три года, до самой смерти. Умер он в 34, от холеры. Именно московский период сделал его знаменитым, а его песни запели по всей стране – от дворянских усадеб до крестьянских изб.
Не кукушечка во сыром бору
Жалобнёхонько
Вскуковала -
А молодушка в светлом терему
Тяжелёхонько
Простонала.
Не ясен сокол по поднебесью
За лебедками
Залетался -
Добрый молодец, по безразумью,
За красотками
Зашатался!..
Ясну соколу быть поиману,
Обескрылену,
Во неволе…
Добру молодцу быть в солдатушках
Обезглавлену
В ратном поле.
Списки со стихами-песнями переходили из рук в руки, пока окончательно не теряли авторство и не становились народными. Параллельно с Малым театром Цыганов выступал в качестве оперного солиста в Большом.
Но основная его жизнь проходила в среде актеров Малого, в котором сложился кружок любителей народной песни. Здесь поэт познакомился с Ф.А.Кони, редактором ж. "Репертуар", актерами Щепкиным и Мочаловым, композитором Верстовским, Варламовым и другими, писавшими потом музыку на его стихи. Ф.А. Кони был близким другом поэта и вспоминал о нем с особой теплотой:
"Цыганов был замечательный русский поэт. Он исходил почти всю Россию, чтоб подслушать родные звуки у русского человека в скорбный и веселый час. Он записывал их песни, подмечал оригинальные выражения и имел особенный такт отличать чисто национальные перлы в русских песнях от искусственной подделки под национальность...
В поэтическом отношении, по созданию песен, Цыганов стоял гораздо выше барона Дельвига... Ранняя смерть не дозволила Цыганову обнародовать богатого собрания волжских разбойничьих песен, которые ему удалось подслушать и отыскать в низовых губерниях, а русская литература потеряла через то чудесный материал для народной баллады..."
Все песни Н.Г.Цыганова одного жанра, который тогда назывался «русской песней». Это была стилизация фольклора. За основу брались уже существующие народные песни, которые поэт потом переделывал или развивал известный сюжет. Темы, звучавшие в них - несчастная любовь, неудавшийся брак, тяжелая женская доля, разлука, смерть, неволя.
Ох, болит
Да щемит
Ретиво сердечко -
Всё по нём,
По моём
По мило;м дружечке!
Он сердит,
Не глядит
На меня, девицу,-
Всё корит
Да бранит,
Взносит небылицу:
Будто днём
Соловьём
По садам летаю,
Не об нём,
Об ином,
Звонко распеваю!
Читаешь его стихи, и понимаешь, почему они становились народными песнями. Простота, искренность, теплота, задушевность, горькая до отчаяния заунывность делали их близкими народу. Изысканные стихи Дельвига, на стихи которого писали музыку Альябьев, Глинка и Даргомыжский, в народе не прижились. Они писались для дворян.
Цыганов был предшественником Кольцова, поэта известного, но, надо признать, что русская песня Цыганова была гораздо популярнее песен Кольцова: первые - стихи для пения, вторые – песни для чтения. Но именно с этими двумя поэтами связан расцвет русской песни.
Течет речка по песочку,
Через речку – мостик;
Через мост лежит дорожка
К сударушке в гости!
Ехать мостом, ехать мостом,
Аль водою плыти -
А нельзя, чтоб у любезной
В гостях мне не быти!
Не поеду же я мостом -
Поищу я броду…
Не пропустят злые люди
Славы по народу…
Худа слава – не забава…
Что в ней за утеха?
А с любезной повидаться -
Речка не помеха.