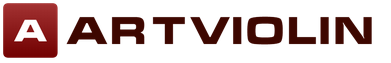«Душенька». Центральным, лучшим произведением Богдановича, доставившим ему славу, была «Душенька». Она создавалась в ту пору, когда Богданович не стал еще окончательно «шинельным» поэтом, но когда начался уже его отход от передовых взглядов и стремлений его молодости. Богданович писал ее в середине, вернее, во второй половине 1770-х годов. Первая «книга» поэмы была издана в 1778 г. (с названием «Душенькины похождения»); следует думать, что остальные части поэмы не были еще тогда готовы. Полностью поэма вышла в свет только в 1783 г. (Богданович производил стилистическую правку текста поэмы и в последующих изданиях ее – 1794 и 1799 гг.). Переходное состояние творчества Богдановича наложило свой отпечаток на его поэму.
«Душенька» выросла на основе стилистической традиции школы Хераскова; она многим обязана и стилистике басни (самый стих поэмы, разностопный ямб, связывал ее с басней), и опыту легкого рассказа повестушек в стихах Хераскова, и отчасти героикомической поэме. Свободная речь рассказчика укладывается в привычные формулы, выработанные поэзией школы Хераскова. Но поэтическая система, воспринятая Богдановичем смолоду, в его поэме начинает перестраиваться, служить иным идеологическим и эстетическим задачам.
«Душенька», как и героикомические поэмы, снижает царей, богов и героев античного мира, но она не «груба», в ней нет своеобразного реализма «Елисея», нет «низкой» натуры, нет ямщиков-мужиков. Богданович стремится в «Душеньке» к изяществу салонной игривости, как он стремится к пасторальной изысканности придворного балета в своей любовной лирике (песнях, идиллиях). Самая эротика его поэмы иная, чем в «Елисее», – не полнокровная полубарковщина «Елисея», а гривуазность салонного флирта.
«Душенька», как и поэма Майкова, несмотря на свой мифологический сюжет, не лишена полемических выпадов литературного характера и вообще элементов злободневности, нарушающих ее античную декорацию. Но Богданович хочет быть «аполитичным» в своей поэме, т.е. воздерживается от социальной и политической критики и учительности. В канву рассказа о древних греках вплетаются мотивы великосветской современности. Греческие персонажи неприметно превращаются у Богдановича в вельмож или царей его эпохи, и окружение их подменяется окружением петербургского или царскосельского дворцового празднества. Описание очарованного дворца Амура становится прославлением дворцов и парков российской самодержицы. Античный миф дается не всерьез, а в травестированном виде, в тонах безобидной шутки дамского угодника и льстеца. Весь аппарат образов и мифологии Богдановича связывается с представлениями о балетах, праздниках, о живописи и скульптуре, украшавших дворец.
Сама героиня поэмы нередко становится похожей на комплиментарный портрет Екатерины II (см., например, описание портрета Душеньки во II книге, напоминающее известный портрет Екатерины верхом на лошади). Богданович включает в поэму и комплиментарный намек на московский маскарад 1763 г. «Торжествующая Минерва» и намек на организацию на счет Екатерины «Собрания, старающегося о переводе иностранных книг». Душенька стала читать:
Переводы
Известнейших творцов;
Но часто их она не разумела,
И для того велела
Исправным слогом вновь Амурам
перевесть,
Чтоб можно было их без тягости
прочесть.
Зефиры, наконец, царевне приносили
Различные листки, которые на свет
Из самых древних лет
Между полезными предерзко
выходили,
И кипами грозили
Тягчить усильно Геликон.
Царевна, знав, кому неведом был
закон,
Листомарателей свобод не нарушала,
Но их творений не читала.
В таком издевочно-игривом тоне говорит Богданович (в последних стихах приведенного отрывка) о борьбе прогрессивной журналистики с официальной в 1769–1773 гг. «Различные листки», которые «предерзко выходили», – это, конечно, сатирические листки Новикова и т.п., а «полезные» листки, выходившие тогда же, – само собой, «Всякая всячина».
Салонный стиль «Душеньки» поглощает без остатка мысль, лежавшую в основе античного мифа об Амуре и Психее, о любви души (ψυχή– по-гречески – душа; отсюда и имя героини Богдановича). Богданович следовал в своей поэме изложению не Апулея в его «Золотом осле», а роману Лафонтена «Любовь Психеи и Купидона» (1669), написанному прозой со стихотворными вставками. Но Лафонтен, стремясь к предельной простоте рассказа, задавался целью воссоздать дух античности, как он ее понимал. Богдановича не интересуют ни античность, ни миф сами по себе. Он пишет изящную сказку, и его задача – увести читателя от больших и серьезных проблем в светлый, веселый мир шутки, легких чувств, безобидных горестей, розового света. Поэтому вся его поэма от начала до конца шутлива, иронична. Он низвергает своей усмешкой все идейные кумиры. Он смеется над людьми и над богами, над любовью и над страданием, над Венерой и даже иной раз над самой Душенькой. При этом его смех – не сатирический смех отрицающего сознания; это смех спокойный и безразличный. Богданович не верит больше ни в какие идеалы: он верит только в смех, в возможность забыться, в то, что можно заполнить эстетизмом пропасть в душе, заменить улыбкой, позой и любованием фикциями настоящую жизнь.
Вот, например, царь, отец Душеньки, в глубоком горе расстается с дочерью, которую он принужден оставить на таинственной горе в добычу неизвестному чудищу:
И напоследок царь, согнутый скорбью в крюк,
Насильно вырван был у дочери из рук.
Так же легко и шуточно изображены мифологические божества, например, Амуры услужают Душеньке:
Иной во кравчих был, другой носил посуду,
Иной уставливал, и всяк совался всюду;
И тот считал себе за превысоку честь,
Кому из рук своих домова их богиня
Полрюмки нектару изволила поднесть.
И многие пред ней стояли рот разиня:
Хоть Амуры в том,
По правде, жадными отнюдь не почитались,
И боле нежели вином
Царевны зрением в то время услаждались.
Совсем забавно рассказано в поэме о том, как Душенька, изгнанная из дворца Амура, решилась окончить жизнь самоубийством, – но неудачно, так как заботливое божество отстраняло от нее все виды смерти. Наконец, Душеньку встретил старик-рыбак:
Но кто ты старец, воспросил.
“Я Душечка… люблю Амура…”
Потом заплакала, как дура,
Потом, без дальних с нею слов,
Заплакал вместе рыболов,
И сней взрыдала вся Натура.
Так забавляют Богдановича самые слезы.
Богданович шел иным путем, чем Муравьев, но он пришел, в сущности, к тому же; Муравьев говорил, что сладостные красоты искусства – это то, «что создал бог для украшения пустой вселенной». Этим украшением и занимается Богданович; и для него все равно – комплиментировать ли Екатерину или нет. Для него его поэма – только сказка, игра опустошенного ума, «легкая игра воображения», как определил «Душеньку» Карамзин, и все образы сказки для него безразличны, равно фиктивны, равно иллюзорны.
Поэтому Богданович вспоминает о морали своей сказки, о смысле ее сюжета только тогда, когда пришло время уже кончать ее; Поэтому он так мало занят сюжетом мифа и больше всего уделяет места и искусства описаниям очаровательного мечтательного мира сказки, блаженных садов и т.п. Поэтому, хотя он иногда довольно близко следует за изложением Лафонтена, он создает оригинальное произведение, потому что стиль, детали, тон – все у него свое, а в стиле, деталях и тоне весь смысл поэмы как выражения эстетизма упадочнического толка. Читатель, уже имевший в то время в руках в русском переводе и роман Апулея (перевод Е.И. Кострова, 1780), и роман Лафонтена (перевод Ф. Дмитриева-Мамонова, 1769), мог без труда увидеть сам различие трактовки единого сюжета у всех трех писателей.
Таким образом, стремление Богдановича к изяществу и легкости во что бы то ни стало, его эстетизм явились проявлением глубокого кризиса дворянского самосознания и литературы. В то же время в «Душеньке» Богданович не опустился в то болото пошлости, в которое его втянули потом его официальные связи и успехи. В этом своем шедевре он еще был мастером стиха, искусство которого выросло на основе традиции, шедшей от Сумарокова через творчество Хераскова и всей его школы. Наряду с «Россиадой» и «Душенька» в отношении мастерства, слога и стиха была предельным достижением этой школы, причем Богданович использует весь накопленный за четверть века опыт своих учителей в специфическом направлении – именно в целях создания легкой, свободной поэтической речи. Освобождая свое искусство от задач активной общественной борьбы, он сосредоточивается на разрешении задач выразительной гибкости языка, на всем протяжении поэмы сохраняя камерный, интимно-разговорный тон, не поднимаясь к величию «Россиады» и не опускаясь до «простонародной» грубоватости сумароковских басен. Этот «средний», сглаженный, несколько жеманный язык стихотворства, впервые разработанный в большой форме Богдановичем, сыграл большую роль в истории русского словесного искусства. Он оказал немалое влияние на Карамзина и на Дмитриева, он подготовил «легкую» поэзию начала XIX века вплоть до Батюшкова, недаром высоко ценившего «Душеньку».
Богданович научил русских поэтов передавать стихами весьма тонкие оттенки темы, создавать изящные узоры-картины, не реальные, но не чуждые эмоционального обаяния. Прямолинейная четкость анализа Сумарокова уступает в «Душеньке» место созданию общего синтетического представления, не «разумного», но стремящегося воздействовать на фантазию. Богданович создает в «Душеньке» особый язык поэзии, поэтичности, эстетического самоуслаждения, язык «приятности»; оттого у него так часты слова вроде «прелестный», «нежный», «украдкою», «благоприятный», «сладкий»; оттого он ищет благозвучной, уравновешенной фразы с изящной отделкой. Вся эта эфемерная стихия поэтического изящества не имеет никакого касательства к полнокровной стихии народного искусства. Богданович и не стремится, творя сказку, писать русскую сказку. Но он пользуется некоторыми русскими мотивами, если они нужны ему как материал, включаемый в космополитическую ткань «легкой» поэзии изысканных салонных интеллигентов. Поэтому в «Душеньке» есть и «Змей Горынич», и Кащей, правда, нимало не похожие на настоящих сказочных, – и стоят они рядом с Аполлоном, Дианой, Парисом; есть в ней и сарафан рядом с мраморными статуями, колесницей, оракулом, благовонными мылами и т.д. Для Богдановича и Кащей, и Аполлон, и оракул, и сарафан, и сказка, и миф, и пародия на подьяческий протокол, и шутка, и слова любви – все в мире потеряло свое подлинное значение: для него существует только мечта о красоте, о легких фантазиях, спасающих от реальности.
Белинский писал в «Литературных мечтаниях» о «Душеньке»:
«Подражатели Ломоносова, Державина и Хераскова оглушили всех громким одолением; уже начинали думать, что русский язык не способен к так называемой легкой поэзии, которая так цвела у французов, и вот в это-то время является человек с сказкою, написанною языком простым, естественным и шутливым, слогом, по тогдашнему времени, удивительно легким и плавным; все были изумлены и обрадованы. Вот причина необыкновенного успеха «Душеньки», которая, впрочем, не без достоинств, не без таланта». Впрочем, уже в статье «Русская литература в 1841 году» Белинский называл «Душеньку» «тяжелою и неуклюжею», а еще раньше, в заметке о «Душеньке» (1841), писал: «Что же такое в самом-то деле эта препрославленная, эта пресловутая «Душенька»? – Да ничего, ровно ничего: сказка, написанная тяжелыми стихами... лишенная всякой поэзии, совершенно чуждая игривости, грации, остроумия».
Ипполит Федорович Богданович(1743-1803) вошел в историю русской литературы как автор ирои-комической поэмы-сказки «Душенька». Написанная в 1775 г . (первая часть), поэма была полностью опубликована в 1783 г . «Душенька» с ее иронией по отношению к мифологическим героям и сюжетам знаменовала идейно-эстетический кризис классицизма. Содержание «Душеньки» составляет античный миф о любви Амура и Психеи , получивший литературную обработку в романе римского писателя Апулея «Золотой осел» (II в. Н.э), а затем в XVII в. у Лафонтена («Любовь Психеи и Купидона»). Богданович русифицировал чужеземный сюжет. Он сохраняет все основные черты мифа. Перелицовка этого рассказа заключена в самом тоне, в шутливо-иронической манере изложения. Именно так изображены образы античной мифологи, они причудливо смешиваются с персонажами русских сказок. В «Душеньке» нет демонстративно-нарочитой грубости, но ирония и скепсис автора доминируют над всем, не щадя ни богов, ни людей, и даже самой героини поэмы при всем покровительственно-ласковом к ней отношении поэта. В поэму обильно включены элементы русского сказочного фольклора, переплетенного с древнегреческой мифологией. Например, меч, которым Геркулес «у гидры девять глав отсек», хранится в «арсенале» Кащея и называется Самосеком.
Сама Душенька потеряла черты древней Психеи. Героиня Богдановича живая, кокетливая и капризная. Автор изображает ее с легкой иронией. Ей свойственны традиционно-женские недостатки: любовью к нарядам, тщеславию, любопытству, легковерие (можно подумать, мужчины не страдают тщеславием, тоже мне…женские недостатки) .
В «Душеньке» нет ни философской глубины античного мифа, ни мудрой непосредственности русских народных сказок. Поэма не умещается в рамках поэтики классицизма, являясь симптомом назревавших литературных сдвигов, формировавшегося в недрах самого классицизма нового литерат. направления – русского дворянского сентиментализма.
Ни Ахиллесов гнев и не осаду Трои,
Где в шуме вечных ссор кончали дни герои,
Но Душеньку пою.
Богданович придает «Душеньке» и новое жанровое обозначение «древняя повесть».
Поэма написана вольным, разностопным ямбом, со свободной и разнообразной рифмовкой. В общем, можно сказать, что это первая поэма-представительница легкой поэзии, семейный любовный роман в стихах.
Чтобы вы поняли, что это за ерунда:
«Я, Душенька… люблю Амура…»
Потом заплакала, как дура;
Потом, без дальних с нею слов,
Заплакал вместе рыболов
И с ней взрыдала вся натура.
Краткое содержание «Душеньки»:
Жила-была девочка Душенька и была она настолько прекрасна, что разгневала своей красотою Венеру. Пошла тогда Венера к Амуру и, собрав «ложь и всяку небылицу», начала говорить ему всякую ересь о Душеньке. И попросила Венера Амура «Соделать Душеньку постылую вовек», короче, чтобы к ней женихи не ходили и чтоб никто не решался взять ее в жены. Так и случилось. Душенька страдала и решила уйти из дома. Шаталась она где попало, а потом… «Невидимый Зефир на «крыльях ветреных» переносит Душеньку в роскошные чертоги.» По ночам к девушке является влюбленный Амур, но не позволяет ей себя лицезреть. А потом любопытную Душеньку завидующие ей злые две сестрицы, которых Зефир приносит по её просьбе в Амуров дворец, подбивают посмотреть - не змей ли ужасный муж её, и если так и будет, убить его; для чего Зефиры приносят Душеньке во дворец Меч-Самосек и масляную лампу; ночью Душенька зажигает лампу и рассматривает мужа, восхищаясь, какой у неё прекрасный супруг, но случайно проливает горячего масла из лампы на Амура, и тот просыпается, видит меч у ног жены, гневается. И была она жестоко наказана – Зефиры вернули ее назад («из горних мест к земли, туда, откуда взяли»). И вот тогда начались страдания любопытной. Пыталась она совершить самоубийство, даже много раз. Но Амур-то ее не забыл, и тайно за ней следил, и спасал ее. Сначала она с гор прыгнула, ее Зефир поймал. Потом «Зарежуся! – вскричала; но не было у ней кинжала», потом хотела камнями заколоться, а они, как назло, в хлеб превращались. Вешалась на деревьях, но все суки (су ки!) склоняли ее к земле. Дальше: «Не могши к дубу прицепиться, она решила утопиться». Но прыгнув попала на щуку и та ее прокатила по волнам. Ну и наконец последний способ желанного самоубийства – сгореть в костре. Нашла какой-то костер в лесу, зашла в него, и он тут же потух. В этом же лесу она встречает рыболова (когда плачет как дура – см. выше), который ей рассказывает, почему ее все так ненавидят. И тогда любопытная идет к Венере вымаливать прощения. Та ее посылает на всякие разные подвиги, где Душенька теряет свою красоту. Короче, Амур за нее заступается, потому что любит душу Душеньки, и все кончается хорошо. Красота возвращается, Душенька и Амур живут долго и счастливо и рождается у них дочь. Конец сказочки.
Ирои-комическая поэма И. Ф. Богдановича «Душенька». Эстетический смысл интерпретации «чужого» сюжета
Поэму «Душенька» И. Ф. Богданович закончил в 1775 г., первая песня поэмы была опубликована в 1778 г.; полный текст в 1783 г. И самое первое, что, вероятно, бросилось в глаза первым читателям «Душеньки», – а поэма Богдановича была очень популярна – это принципиально новая эстетическая позиция, с которой поэма написана. Богданович демонстративно противопоставил свое легкое, изящное, не претендующее на нравоучение и мораль сочинение еще вполне устойчивым взглядам на литературу как «училище нравственности»: «Собственная забава в праздные часы была единственным моим побуждением, когда я начал писать “Душеньку”» , – так сам Богданович обозначил свою эстетическую позицию, которую в точном и прямом смысле слова можно назвать именно «эстетической».
«Душенька» – это один из первых образцов не то чтобы развлекательного чтения; это произведение, имеющее конечным результатом своего воздействия на читателя именно эстетическое наслаждение в чистом виде без всяких посторонних целей.
Эта эстетическая позиция определила и выбор сюжета для бурлескной поэмы Богдановича: его источником стал один из неканонических греческих мифов, вернее, литературная стилизация под миф – история любви Амура и Психеи, изложенная в качестве вставной новеллы в романе Апулея «Золотой осел» и переведенная на французский язык знаменитым баснописцем Жаном Лафонтеном в прозе с многочисленными стихотворными вставками. К тому времени, когда Богданович обратился к этому сюжету, и русский перевод романа Апулея «Золотой осел», и перевод повести-поэмы Лафонтена «Любовь Псиши и Купидона» уже были известны русскому читателю. Следовательно, приступая к созданию своей поэмы, Богданович руководствовался не задачей ознакомления русского читателя с новым сюжетом или, тем более, не целями преподавания нравственных уроков. Скорее, здесь шла речь о своеобразном творческом соревновании, индивидуальной авторской интерпретации известного сюжета, закономерно выдвигающей в центр поэтики такой интерпретации индивидуальный авторский стиль и индивидуальное поэтическое сознание.
Подобный индивидуальный подход к жанру поэмы-бурлеска обусловил своеобразие его форм в поэме Богдановича. Такие традиционные категории бурлеска как игра несоответствием высокого и низкого в плане сочетания сюжета и стиля поэме Богдановича совершенно чужды: «Душенька» не является пародией героического эпоса, герои поэмы – земные люди и олимпийские божества не травестированы через высокий или низкий стиль повествования. И первым же знаком отказа от обычных приемов бурлеска стал у Богдановича оригинальный метр, избранный им для своей поэмы и в принципе лишенный к этому времени каких-либо прочных жанровых ассоциаций (за исключением, может быть, только ассоциации с жанром басни) – разностопный (вольный) ямб, с варьированием количества стоп в стихе от трех до шести, с весьма прихотливой и разнообразной рифмовкой. В целом же стиль поэмы, а также ее стих Богданович точно определил сам: «простота и вольность» – эти понятия являются не только характеристикой авторской позиции, но и стиля, и стиха поэмы.
Бурлескность поэмы Богдановича заключается совсем в другом плане повествования, и общее направление бурлеска предсказано тем именем, которое поэт дает своей героине. У Апулея и Лафонтена она называется Психея, по-русски – душа. Богданович же назвал свою героиню «Душенькой», буквально переведя греческое слово и придав ему ласкательную форму.
Сквозь стилизацию под миф в романе Апулея, сквозь классицистическую условность лафонтеновской Греции Богданович почувствовал фольклорную природу мифологического сюжета. И именно этот фольклорный характер мифа об Амуре и Психее Богданович и попытался воспроизвести в своей русской поэме на античный сюжет, подыскав в русском фольклоре жанр, наиболее приближающийся к поэтике мифа. Нужно ли говорить, что этим жанром является русская волшебная сказка, которая в своей формально-содержательной структуре характеризуется такой же сюжетно-тематической устойчивостью и специфической типологией персонажной и пространственно-временной образности, как и мифологический миро-образ? Целый ряд таких типологических признаков особого мира русской волшебной сказки – топографию, географию, народонаселение, состав героев – Богданович ввел в свою интерпретацию апулеевского сюжета.
И при малейшей возможности функционального или образного совпадения какого-либо сюжетного или образного мотива русской сказки с мифологическим общим местом Богданович не упускает случая ввести его в ткань своего повествования и сослаться на источник: волшебную сказку. Так, меч, которым злые сестры уговаривают Душеньку убить своего чудовищного супруга, хранится в «Кащеевом арсенале» и «в сказках назван Самосек» (466); да и все второстепенные персонажи поэмы четко делятся на вредителей и дарителей в своих отношениях к Душеньке.
В результате получается прихотливый, но органичный синтез двух родственных фольклорных жанров, принадлежащих ментальности разных народов, греческого мифа и русской волшебной сказки, травестийный по своей природе.
Бытовая атмосфера, воссозданная в поэме-сказке Богдановича, своим конкретным содержанием нисколько не похожа на густой бытовой колорит жизни социальных низов, составляющий бытописательный пласт в романе Чулкова или поэме Майкова. Но как литературный прием бытописание Богдановича, воссоздающее типичную атмосферу бытового дворянского обихода и уклада, ничем от бытописания в демократическом романе или бурлескной поэме не отличается: это такая же внешняя, материальная, достоверная среда, в которую погружена духовная жизнь человека. Тем более, что в поэме-сказке это подчеркнуто через использование традиционных мотивов вещно-бытового мирообраза – еды, одежды и денег, которые тоже лишаются своей отрицательной знаковой функции в том эстетизированном облике, который придает им Богданович: еда – роскошно накрытый пиршественный стол; одежда – великолепные наряды, деньги – сверкающие драгоценности.
Активность авторского начала проявлена, прежде всего, в интонационном плане повествования. Лиризмом пронизана вся атмосфера повествования в «Душеньке» и преимущественный способ его выражения – непосредственное включение авторского голоса, опыта и мнения в описательные элементы сюжета. Прямые авторские обращения к героям, которые сопровождают поворотные моменты сюжета и иногда поднимаются до подлинной патетики. Таково, например, непосредственное включение авторского голоса в ткань повествования в тот момент, когда Душенька узнает от зефира на посылках о том, что ее сестры ищут свидания с нею.
Непосредственные всплески авторского чувства подчеркивают основную тональность повествования – тональность мягкой иронии, порожденной самим образом Душеньки – «Венеры в сарафане», окруженной достоверной бытовой средой русской дворянской жизни XVIII в
Обращение к читателю, который благодаря им входит в образный строй поэмы на правах полноценного участника событий, буквально насквозь пронизывают текст поэмы в устойчивых формулах: «Читатель сам себе представит то удобно» (452), «Читатель сам себе представит то умом» (457), «Читатель должен знать сначала» (479), «Конечно, в том меня читатели простят» (461).
При всем игровом характере подобного типа отношений между автором и читателем – потому что, конечно же, автор и знает, и может несравненно больше в области словесного творчества, у читателя все-таки создается впечатление некоего равенства с поэтом и персонажем в сфере воображения, домысливания сюжета и его деталей. О том, что именно этот эффект, впервые найденный и апробированный Богдановичем в поэзии, стал для него главным в поэме-сказке, – эффект организации читательского восприятия в совместной игре воображения, рождающей ощущение, что читатель знает и может больше автора , – свидетельствует финал поэмы.
24. Раннее творчество И. Крылова. Традиции русской сатирической публицистики в «Почте духов» Пародийные жанры «ложного панегирика» и «восточной повести». Шутотрагедия «Подщипа»: литературная пародия и политический памфлет.
Раннее творчество И. А. Крылова (1769-1844)
Творчество Ивана Андреевича Крылова четко распадается на две приблизительно равных в хронологическом отношении, но противоположных по своим этико-эстетическим установкам периода. Крылов-писатель XVIII в. – это тотальный отрицатель, сатирик и пародист; Крылов-баснописец века XIX, хотя он и унаследовал национальную традицию понимания басни как сатирического жанра, все-таки утверждает своими баснями моральные истины, поскольку от природы басня является утвердительным жанром (апологом). При этом творчество молодого Крылова в XVIII в. обладает двойной историко-литературной ценностью: и самостоятельной, и перспективной, как постепенное становление тех форм и приемов творческой манеры, которые сделали имя Крылова своеобразным синонимом национальных эстетических представлений о жанре басни.
Крылов начал писать очень рано: первое его литературное произведение, комическая опера «Кофейница», создано, когда ему было 14 лет; и другие его ранние литературные опыты тоже связаны с театром и жанром комедии. Но подлинный литературный дебют Крылова состоялся в 1789 г., когда он начал издавать сатирический журнал одного автора «Почта духов».
Традиции русской сатирической публицистики в «Почте духов»
В общей композиции «Почты духов» и двуплановой картине мира, которая создается в журнале Крылова, вновь оживают типологически устойчивые мирообразы русской литературы: сатирико-комедийный бытовой и одо-трагедийный идеологический, воспринятые сквозь призму сатирической публицистики 1769-1774 гг
Теоретическое рассуждение о сатире и сатирике отливается у Крылова в формах речи, предельно приближенных к панегирическому стилю «похвального слова» и тождественных по своей утвердительной установке жанру торжественной оды.
Пародийные жанры «ложного панегирика» и «восточной повести»
После преждевременного прекращения «Почты духов» Крылов два года не занимался журнальной деятельностью. В 1792 г., вместе со своими друзьями, литератором А. И. Клушиным, актером И. А. Дмитревским, драматургом и актером П. А. Плавильщиковым, Крылов начал издавать сатирический журнал «Зритель». Именно на страницах «Зрителя» были опубликованы знаменитые «ложные панегирики» Крылова – «Речь, говоренная повесою в собрании дураков», «Похвальная речь науке убивать время», «Похвальная речь в память моему дедушке», а также восточная повесть «Каиб».
Жанр ложного панегирика в сатире Крылова имеет глубоко символическое историко-литературное значение. В конце века жанр панегирического ораторского слова обретает в творчестве Крылова пародийные функции: каноническую жанровую форму ораторской речи Крылов использует для создания бытового сатирического мирообраза с отрицательной установкой.
Ложные панегирики Крылова, совмещающие в себе апологетическую интонацию с образом объекта речи, этически недостойного похвалы, представляют собой еще один жанровый вариант бурлеска – извлечение комического эффекта из несоответствия формы и содержания. Однако этот бурлеск не столь невинен, как ирои-комические поэмы: традиционно и генетически ораторское панегирическое Слово посвящалось монарху. Делая героями своих ложных панегириков повес, дураков, петиметров, провинциальных дворян – прямых наследников фонвизинских персонажей, Крылов шутил очень опасно, поскольку на втором ассоциативном плане высокой формы, соединенной с низким содержанием, подспудно присутствовала идея сатирической дискредитации власти даже и при условии, что эта идея в тексте ложного панегирика никак словесно не реализована.
Риторические приемы – обращения, восклицания, вопрошения и инверсия, оформляющие внешним интонационным рисунком типичный сатирический зоологизированный образ дворянина, неотличимого от собаки или лошади, порождают в ходе ложного панегирика два параллельно развивающихся мотива.
На стыке двух противоположных жанровых закономерностей, от одной из которых заимствован стиль, а от другой – типология образности и содержание, возникает эффект двойной дискредитации: высокий стиль официального панегирика дискредитирован фактом его применения к этически недостойному похвалы объекту, отрицательный смысл образа объекта усилен и подчеркнут несоответствующим стилем: преувеличенная похвала – это всегда насмешка. И само высокое содержание официального панегирика, понятие идеальной власти, тоже не остается без ущерба, хотя в ложном панегирике оно никак словесно не оформлено и остается только на ассоциативном плане текста.
Повесть «Каиб» была напечатана в 1792 г. в журнале «Зритель» и явилась пародическим использованием жанровой формы традиционной литературно-политической утопии – восточной повести . Композиционно повесть распадается на две части: в первой содержится характеристика Каиба как просвещенного монарха, во второй развивается условно-фантастический мотив путешествия монарха по своей стране инкогнито, почерпнутый из арабских сказок о Гаруне аль Рашиде; причем в ходе этого путешествия, видя собственными глазами жизнь своих подданных, Каиб избавляется от своих заблуждений и становится идеальным властителем. И в обеих частях повести очевидна систематическая дискредитация устойчивых литературных приемов создания образа идеального властителя.
В глазах русских просветителей неотъемлемым свойством идеального монарха было покровительство наукам и искусствам. Каиб покровительствует наукам и искусствам на свой особый лад.
Вторая композиционная часть повести развивает условно-сказочный сюжет странствия Каиба по своему царству. Здесь есть все традиционные мотивы арабской волшебной сказки: превращение мышки в прекрасную фею, волшебный перстень с пророчеством об условиях, при которых его обладатель будет счастлив, предсказание во сне, кукла из слоновой кости, заменяющая Каиба во дворце во время его отсутствия, поиски человека, который будет так же сильно любить Каиба, как ненавидеть его, и тому подобное..
Систематическая дискредитация идеи просвещенного монарха сопровождается столь же систематическим пародированием традиционных литературных жанров, имеющих дело с идеальной реальностью: оды как формы воплощения идеала бытийного, и идиллии как формы воплощения идеала бытового:
Жанр восточной повести тоже дискредитируется в своей идеальной утопичности. История перерождения Каиба в идеального монарха начинает восприниматься как литературный штамп, совершенно подобный условности арабской сказки, ирреальности облика одического героя и идиллической невещественности литературного пастушка. От разрушительных последствий крыловской иронии уцелел только конкретно-бытовой жанр сатиры, стремящейся к максимальной жизнеподобности своего мирообраза.
Через два года после публикации радищевского «Путешествия из Петербурга в Москву» и в тот самый год, когда начал систематически публиковать свои «Письма русского путешественника» Карамзин, Крылов тоже внес свой вклад в русскую литературу путешествий. И все три, казалось бы, столь разные, жанровые модификации путешествия – радищевское путешествие по социально-политической карте России, карамзинское путешествие по странам Западной Европы, крыловское путешествие по миру литературных условностей и штампов – оказываются поразительно одинаковы по своему общему результату.
Итогом путешествия каждый раз оказывается ясное зрение, умение отличать истину от лжи, условность от реальности, обретение самосознания и самостоятельной жизненной позиции, с той только разницей, что у Радищева и Карамзина это происходит с героями-путешественниками, а у Крылова – с читателем, поскольку прозрение Каиба имеет характер литературной условности, которая зато очень хорошо видна читателю. В этом смысле можно сказать, что именно смеховая, пародийная природа крыловской модификации романного мотива путешествия и универсальность сатирического мирообраза, вобравшего в себя к концу века все характерные приемы миромоделирования высоких жанров, обеспечивают освобождение от иллюзий на всех уровнях субъектно-объектной организации текста: авторское ясновидение сообщается читателю именно через очевидную условность и пародийность прозрения героя.
Шутотрагедия «Подщипа»: литературная пародия и политический памфлет
Всем ходом эволюции творчества Крылова 1780-1790-х гг., систематической дискредитацией высоких идеологических жанров панегирика и торжественной оды была подготовлена его драматическая шутка «Подщипа», жанр которой Крылов обозначил как «шутотрагедия» и которая по времени своего создания (1800 г.) символически замыкает русскую драматургию и литературу XVIII в. По справедливому замечанию П. Н. Беркова, «Крылов нашел изумительно удачную форму – сочетание принципов народного театра, народных игрищ с формой классической трагедии» . Таким образом, фарсовый комизм народного игрища, традиционно непочтительного по отношению к властям предержащим, оказался способом дискредитации политической проблематики и доктрины идеального монарха, неразрывно ассоциативной в национальном эстетическом сознании жанровой форме трагедии.
Крылов задумал и написал свою пьесу в тот период жизни, когда он практически покинул столичную литературную арену и жил в имении опального князя С. Ф. Голицына в качестве учителя его детей. Таким образом, пьеса была «событием не столько литературным, сколько житейским» . И это низведение словесности в быт предопределило поэтику шутотрагедии.
Прежде всего, густой бытовой колорит заметен в пародийном плане шутотрагедии. Крылов тщательно соблюдает каноническую форму трагедии классицизма – александрийский стих, но в качестве фарсового приема речевого комизма пользуется типично комедийным приемом: имитацией дефекта речи (ср. макаронический язык галломанов в комедиях Сумарокова и Фонвизина) и иностранного акцента (ср. фонвизинского Вральмана в «Недоросле») в речевых характеристиках князя Слюняя и немца Трумфа.
Конфликт шутотрагедии представляет собой пародийное переосмысление конфликта трагедии Сумарокова «Хорев». В числе персонажей обеих произведений присутствуют сверженный монарх и его победитель (Завлох и Кий в «Хореве», царь Вакула и Трумф в «Подщипе»), но только Завлох всячески препятствует взаимной любви своей дочери Оснельды к Хореву, наследнику Кия, а царь Вакула изо всех сил пытается принудить свою дочь Подщипу к браку с Трумфом, чтобы спасти собственную жизнь и жизнь Слюняя. Если Оснельда готова расстаться со своей жизнью и любовью ради жизни и чести Хорева, то Подщипа готова пожертвовать жизнью Слюняя ради своей к нему любви.
Как справедливо заметили исследователи театра Крылова, «техника трагического и техника фарсового конфликта в основе своей схожи – обе состоят в максимальном обострении и реализации в действии внутренних драматических противоречий. Но трагический конфликт необходимо связан с победой духа над плотью, а фарсовый – с победой плоти над духом. В шутотрагедии оба плана совмещены: чем выше парит дух, тем комичнее предает его плоть» .
Бедствия, причиненные царству Вакулы нашествием Трумфа, наконец, и избавление царства Вакулы от нашествия Трумфа тоже носит нелепо-шутейный физиологический характер: цыганка подсыпала солдатам Трумфа «пурганцу во щи», войско занемогло животами и сложило оружие.
Этот пародийный фарсовый комизм столкновения высокой жизни духа идеологизированного трагедийного мирообраза с низменными плотскими мотивами обретает свой формально-содержательный аналог в бурлескном стиле шутотрагедии. В чеканную, каноническую форму афористического александрийского стиха Крылов заключает самые грубые просторечные выражения, чередуя их через стих, то есть рифмуя стих низкого стиля со стихом высокого, или даже разрывая один стих по цезуре на полустишия высокого и низкого слога.
Трудно сказать, была ли у Крылова изначальная установка на создание политической памфлетной сатиры, когда он приступал к работе над «Подщипой», хотя все исследователи, когда-либо обращавшиеся к шутотрагедии Крылова, говорят о том, что образ немчина Трумфа является политической карикатурой на Павла I, фанатически поклонявшегося прусским военным порядкам и императору Фридриху Вильгельму Прусскому. В любом случае, даже если у Крылова не было намерения написать политический памфлет, шутотрагедия «Подщипа» стала им хотя бы по той причине, что Крылов пародически воспользовался устойчивыми признаками жанра трагедии, политического в самой своей основе И высший уровень пародии – смысловой – наносит литературной условности традиционной трагедии окончательный сатирический удар.
Считается Ипполит Фёдорович Богданович (1743 – 1802). Его главное произведение: «Душенька».
Это – поэма шутливая, «легкая», – жанр, узаконенный еще древним миром (например, поэма: «Война мышей и лягушек »). В противоположность «серьезной» поэме, эта «шутливая» отличалась и легкостью содержания, и вольностью стиха.
На поэзию Богданович смотрит так:
Любя свободу я пою,
Не для похвал себе пою;
Но чтоб в часы прохлад, веселья и покоя
Приятно рассмеялась Хлоя!
В произведении Апулея главная идея заключается в том, что душа, погрязшая в чувственности, материи потом, благодаря посвящению в таинства, очищается и преображается. Душа женщины (Психея), утратив свою первоначальную чистоту, долженствовала как невольница Любви (Венеры) пройти ряд суровых испытаний, чтобы подняться до божественного жениха – Эрота (Купидона, Амура) .
Уже Лафонтен взял для своего романа из повести Апулея только эротическую фабулу, отбросив «идею». То же, следуя за Лафонтеном, сделал и Богданович.
Краткое содержание его стихотворной повести таково. Оракул предсказывает царю, отцу Душеньки, что его дочь выйдет замуж за чудовище; для исполнения воли богов она должна, быть отвезена на гору и там оставлена. Приказание оракула исполнено, и покинутая героиня делается женою чудовища. Она живет в богатом дворце, окружена богатством, но супруга своего не видит: он является к ней лишь ночью.
Узнать, кто он, она не смеет, так как предупреждена, что тогда лишится всех благ. Любопытство, однако, побеждает все. Она зажигает светильник, когда супруг её является к ней. Оказывается, он – сам бог Амур. За ослушание, Душенька лишается всех богатств и бродит одна в пустыне. Отчаянье заставляет ее искать средств к самоубийству, но Амур ее спасает всякий раз – и, наконец, она, раскаявшись, возвращает себе и богатства, и любовь мужа.
Мораль произведения, выраженная в заключительных словах Зевса : –
Закон времен творит прекрасный вид худым!
Наружный блеск в очах проходит так, как дым,
Но красоту души ничто не изменяет –
Она единая всегда и всех пленяет!
– осталась еще от греческого оригинала. Тем менее она вяжется с тем легким цинизмом, который, наслоившись на этот сюжет еще во Франции, делается подчас грубоватым под пером Богдановича. Самое остроумие, тонкое у Лафонтена, сделалось у русского поэта тяжелым. Горе отца, при разлуке с дочерью изображено, например, так:
И напоследок царь, согнутый скорбью в крюк,
Насильно вырван был у дочери из рук.
Блуждая в пустыне, Душенька встречает рыбака. Тот ее спрашивает, кто она; – она отвечает:
«Я – Душенька... Люблю Амура!»
Потом расплакалась, как дура...
Олимпийцы представлены в карикатурном виде:
А там, пред ней, Сатурн, без зуб, плешив и сед,
С обновою морщин на старолетней роже,
Старается забыть, что он – давнишний дед:
Прямит свой дряхлый стан, желает быть моложе,
Кудрит оставшие волос свои клочки
И видеть Душеньку вздевает он очки.
Сама героиня у Богдановича потеряла всю поэзию апулеевской Психеи и обратилась в пустую, капризную «щеголиху», любящую наряды и поклонников, ради богатств легко примиряющуюся с мыслью, что её супруг – чудовище. Любопытно, что в поэму Богдановича, кроме нескольких игривых народных сценок его собственного изобретения, вошли некоторые мотивы русских сказок («Кощей Бессмертный», «Царь-девица», «кисельные берега», «мертвая и живая вода»).
Впрочем, как к классицизму , так и к народной поэзии автор относится с насмешкой. Для нас, конечно, особенно важно, что и форма, и содержание этого произведения подрывают основы псевдоклассицизма, и героиня получает реальные черты живого существа.
Значение поэмы Богдановича признано было даже Белинским , увидевшим в ней «переходную ступень от громких, напыщенных од и тяжелых поэм, которые всех оглушали и удивляли, но никого не услаждали, – к более легкой поэзии, куда вводится комичный элемент, где высокое смешивается со смешным, как это есть в самой действительности, и сама поэзия становится ближе к жизни».
Карамзин с восторгом отозвался об этой поэме: «В 1775 году, – говорит он, – Богданович положил на алтарь Грации свою "Душеньку"... "Душенька" есть легкая игра воображения, основанная на одних правилах нежного вкуса, а для них нет
Центральным, лучшим произведением Богдановича, доставившим ему славу, была «Душенька». Она создавалась в ту пору, когда Богданович не стал еще окончательно «шинельным» поэтом, но когда начался уже его отход от передовых взглядов и стремлений его молодости. Богданович писал ее в середине, вернее, во второй половине 1770-х годов. Первая «книга» поэмы была издана в 1778 г. (с названием «Душенькины похождения»); следует думать, что остальные части поэмы не были еще тогда готовы. Полностью поэма вышла в свет только в 1783 г. (Богданович производил стилистическую правку текста поэмы и в последующих изданиях ее – 1794 и 1799 гг.). Переходное состояние творчества Богдановича наложило свой отпечаток на его поэму.
«Душенька» выросла на основе стилистической традиции школы Хераскова; она многим обязана и стилистике басни (самый стих поэмы, разностопный ямб, связывал ее с басней), и опыту легкого рассказа повестушек в стихах Хераскова, и отчасти героикомической поэме. Свободная речь рассказчика укладывается в привычные формулы, выработанные поэзией школы Хераскова. Но поэтическая система, воспринятая Богдановичем смолоду, в его поэме начинает перестраиваться, служить иным идеологическим и эстетическим задачам.
«Душенька», как и героикомические поэмы, снижает царей, богов и героев античного мира, но она не «груба», в ней нет своеобразного реализма «Елисея», нет «низкой» натуры, нет ямщиков-мужиков. Богданович стремится в «Душеньке» к изяществу салонной игривости, как он стремится к пасторальной изысканности придворного балета в своей любовной лирике (песнях, идиллиях). Самая эротика его поэмы иная, чем в «Елисее», – не полнокровная полубарковщина «Елисея», а гривуазность салонного флирта.
«Душенька», как и поэма Майкова, несмотря на свой мифологический сюжет, не лишена полемических выпадов литературного характера и вообще элементов злободневности, нарушающих ее античную декорацию. Но Богданович хочет быть «аполитичным» в своей поэме, т.е. воздерживается от социальной и политической критики и учительности. В канву рассказа о древних греках вплетаются мотивы великосветской современности. Греческие персонажи неприметно превращаются у Богдановича в вельмож или царей его эпохи, и окружение их подменяется окружением петербургского или царскосельского дворцового празднества. Описание очарованного дворца Амура становится прославлением дворцов и парков российской самодержицы. Античный миф дается не всерьез, а в травестированном виде, в тонах безобидной шутки дамского угодника и льстеца. Весь аппарат образов и мифологии Богдановича связывается с представлениями о балетах, праздниках, о живописи и скульптуре, украшавших дворец.
Сама героиня поэмы нередко становится похожей на комплиментарный портрет Екатерины II (см., например, описание портрета Душеньки во II книге, напоминающее известный портрет Екатерины верхом на лошади). Богданович включает в поэму и комплиментарный намек на московский маскарад 1763 г. «Торжествующая Минерва» и намек на организацию на счет Екатерины «Собрания, старающегося о переводе иностранных книг». Душенька стала читать:
…переводы
Известнейших творцов;
Но часто их она не разумела,
И для того велела
Исправным слогом вновь Амурам
перевесть,
Чтоб можно было их без тягости
прочесть.
Зефиры, наконец, царевне приносили
Различные листки, которые на свет
Из самых древних лет
Между полезными предерзко
выходили,
И кипами грозили
Тягчить усильно Геликон.
Царевна, знав, кому неведом был
Листомарателей свобод не нарушала,
Но их творений не читала.
В таком издевочно-игривом тоне говорит Богданович (в последних стихах приведенного отрывка) о борьбе прогрессивной журналистики с официальной в 1769-1773 гг. «Различные листки», которые «предерзко выходили», – это, конечно, сатирические листки Новикова и т.п., а «полезные» листки, выходившие тогда же, – само собой, «Всякая всячина».
Салонный стиль «Душеньки» поглощает без остатка мысль, лежавшую в основе античного мифа об Амуре и Психее, о любви души (???? - по-гречески – душа; отсюда и имя героини Богдановича). Богданович следовал в своей поэме изложению не Апулея в его «Золотом осле», а роману Лафонтена «Любовь Психеи и Купидона» (1669), написанному прозой со стихотворными вставками. Но Лафонтен, стремясь к предельной простоте рассказа, задавался целью воссоздать дух античности, как он ее понимал. Богдановича не интересуют ни античность, ни миф сами по себе. Он пишет изящную сказку, и его задача – увести читателя от больших и серьезных проблем в светлый, веселый мир шутки, легких чувств, безобидных горестей, розового света. Поэтому вся его поэма от начала до конца шутлива, иронична. Он низвергает своей усмешкой все идейные кумиры. Он смеется над людьми и над богами, над любовью и над страданием, над Венерой и даже иной раз над самой Душенькой. При этом его смех – не сатирический смех отрицающего сознания; это смех спокойный и безразличный. Богданович не верит больше ни в какие идеалы: он верит только в смех, в возможность забыться, в то, что можно заполнить эстетизмом пропасть в душе, заменить улыбкой, позой и любованием фикциями настоящую жизнь.
Вот, например, царь, отец Душеньки, в глубоком горе расстается с дочерью, которую он принужден оставить на таинственной горе в добычу неизвестному чудищу:
И напоследок царь, согнутый скорбью в крюк,
Насильно вырван был у дочери из рук.
Так же легко и шуточно изображены мифологические божества, например, Амуры услужают Душеньке:
Иной во кравчих был, другой носил посуду,
Иной уставливал, и всяк совался всюду;
И тот считал себе за превысоку честь,
Кому из рук своих домова их богиня
Полрюмки нектару изволила поднесть.
И многие пред ней стояли рот разиня:
Хоть Амуры в том,
По правде, жадными отнюдь не почитались,
И боле нежели вином
Царевны зрением в то время услаждались.
Совсем забавно рассказано в поэме о том, как Душенька, изгнанная из дворца Амура, решилась окончить жизнь самоубийством, – но неудачно, так как заботливое божество отстраняло от нее все виды смерти. Наконец, Душеньку встретил старик-рыбак:
Но кто ты старец, воспросил.
“Я Душечка… люблю Амура…”
Потом заплакала, как дура,
Потом, без дальних с нею слов,
Заплакал вместе рыболов,
И сней взрыдала вся Натура.
Так забавляют Богдановича самые слезы.
Богданович шел иным путем, чем Муравьев, но он пришел, в сущности, к тому же; Муравьев говорил, что сладостные красоты искусства – это то, «что создал бог для украшения пустой вселенной». Этим украшением и занимается Богданович; и для него все равно – комплиментировать ли Екатерину или нет. Для него его поэма – только сказка, игра опустошенного ума, «легкая игра воображения», как определил «Душеньку» Карамзин, и все образы сказки для него безразличны, равно фиктивны, равно иллюзорны.
Поэтому Богданович вспоминает о морали своей сказки, о смысле ее сюжета только тогда, когда пришло время уже кончать ее; Поэтому он так мало занят сюжетом мифа и больше всего уделяет места и искусства описаниям очаровательного мечтательного мира сказки, блаженных садов и т.п. Поэтому, хотя он иногда довольно близко следует за изложением Лафонтена, он создает оригинальное произведение, потому что стиль, детали, тон – все у него свое, а в стиле, деталях и тоне весь смысл поэмы как выражения эстетизма упадочнического толка. Читатель, уже имевший в то время в руках в русском переводе и роман Апулея (перевод Е.И. Кострова, 1780), и роман Лафонтена (перевод Ф. Дмитриева-Мамонова, 1769), мог без труда увидеть сам различие трактовки единого сюжета у всех трех писателей.
Таким образом, стремление Богдановича к изяществу и легкости во что бы то ни стало, его эстетизм явились проявлением глубокого кризиса дворянского самосознания и литературы. В то же время в «Душеньке» Богданович не опустился в то болото пошлости, в которое его втянули потом его официальные связи и успехи. В этом своем шедевре он еще был мастером стиха, искусство которого выросло на основе традиции, шедшей от Сумарокова через творчество Хераскова и всей его школы. Наряду с «Россиадой» и «Душенька» в отношении мастерства, слога и стиха была предельным достижением этой школы, причем Богданович использует весь накопленный за четверть века опыт своих учителей в специфическом направлении – именно в целях создания легкой, свободной поэтической речи. Освобождая свое искусство от задач активной общественной борьбы, он сосредоточивается на разрешении задач выразительной гибкости языка, на всем протяжении поэмы сохраняя камерный, интимно-разговорный тон, не поднимаясь к величию «Россиады» и не опускаясь до «простонародной» грубоватости сумароковских басен. Этот «средний», сглаженный, несколько жеманный язык стихотворства, впервые разработанный в большой форме Богдановичем, сыграл большую роль в истории русского словесного искусства. Он оказал немалое влияние на Карамзина и на Дмитриева, он подготовил «легкую» поэзию начала XIX века вплоть до Батюшкова, недаром высоко ценившего «Душеньку».
Богданович научил русских поэтов передавать стихами весьма тонкие оттенки темы, создавать изящные узоры-картины, не реальные, но не чуждые эмоционального обаяния. Прямолинейная четкость анализа Сумарокова уступает в «Душеньке» место созданию общего синтетического представления, не «разумного», но стремящегося воздействовать на фантазию. Богданович создает в «Душеньке» особый язык поэзии, поэтичности, эстетического самоуслаждения, язык «приятности»; оттого у него так часты слова вроде «прелестный», «нежный», «украдкою», «благоприятный», «сладкий»; оттого он ищет благозвучной, уравновешенной фразы с изящной отделкой. Вся эта эфемерная стихия поэтического изящества не имеет никакого касательства к полнокровной стихии народного искусства. Богданович и не стремится, творя сказку, писать русскую сказку. Но он пользуется некоторыми русскими мотивами, если они нужны ему как материал, включаемый в космополитическую ткань «легкой» поэзии изысканных салонных интеллигентов. Поэтому в «Душеньке» есть и «Змей Горынич», и Кащей, правда, нимало не похожие на настоящих сказочных, – и стоят они рядом с Аполлоном, Дианой, Парисом; есть в ней и сарафан рядом с мраморными статуями, колесницей, оракулом, благовонными мылами и т.д. Для Богдановича и Кащей, и Аполлон, и оракул, и сарафан, и сказка, и миф, и пародия на подьяческий протокол, и шутка, и слова любви – все в мире потеряло свое подлинное значение: для него существует только мечта о красоте, о легких фантазиях, спасающих от реальности.
Белинский писал в «Литературных мечтаниях» о «Душеньке»:
«Подражатели Ломоносова, Державина и Хераскова оглушили всех громким одолением; уже начинали думать, что русский язык не способен к так называемой легкой поэзии, которая так цвела у французов, и вот в это-то время является человек с сказкою, написанною языком простым, естественным и шутливым, слогом, по тогдашнему времени, удивительно легким и плавным; все были изумлены и обрадованы. Вот причина необыкновенного успеха «Душеньки», которая, впрочем, не без достоинств, не без таланта». Впрочем, уже в статье «Русская литература в 1841 году» Белинский называл «Душеньку» «тяжелою и неуклюжею», а еще раньше, в заметке о «Душеньке» (1841), писал: «Что же такое в самом-то деле эта препрославленная, эта пресловутая «Душенька»? – Да ничего, ровно ничего: сказка, написанная тяжелыми стихами… лишенная всякой поэзии, совершенно чуждая игривости, грации, остроумия».