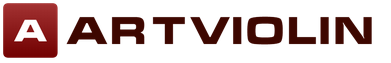18 мая исполняется 105 лет со дня Ходынской катастрофы, которая произошла во время коронационных торжеств при вступлении на престол последнего российского императора.
Именно в этом событии многие современники увидели начало конца старой империи, прекратившей свое существование немногим более 20 лет спустя.
В то же время как о самой Ходынке, так и о ее последствиях известно не слишком много: научные работы на эту тему не писались.
В настоящем номере мы предлагаем Вам тексты исторических свидетельств - разнохарактерных (воспоминания, дневники, официальные документы) и часто противоречивых.
Сравнивая эти описания и мнения их авторов, каждый любознательный читатель сможет - в меру своих сил - составить собственное представление о ситуации, которая сложилась в первые дни царствования Николая II. Постепенно развиваясь, она, против воли большинства своих участников, привела их и страну к развязке, не менее кровавой, нежели Ходынское бедствие.
свидетельства
Воспоминания
Н
акануне народного праздника вечером,
усталый от дневной корреспондентской работы, я
прямо из редакции «Русских ведомостей» решил
поехать в скаковой павильон на Ходынку и
осмотреть оттуда картину поля, куда с полудня шел
уже народ.
Днем я осматривал Ходынку, где готовился
народный праздник. Поле застроено. Всюду эстрады
для песенников и оркестров, столбы с
развешенными призами, начиная от пары сапог и
кончая самоваром, ряд бараков с бочками для пива
и меда для дарового угощения, карусели, наскоро
выстроенный огромный дощатый театр и, наконец,
главный соблазн - сотни свеженьких деревянных
будочек, разбросанных линиями и углами, откуда
предполагалась раздача узелков с колбасой,
пряниками, орехами, пирогов с мясом и дичью и
коронационных кружек.
Хорошенькие эмалевые, белые с золотом и гербом,
разноцветно разрисованные кружки были
выставлены во многих магазинах напоказ. И каждый
шел на Ходынку не столько на праздник, сколько за
тем, чтобы добыть такую кружку. Каменный царский
павильон, единственное уцелевшее от бывшей на
этом месте промышленной выставки здание,
расцвеченное материями и флагами,
господствовало над местностью. Рядом с ним уже
совсем не праздничным желтым пятном зиял
глубокий ров - место прежних выставок. Ров
шириной сажен в тридцать, с обрывистыми берегами,
отвесной стеной, где глиняной, где песчаной, с
изрытым неровным дном, откуда долгое время брали
песок и глину для нужд столицы. В длину этот ров
по направлению к Ваганьковскому кладбищу
тянулся сажен на сто. Ямы, ямы и ямы, кое-где
поросшие травой, кое-где с уцелевшими голыми
буграми. А справа к лагерю, над обрывистым
берегом рва, почти рядом с краем ее, сверкали
заманчиво на солнце ряды будочек с подарками.
Во рву горели костры, окруженные праздничным
народом.
- До утра посидим, а там прямо к будкам, вот они,
рядом!
Подбираясь к толпе, я взял от театра направо к
шоссе и пошел по заброшенному полотну железной
дороги, оставшейся от выставки: с нее было видно
поле на далеком расстоянии. Оно тоже было полно
народом. Потом полотно сразу оборвалось, и я
сполз по песку насыпи в ров и как раз наткнулся на
костер, за которым сидела компания и в том числе
мой знакомый извозчик Тихон от «Славянского
базара», с которым я часто ездил.
- Пожалуйте рюмочку с нами, Владимир Алексеевич!
- пригласил он меня, а другой его сосед уж и
стаканчик подает. Выпили. Разговариваем. Я полез
в карман за табакеркой. В другой, в третий... нет
табакерки! И вспомнилось мне, что я забыл ее на
столе в скаковом павильоне. И сразу всё
праздничное настроение рухнуло: ведь я с ней
никогда не расстаюсь.
- Тихон, я ухожу, я табакерку забыл!
И, несмотря на уговоры, встал и повернул к скачкам.
«Куда лезешь? Чего толкаешься!» Я повернул
направо по дну рва навстречу наплывавшему люду:
всё стремление у меня было - на скачки за
табакеркой! Над нами вставал туман.
Вдруг загудело. Сначала вдали, а потом кругом
меня. Сразу как-то... Визг, вопли, стоны. И все, кто
мирно лежал и сидел на земле, испуганно вскочили
на ноги и рванулись к противоположному краю рва,
где над обрывом белели будки, крыши которых я
только и видел за мельтешащими головами. Я не
бросился за народом, упирался и шел прочь от
будок, к стороне скачек, навстречу безумной толпе,
хлынувшей за сорвавшимися с мест в стремлении за
кружками. Толкотня, давка, вой. Почти невозможно
было держаться против толпы. А там впереди, около
будок, по ту сторону рва, вой ужаса: к глиняной
вертикальной стене обрыва, выше роста человека,
прижали тех, кто первый устремился к будкам.
Прижали, а толпа сзади всё плотнее и плотнее
набивала ров, который образовал сплошную,
спрессованную массу воющих людей. Кое-где
выталкивали наверх детей, и они ползли по головам
и плечам народа на простор. Остальные были
неподвижны: колыхались все вместе, отдельных
движений нет. Иного вдруг поднимет толпой, плечи
видно - значит, ноги его на весу, не чуют земли...
Вот она, смерть неминучая! И какая!
 Н
и ветерка. Над нами стоял полог
зловонных испарений. Дышать нечем. Открываешь
рот, пересохшие губы и язык ищут воздуха и влаги.
Около нас мертво-тихо. Все молчат, только или
стонут или что-то шепчут. Может быть, молитву,
может быть, проклятие, а сзади, откуда я пришел,
непрерывный шум, вопли, ругань. Там, какая ни на
есть, - все-таки жизнь. Может быть,
предсмертная борьба, а здесь - тихая, скверная
смерть в беспомощности. Я старался повернуться
назад, туда, где шум, но не мог, скованный толпой.
Наконец повернулся. За мной возвышалось полотно
той же самой дороги, и на нем кипела жизнь: снизу
лезли на насыпь, стаскивали стоящих на ней, те
падали на головы спаянных ниже, кусались,
грызлись. Сверху снова падали, снова лезли, чтоб
упасть; третий, четвертый слой на голову стоящих.
Н
и ветерка. Над нами стоял полог
зловонных испарений. Дышать нечем. Открываешь
рот, пересохшие губы и язык ищут воздуха и влаги.
Около нас мертво-тихо. Все молчат, только или
стонут или что-то шепчут. Может быть, молитву,
может быть, проклятие, а сзади, откуда я пришел,
непрерывный шум, вопли, ругань. Там, какая ни на
есть, - все-таки жизнь. Может быть,
предсмертная борьба, а здесь - тихая, скверная
смерть в беспомощности. Я старался повернуться
назад, туда, где шум, но не мог, скованный толпой.
Наконец повернулся. За мной возвышалось полотно
той же самой дороги, и на нем кипела жизнь: снизу
лезли на насыпь, стаскивали стоящих на ней, те
падали на головы спаянных ниже, кусались,
грызлись. Сверху снова падали, снова лезли, чтоб
упасть; третий, четвертый слой на голову стоящих.
Рассвело. Синие, потные лица, глаза умирающие,
открытые рты ловят воздух, вдали гул, а около нас
ни звука. Стоящий возле меня, через одного,
высокий благообразный старик уже давно не дышал:
он задохнулся молча, умер без звука, и
похолодевший труп его колыхался с нами. Рядом со
мной кого-то рвало. Он не мог даже опустить головы.
Впереди что-то страшно загомонило, что-то
затрещало. Я увидал только крыши будок, и вдруг
одна куда-то исчезла, с другой запрыгали белые
доски навеса. Страшный рев вдали:
«Дают!.. давай!... дают!..» - и опять повторяется:
«Ой, убили, ой, смерть пришла!..»
И ругань, неистовая ругань. Где-то почти рядом со
мной глухо чмокнул револьверный выстрел, сейчас
же другой, и ни звука, а нас всё давили. Я
окончательно терял сознание и изнемогал от жажды.
Вдруг ветерок, слабый утренний ветерок смахнул
туман и открыл синее небо. Я сразу ожил,
почувствовал свою силу, но что я мог сделать,
впаянный в толпу мертвых и полуживых? Сзади себя
я услышал ржание лошадей, ругань. Толпа двигалась
и сжимала еще больше. А сзади чувствовалась
жизнь, по крайней мере ругань и крики. Я напрягал
силы, пробирался назад, толпа редела, меня ругали,
толкали.
Оказалось, что десяток конных казаков разгонял
налезавших сзади, прекращая доступ новым,
прибывавшим с этой стороны. Казаки за шиворот
растаскивали толпу и, так сказать, разбирали
снаружи эту народную стену. Это понял народ и
двинулся назад, спасая свою жизнь. Я бросился
среди убегавших, которым было уже не до кружки и
не до подарка, и, вырвавшись, упал около забора
беговой аллеи.
На мое счастье, из скаковой аллеи выезжал
извозчик. Я вскочил на пролетку, и мы поехали по
шоссе, кипящему народом. Навстречу громыхали
пожарные фуры, шли наряды полиции.
 |
В
девять часов утра я пил в семье
чай и слушал рассказы об ужасах на Ходынке:
- Говорят, человек двести народу передавили!
Я молчал.
Свежий и выспавшийся, я надел фрак со всеми
регалиями, как надо было по обязанностям
официального корреспондента, и в 10 часов утра
пошел в редакцию. Подхожу к Тверской части и вижу
брандмейстера, отдающего приказание пожарным,
выехавшим на площадь на трех фурах, запряженных
парами прекрасных желто-пегих лошадей.
Брандмейстер обращается ко мне:
- Поглядите, Владимир Алексеевич, последние па"ры
посылаю!
И объяснил, что с Ходынки трупы возят.
Я вскочил на фуру без пальто, во фраке, в цилиндре,
и помчался. Фуры громыхали по каменной мостовой.
Народу полна Тверская.
Я соскочил с фуры: не пускают. Всемогущий
корреспондентский билет дает право прохода. Я
иду первым делом к наружной линии будок, которые
на берегу рва, я их видел издали утром из-под
насыпи. Две снесены, у одной сорвана крыша. А
кругом - трупы... трупы...
Описывать выражение лиц, описывать подробности
не буду. Трупов сотни. Лежат рядами, их берут
пожарные и сваливают в фуры.
Ров, этот ужасный ров, эти страшные волчьи ямы
полны трупами. Здесь главное место гибели. Многие
из людей задохлись, еще стоя в толпе, и упали уже
мертвыми под ноги бежавших сзади, другие погибли
еще с признаками жизни под ногами сотен людей,
погибли раздавленными; были такие, которых
душили в драке, около будочек, из-за узелков и
кружек. Лежали передо мной женщины с вырванными
косами, со скальпированной головой.
Я сполз вниз по песчаному обрыву и пошел между
трупами. В овраге они еще лежали, пока убирали
только с краев. Народ в овраг не пускали. Около
того места, где я стоял ночью, была толпа казаков,
полиции и народа. Я подошел. Оказывается, здесь
находился довольно глубокий колодец со времен
выставки, забитый досками и засыпанный землей.
Ночью от тяжести народа доски провалились,
колодец набился доверху рухнувшими туда людьми
из сплошной толпы, и когда наполнился телами, на
нем уже стояли люди. Стояли и умирали. Всего было
вынуто из колодца двадцать семь трупов. Между
ними оказался один живой, которого только что
перед моим приходом увели в балаган, где уже
гремела музыка.
Праздник над трупами начался!
В дальних будках еще раздавались подарки.
Программа выполнялась: на эстраде пели хоры
песенников и гремели оркестры.
В
два часа я уже был в редакции, пришел
в корректорскую и сел писать, затворив дверь. Мне
никто не мешал. Закончив, сдал метранпажу в набор.
Меня окружили наборщики с вопросами и заставили
прочитать. Ужас был на всех лицах. Пошли
разговоры.
- На беду это! Не будет проку в этом царствовании!
- самое яркое, что я слышал от старика наборщика.
Никто не ответил на его слова, все испуганно
замолчали... и перешли на другой разговор.
Метранпаж сказал:
- Надо подождать редактора!
- Наберем! - И, разделив на куски, стали набирать.
Я вернулся домой пешком - извозчиков не было - и,
не рассказывая подробностей пережитого, лег
спать. Проснулся на другое утро в 8 часов и стал
готовиться к работе. Подали «Московские
ведомости», «Московский листок». О катастрофе
ничего не нашел. Значит, запретили! Собрался
перед работой забежать в «Русские ведомости»,
взять на память грядущим поколениям гранки
статьи, если успели набрать. Принесли наконец
«Русские ведомости». Глазам не верю: ХОДЫНСКАЯ
КАТАСТРОФА - крупное заглавие, - план
катастрофы и подпись «В.Гиляровский». А я
чувствовал себя победителем!
Я бросился первым делом в редакцию. Радостно меня
встречают. Благодарят. На дворе шумят газетчики
- получают газету для розницы, мне устраивают
овацию.
Газету, как только ее роздали для разноски
подписчикам, явившаяся полиция хотела
арестовать, но М.А.Саблин поехал к генерал-губернатору
и узнал, что газету уже разрешили по приказанию
свыше. Целый день допечатывали газету. Она была
единственная с подробностями катастрофы.
Это - удивительное слово, и в нем непоколебимая сила русская.
После боя под Хайченом я шел пешком среди отступающих солдат, - рассказывает он. - Жара - 53 градуса, воды ни капли целый день. Солдаты едва передвигают ноги, томясь от жажды под жгучими лучами, а шутки между ними не прекращаются.
Устали? - спрашиваю я то там, то тут, желая их ободрить.
Ничего! - отвечают они, ласково улыбаясь, и продолжают идти.
Перегоняю раненого. На одной ноге сапог, на другой - окровавленная тряпка. Он опирается на палку и ковыляет. На плече - винтовка.
Что? Ранен?
Пуля скрозь...
Больно, трудно идти?.. Доктора не позвать ли?
И тащится, едва передвигаясь.
На носилках, под Хайченом, несут раненого. Он - землисто-черный. Глаза затуманены. С ним рядом винтовка, - он ее держит. Надо сказать, что и раненые солдаты, как я наблюдал, никогда не расстаются с ружьем. Носилки остановились. Я подошел к нему, спрашиваю о здоровье и получаю в ответ шепотом одно слово:
А у него страшная рана осколком гранаты в ноги и в живот. Мне рассказывали несшие его санитары, что он не хотел выпустить из рук винтовки, а все просил только доставить ему сапоги, которые остались на позиции.
И всюду, везде я слышал это удивительное русское слово:
Вот и ваш В.И. Немирович-Данчеяко, в китайском сером шелковом костюме, в белой английской шляпе, всегда везде впереди стоит на вершине сопки, делает заметки в свою книжку, а кругом рвутся гранаты, жужжат пули. Ему кричат снизу: "Василий Иванович, опасно, уходите!", - а он продолжает писать, отмахнется рукой и отвечает:
Ничего!..
Когда японцы наступали к Ляояну, я, в разговоре с одним из крупных генералов, волнуясь, говорил:
Ведь Ляоян, пожалуй, японцы возьмут. Ведь это очень нехорошо для нас.
И получил, с милой, спокойной улыбкой, знакомый ответ:
И теперь, когда Ляоян взят и это нисколько не повредило плану кампании, я понял смысл ответа генерала, его покойную улыбку и это удивительное:
Да, это великое слово, в нем неколебимость России, в нем могучая сила русского народа, испытавшего и вынесшего больше, чем всякий другой народ. Просмотрите историю, начиная с татарского ига, припомните, что вынесла Россия, что вытерпел народ русский, - и чем больше было испытаний, тем более крепла и развивалась страна. Только могучему организму - все нипочем!
Ничего! Вытерпим! - говорят и теперь.
Слабый будет плакать, жаловаться и гибнуть там, где сильный покойно скажет:
Бисмарка когда-то на охоте в России вывалил в лужу ямщик. Когда Бисмарк на него закричал, извозчик успокоительно ответил ему:
Это слово так понравилось "железному канцлеру", что он во многих случаях повторял его и даже носил железный перстень с надписью:
Скажите, Клофач, трудно вам досталась эта поездка? Страшно было под выстрелами? Голодно на позициях? Утомились нервы? - спросил я его.
И он мне ответил совершенно искренне, и видно было, что другого слова не мог даже подыскать:
Гиляровский Владимир Алексеевич (1855-1935) - писатель, журналист, бытописатель Москвы.
Владимир Гиляровский
1.
Поздней осенью 1887 года (датирую приблизительно, сам герой вспоминал, что это было за два года до его прихода в «Русские ведомости») Гиляровский увидел между Арбатом и Пречистенкой уличную, так сказать, сценку. Огородник привез картофель в овощную лавку, у телеги соскочило колесо; бородатый мужик в драповой шапке пытался поднять угол телеги, помогая огороднику поставить его на место. Гиляровский соскочил с пролетки, подбежал к телеге, отпихнул бородатого мужика - «Пусти, дядя, я покрепче», - с медвежьей своей силой поднял угол - и огородник легко нацепил колесо. Гиляровский намертво вбил на место чеку и поехал на своей пролетке дальше.
Вот графу неймется, - сказал ему извозчик. -Ходит по утрам дрова грузить, денег не берет... - какому графу? - Да это Толстой. Не признали, что ли? Чего он грузит, у него же собственный дом... Впоследствии, когда Гиляровский познакомился с Толстым и даже стал желанным гостем в его доме, он ему никогда об этом первом знакомстве не напоминал, а зря. Толстому бы понравилось, потому что сцена символическая. Как раз на рубеже веков эти два богатыря вытащили-таки телегу русской прозы на совершенно новую дорогу, которую Россия, кажется, до революции так и не успела оценить; куда-то в нон-фикшн, в синтез журналистики и беллетризма, в пространство, которое толком осваивается только теперь, и то не у нас, а скорей уж в Штатах. И совсем было бы символично, если бы рядом с ними случился Короленко и помогал надевать колесо - но таких совпадений уже не бывает. С Короленко вышло иначе. К Чехову, уже больному, в один из последних визитов в Москву пришел, как доложила прислуга, какой-то портной или человек, похожий на портного. Чехов сказал, что никого не принимает, и попросил Гиляровского, который как раз сидел в гостях (ему-то всегда были рады), деликатно отвадить новоприбывшего. Но уже через минуту Чехов радостно кричал: «Галактионыч? Сюда, сюда!» - это прислуга почему-то приняла Короленко за портного. И тоже тут не без символизма: настоящий писатель не должен быть похож на писателя. Когда 3аболоцкому передали, что итальянский переводчик нашел его похожим на провинциального бухгалтера, он удовлетворенно кивнул, добавив добродушно: - Сам-то он похож на парикмахера. Гиляй, как звали его друзья и как он сам подписывался иногда, тоже был похож на кого угодно, только не на литератора. На запорожского казака, атлета, наездника, бурлака, охотника, даже на бандита - хотя для бандита, которому надо мимикрировать, внешность была чересчур яркая; Чехов ему говорил: ты, брат, либо опоздал родиться на триста лет, либо родился на сто лет раньше. Через сто лет все люди будут такие, как ты, а не слабаки, как я (оцените сложение Гиляровского, если он в мемуарах называет Чехова - еще крепкого, до болезни - слабым и хрупким: Чехова, с его небывалой выносливостью, глубоким басом и ростом под метр девяносто!). Однажды - году в одиннадцатом - Гиляй, тогда уже 55-летний, заболел воспалением легких. Как все редко хворающие люди, он был мнителен, и, когда температура дошла до 39, решил, что это конец. То есть у него никогда во всю предыдущую жизнь не было такой температуры. Ему надо было распорядиться своим литературным наследием - он считал себя прежде всего поэтом, как в России и принято, поскольку здесь это занятие самое престижное. Стихи его, между нами говоря, никуда не годились, хотя одно уцелело и даже вошло в пословицу: «В России две напасти - внизу власть тьмы, вверху тьма власти». И вот, желая обеспечить своим стихам посмертную судьбу, он позвал Брюсова - человека самого надежного и делового из всей литераторской среды. (Гиляровский со своим фирменным, чисто репортерским чутьем на людей понимал, что Брюсов был человек хороший, - а Ходасевич ему завидовал и вывел монстром.)
- Умоляю, выслушайте и не перебивайте, -сказал он хрипло. - Я умираю, тут лучшее, что я сделал, и если не поднимусь - дайте слово, что издадите. - Чушь, - холодно сказал Брюсов. - Если вы вообще когда-нибудь умрете, вас убьет грозой в поле. И Гиляровский, кстати, пережил его на 11 лет.
2.
Почему-то хочется рассказывать про него именно такие истории, каковых сохранилось множество -и в его собственной записи, и в литературном фольклоре. Гиляровский ведь и не был писателем, и не считал себя им - он был литературный человек, совсем другое дело; Паустовский писал, что бывают такие люди - бродильные дрожжи словесности, - которые могут и вовсе ничего не писать, а между тем без них творческий процесс невозможен. Гиляровский позировал Репину, поставлял материал Толстому, Куприну, Горькому, пересказывал свои истории Чехову - он знал поразительно много, но сам не умел это толком написать, поскольку с литературным талантом у него как раз обстояло сложно. Репортером, вообще журналистом он был гениальным - что да, то да, со всеми издержками ремесла; и, может быть, в издержках-то все и дело - журналисту нужна и сентиментальность, и дешевые приемчики, и сенсационность, и Гиляй именно в этих вещах был мастер; но собственные его писания не выдерживают, конечно, сравнения ни с творчеством его великих друзей, ни с собственной его биографией.
Самая известная, постоянно переиздающаяся его книга - «Москва и москвичи», но я, честное слово, не понимаю, что люди в ней находят. Конечно, Гиляровский приложил руку к созданию московского мифа. С петербургским у нас все было в порядке со времен «Пиковой дамы» и «Медного всадника», «Невского проспекта» и «Бедных людей», - Москва отстала именно потому, что была с самого начала гораздо эклектичней. Гиляровский создал вполне запоминающийся и даже, пожалуй, романтичный образ московского дна и придонного слоя. Хитров рынок, ночлежки, воры, городовые, поставляющие сведения репортерам и пьянствующие с ними, рынки, фирменные московские закуски вроде соленых огурцов в тыквах - все это он расписывает красочно, но Москва ведь этим далеко не исчерпывается. Грязный и сочный быт, бродяги, воры, пожарные, пьяницы, сыщики, извозчики, городские сумасшедшие - Гиляровский описывает это старательно, подробно и с тем же умилением, с каким Шмелев в это же время во Франции писал «Лето Господне»; но, во-первых, у Гиляровского очень видны преувеличения, а во-вторых, эта среда далеко не так привлекательна, как казалось автору «Москвы и москвичей», и далеко не так интересна. В самом деле, кому какое дело до того, с полстью предписывалось ездить московским извозчикам или без полсти? Кому сегодня интересны нравы Хитрова рынка, когда они уже практически везде, да еще и в ухудшенном варианте? Проблема, видимо, в том, что Гиляровский выпустил «Москву и москвичей» в 1926 году, на волне всеобщей ностальгии по тому городу и тому быту. У этой-то, новой, нэповской Москвы свой быт не успел сложиться, все отчетливо понимали, как быстро закончится иллюзорный возврат к прежнему, - и ностальгия была главным занятием русской литературы. Да, есть есенинская «Москва кабацкая» - но, по воспоминаниям знатоков, разве это была ТА Москва! Разве там так пили, так ели?! И уж, конечно, объектом массовой ностальгии становится чаще всего не ТО искусство и даже не ТА любовь, а именно быт: как пили, как ели, как воровали и ловили, в каких гостиницах чем пахло... Конечно, в описании тогдашней Москвы Гиляровский не чета Бунину, главному ее летописцу, но он ведь и не ставит себе задачи написать великую литературу. Зато у него все густо, с потрясающей памятью на людей, от которых больше ничего не осталось. Жаль, конечно, что московский миф творился именно по лекалам «Москвы и москвичей», а не «Иды» или «Чистого понедельника»; жаль, что в нашем сознании первенствует образ той Москвы, которая «бьет с носка», - но ведь и от Серебряного века осталась в основном пошлость, которую запечатлел Зощенко. Что делать, от всех эпох остается именно пошлость, по ней то и ностальгируешь сильней всего, ибо это самое человеческое. В прозе Чехова разве есть по чему ностальгировать? Ему любой дом был ненавистен вообще, его тянуло в степь или на море, замкнутые пространства ему отвратительны, а Москва Гиляровского - именно огромный провонявший жизнью дом, и даже подвал этого дома. Само собой, Гиляй любил эту среду и гордился, что он свой и среди воров, и среди полицейских. Есть прелестная история - МХТ ставит «На дне», труппе захотелось посмотреть настоящую ночлежку, а художнику так это просто необходимо, и Качалов - он с Гиляровским дружит - договаривается, что Гиляй поведет их в настоящую ночлежку на настоящей Хитровке. Пришли. Актерам оказан самый радушный прием, каждый бродяга и жулик рассказывает свою историю, понимая, что именно его жизненный опыт есть бесценная сокровищница «жызненных впечатлений». И тут один из этих людей - не людей даже, вспоминают артисты, а сосудов, доверху налитых мутным алкоголем, - расчувствовался настолько, что показал артистам главное свое сокровище - потрепанную журнальную картинку, изображающую современную версию возвращения блудного сына. Папаша хватается за сердце и кошелек в намерении осыпать отпрыска благодеяниями; прислуга утирает слезы. Художник, глядя на эту журнальную мазню, усмехнулся, ценитель прекрасного оскорбился, его товарищи похватались за табуретки, и быть бы большой драке, если бы Гиляй, набравши полную грудь воздуху, не разразился такой многоэтажной тирадой, что все замерли в восхищении.
Да, это он умел - быть своим для всех, от Чехова до Кольцова, от жуликов до приставов; и каждый норовил рассказать ему все свои тайны. Вот почему Гиляровский был именно великим репортером, первым, кто освоил жанр «журналист меняет профессию».
3.
Конечно, существенную роль в его литературных и особенно журналистских удачах играл тот факт, что он был страшно силен физически, ловок во всякой работе и в самом трудном и опасном спорте: наездник, умевший объезжать самых норовистых лошадей; жонглер гирями; пловец, каких и среди коренных волжан было немного. Дело тут не в том, что такой атлет - кстати, основатель московского атлетического общества и личный тренер Куприна, тоже не обиженного силой, -легко приковывает к себе внимание опасными трюками и может при случае помочь и при тушении пожара, и при облаве на преступника (Гиляровский гордился медалью за отвагу на пожарах - он ее честно заработал, поскольку выезжал на пожары не просто репортером-зевакой). Дело в том, что сильный человек меньше боится, а чаще не боится вовсе. И Гиляровский кидался в гущу любых событий, о которых писал, будь то разбор путей и обломков после железнодорожной аварии либо спасение пострадавших после катастрофы на фабрике. Жизни он не боялся совершенно, поскольку и шестнадцать лет, не закончив гимназии, сбежал из дома под действием книги Чернышевского «Что делать?», доставшейся ему от ссыльного, и подался, как Рахметов, в бурлаки. Он вообще ладил себя под Рахметова, которого бурлаки прозвали Никитушкой Ломовым, - и сам заслуживал такого прозвища. Среди профессий, которые он перепробовал и сменил, были смертельно опасные - так, чтобы написать «Обреченных», с которых и началась его профессиональная литературная работа, он устроился в цех по производству свинцовых белил, где человек за три месяца заболевал, а за год превращался в собственную тень. Нет физического труда, которого он не попробовал бы, нет уголка России, где не побывал бы, разве что до Заполярья не добрался, - в этом смысле у него было преимущество даже перед Горьким, чей бродяжий опыт ограничивается четырьмя годами, с 1888-го по 1892-й. Гиляровский и в качестве профессионального репортера регулярно маскировался то под фабричного рабочего, то под маляра, то под извозчика - и любую информацию добывал первым. В его собрании сочинений репортажи сравнительно немногочисленны, а написал он их страшное количество; конечно, перепечатывать все не имеет смысла, но на тех, что перепечатываются, любой начинающий журналист может поучиться дотошности и безошибочному акцентированию самых ярких, зачастую кровавых деталей. Конечно, Гиляровский не был дореволюционным предшественником лайфньюза - поскольку за всеми его репортажами стоит сострадание к человеку, а не просто жажда жареного. Но докапываться до истины он умел, как никто, - и всегда обнаруживал в жизни сюжет, способный вызвать у читателя слезы умиления. Скажем, широко известна история с белым попугаем, замерзшим на московской улице. Другой репортер, помоложе и поглупей, принес репортаж о том, что по Москве уже летают белые попугаи, но репортаж в номер не поставили - за фактом не прослеживалось истории, тенденции. А Гиляровский узнал от знакомого бильярдиста -друзья у него были в любых сферах, - что попугай, оказывается, был проигран в карты; когда хозяин отрезвел, он страстно хотел вернуть говорящего друга, отыграть или, выкупить - ан поздно, попугай улетел от нового хозяина и погиб; и душещипательная, полновесная история встала в номер. Думаю, Чехов отчасти имел в виду Гиляя, когда сочинял «Двух газетчиков»: Рыбкин - это, конечно, он сам, меланхоличный и от всего уставший, а Шлепкин, веселый и розовый, из всего умудряющийся сделать газетную заметку, - вполне себе Гиляй. Кстати, Гиляровский не стыдился признаваться, что ранний Чехов ему не слишком нравился: «Сказки Мельпомены», «Пестрые рассказы»... неинтересно! Вот «Степь» - тут чувствуется дарование, тут НАШЕ!
Сегодняшняя журналистика могла бы поучиться у Гиляровского трем вещам, которым когда-то учили на журфаке, но с тех пор, увы, они забылись начисто. Во- первых, надо уметь выбирать тему –не просто сенсационную, грязную или кровавую, но больную, общественно значимую; во-вторых, никакой Интернет не заменит личного присутствия, разговора, сбора информации от случайных свидетелей или молчаливых, скрытных главных участников; в-третьих, излагать надо плотно, кратко, точно, так, чтобы каждая деталь была на виду, а все второстепенное, вся пустая порода - отсеивалась сразу. Гиляровский волшебно создавал эффект присутствия, что и требуется от репортажа в первую очередь, - и пусть он иногда давил коленом на слезные железы читателя, пусть впадал в сентиментальность или жестокость, что, в общем, вещи одного корня: он умел собрать информацию наиболее полно и подать наиболее эффектно, и никогда не собирал грязь ради грязи.
4.
Мне думается, всякий большой писатель осуществляется как бы со второй попытки: сначала приходит условно-первый, у которого не выходит или выходит не до конца, а потом появляется гений, который вроде бы делает все то же самое - но на порядок лучше. С первого раза почти ни у кого не получается решение принципиально новой художественной задачи: в вашей личной жизни, вспомните, тоже всегда ведь бывало так. Главная любовь присылала предшественницу (предшественника), как бы вестницу. Чтобы уж со второй попытки все было как надо.
Светлов, например, почти во всем предшественник Окуджавы. Мартынов - предшественник Слуцкого: интонация уже нащупана, говорить еще, по сути, не о чем (или автор боится). Так вот, Гиляровский был такой генеральной репетицией Горького, на тринадцать лет старше, но у Горького получилось стать великим, а у Гиляровского - нет. Проблема не в масштабах дарования (можно выучиться писать, история знает примеры), но в личностных особенностях, в новизне взгляда. Гиляровский был хороший человек, а Горький - не очень; но именно цинизм Горького помогал ему доворачивать сюжет, договаривать то, что не договаривали прежде. Где его добрые предшественники закончили бы рассказ - Горький идет дальше, срывая маски, ставя смысл с ног на голову; «Челкаш», самый наглядный пример, заканчивается трижды, и даже дочитав его, мы понимаем, что это еще не конец. Гиляровский - при всех своих знаниях и опыте - писатель старой школы: он в человека верит. Горький считает проект «человек» радикально неудавшимся и настаивает на его пересоздании. Гиляровского в ночлежках принимают за своего, ему этого довольно - а Горького «бывшие люди» боятся, потому что он на каждый выпад отвечает с превышением. Помните, как в тех же «Бывших людях» он на удар кулаком обещает ответить булыжником? Гиляровский - старый тип в новых обстоятельствах, и потому его можно читать и перечитывать для удовольствия, в особенности, конечно, «Мои скитания». Горький - новый человек, циничный, насмешливый, видящий дальше и зорче. Гиляровский не описал нового человека - он ярко, олеографически, не без лакировки описал старого, вот почему в его прозе столько богатырей и героев. Горький пришел - и увидел внутри человека пустоту, и в этом смысле главный его рассказ, «Карамора», - о человеке, утратившем понятие о пределах и нормах. Зато Гиляровский прожил счастливую жизнь. О Горьком этого не скажешь.
5.
Принял ли он революцию? Да разумеется. Кто из московских репортеров ее не принял? Столько информации сразу, столько работы! Если же говорить серьезно, то для Гиляровского новая, чистая и благоустроенная Москва была как раз исполнением давней мечты. Мировоззрение у него было простое, воспитанное в детском общении со ссыльными, а изучение московской, питерской и, допустим, сибирской грязи только укрепило его в мысли, что Россия нуждается в радикальном переустройстве. Прочитав первую книжку его рассказов, уже отпечатанную, но потом сожженную по решению правительства (чудом уцелела верстка, принесенная ему другом из числа типографских рабочих), Чехов сказал только: «Все гниет, и как гниет!». Так что насчет революции у него не было даже горьковских сомнений: он сразу же горячо включился в работу по созданию новой прессы. Учил молодых репортеров, мучил их беспрерывными байками, ходил из редакции в редакцию и, вероятно, многим надоедал - но Кольцов, например, его любил и гордился его дружбой, и в клубе при доме литераторов, в любимых репортерских пивных его приветствовали с неизменной радостью. Старик выпускал книгу за книгой, делился воспоминаниями и вообще полагал, что жизнь прожита не зря: вот же они, прекрасные результаты! К старости он стал подслеповат и многих результатов не видел - так что и сомнения, видимо, его не посещали. В каком-то смысле прав был Чехов, сказавший, что через сто лет все будут такими, как Гиляй, - сильными и здоровыми. Пророчество сбылось, только с вечной иронической поправкой: люди стали такими же простыми, как он, но не потому, что сделались чище и сильней, а потому, что поглупели.
Но все, что пишется с наслаждением, - с наслаждением и читается, и сколь бы ни были подчас банальны или вторичны его сочинения, знакомство с ними по-прежнему восхищает читателя. Приятно же видеть доброго, сильного, здорового человека, которому интересны другие люди; приятно читать о том, что и на дне встречаются превосходные характеры, высокие подвиги и чистые нравы; прекрасны все эти казаки-богатыри, бродячие артисты и цирковые атлеты - и весь полнокровный, многоцветный, яркий мир, в котором живет автор.
И остается нам только верить - по-детски, а может, по-чеховски, - что сто лет спустя такими будут все. Не может быть, чтобы каждые сто лет в России проходили зря.
Охотный ряд – Чрево Москвы.
В прежние годы Охотный ряд был застроен с одной стороны старинными домами, а с другой – длинным одноэтажным зданием под одной крышей, несмотря на то, что оно принадлежало десяткам владельцев. Из всех этих зданий только два дома были жилыми: дом, где гостиница "Континенталь", да стоящий рядом с ним трактир Егорова, знаменитый своими блинами. Остальное все лавки, вплоть до Тверской.
Трактир Егорова когда-то принадлежал Воронину, и на вывеске была изображена ворона, держащая в клюве блин. Все лавки Охотного ряда были мясные, рыбные, а под ними зеленные подвалы. Задние двери лавок выходили на огромный двор – Монетный, как его называли издревле. На нем были тоже одноэтажные мясные, живорыбные и яичные лавки, а посредине – двухэтажный "Монетный" трактир. В задней части двора – ряд сараюшек с погребами и кладовыми, кишевшими полчищами крыс.
Впереди лавок, на площади, вдоль широкого тротуара, стояли переносные палатки и толпились торговцы с корзинами и мешками, наполненными всевозможными продуктами. Ходили охотники, обвешанные утками, тетерками, зайцами. У баб из корзин торчали головы кур и цыплят, в мешках визжали поросята, которых продавцы, вынимая из мешка, чтобы показать покупателю, непременно поднимали над головой, держа за связанные задние ноги. На мостовой перед палатками сновали пирожники, блинники, торговцы гречневиками, жаренными на постном масле. Сбитенщики разливали, по копейке за стакан, горячий сбитень – любимый тогда медовый напиток, согревавший извозчиков и служащих, замерзавших в холодных лавках. Летом сбитенщиков сменяли торговцы квасами, и самый любимый из них был грушевый, из вареных груш, которые в моченом виде лежали для продажи пирамидами на лотках, а квас черпали из ведра кружками.
Мясные и рыбные лавки состояли из двух отделений. В первом лежало на полках мясо разных сортов – дичь, куры, гуси, индейки, паленые поросята для жаркого и в ледяных ваннах – белые поросята для заливного. На крючьях по стенам были развешаны туши барашков и поенных молоком телят, а весь потолок занят окороками всевозможных размеров и приготовлений – копченых, вареных, провесных. Во втором отделении, темном, освещенном только дверью во двор, висели десятки мясных туш. Под всеми лавками – подвалы. Охотный ряд бывал особенно оживленным перед большими праздниками. К лавкам подъезжали на тысячных рысаках расфранченные купчихи, и за ними служащие выносили из лавок корзины и кульки с товаром и сваливали их в сани. И торчит, бывало, из рогожного кулька рядом с собольей шубой миллионерши окорок, а поперек медвежьей полости лежит пудовый мороженый осетр во всей своей красоте.
Из подвалов пахло тухлятиной, а товар лежал на полках первосортный. В рыбных – лучшая рыба, а в мясных – куры, гуси, индейки, поросята.
Главными покупателями были повара лучших трактиров и ресторанов, а затем повара барские и купеческие, хозяйки-купчихи и кухарки. Все это толклось, торговалось, спорило из-за копейки, а охотнорядец рассыпался перед покупателем, памятуя свой единственный лозунг: "не обманешь – не продашь".
Беднота покупала в палатках и с лотков у разносчиков последние сорта мяса: ребра, подбедерок, покромку, требуху и дешевую баранину-ордынку. Товар лучших лавок им не по карману, он для тех, о которых еще Гоголь сказал: "Для тех, которые почище".
Но и тех и других продавцы в лавках и продавцы на улицах одинаково обвешивают и обсчитывают, не отличая бедного от богатого, – это был старый обычай охотнорядских торговцев, неопровержимо уверенных – "не обманешь – не продашь".
Охотный ряд восьмидесятых годов самым наглядным образом представляет протокол санитарного осмотра этого времени.
Осмотр начался с мясных лавок и Монетного двора.
"О лавках можно сказать, что они только по наружному виду кажутся еще сносными, а помещения, закрытые от глаз покупателя, ужасны. Все так называемые "палатки" обращены в курятники, в которых содержится и режется живая птица. Начиная с лестниц, ведущих в палатки, полы и клетки содержатся крайне небрежно, помет не вывозится, всюду запекшаяся кровь, которою пропитаны стены лавок, не окрашенных, как бы следовало по санитарным условиям, масляного краскою; по углам на полу всюду набросан сор, перья, рогожа, мочала… колоды для рубки мяса избиты и содержатся неопрятно, туши вешаются на ржавые железные невылуженные крючья, служащие при лавках одеты в засаленное платье и грязные передники, а ножи в неопрятном виде лежат в привешанных к поясу мясников грязных, окровавленных ножнах, которые, по-видимому, никогда не чистятся… В сараях при некоторых лавках стоят чаны, в которых вымачиваются снятые с убитых животных кожи, издающие невыносимый смрад".
Осмотрев лавки, комиссия отправилась на Монетный двор. Посредине его – сорная яма, заваленная грудой животных и растительных гниющих отбросов, и несколько деревянных срубов, служащих вместо помойных ям и предназначенных для выливания помоев и отбросов со всего Охотного ряда. В них густой массой, почти в уровень с поверхностью земли, стоят зловонные нечистоты, между которыми виднеются плавающие внутренности и кровь. Все эти нечистоты проведены без разрешения управы в городскую трубу и без фильтра стекают по ней в Москву-реку.
Нечистоты заднего двора "выше всякого описания". Почти половину его занимает официально бойня мелкого скота, помещающаяся в большом двухэтажном каменном сарае. Внутренность бойни отвратительна. Запекшаяся кровь толстым слоем покрывает асфальтовый пол и пропитала некрашеные стены. "Все помещение довольно обширной бойни, в которой убивается и мелкий скот для всего Охотного ряда, издает невыносимое для свежего человека зловоние. Сарай этот имеет маленькое отделение, еще более зловонное, в котором живет сторож заведующего очисткой бойни Мокеева. Площадь этого двора покрыта толстым слоем находящейся между камнями запекшейся крови и обрывков внутренностей, подле стен лежит дымящийся навоз, кишки и другие гниющие отбросы. Двор окружен погребами и запертыми сараями, помещающимися в полуразвалившихся постройках".
"Между прочим, после долгих требований ключа был отперт сарай, принадлежащий мяснику Ивану Кузьмину Леонову. Из сарая этого по двору сочилась кровавая жидкость от сложенных в нем нескольких сот гнилых шкур. Следующий сарай для уборки битого скота, принадлежащий братьям Андреевым, оказался чуть ли не хуже первого. Солонина вся в червях и т. п. Когда отворили дверь – стаи крыс выскакивали из ящиков с мясной тухлятиной, грузно шлепались и исчезали в подполье!.. И так везде… везде".
Протокол этого осмотра исторический. Он был прочитан в заседании городской думы и вызвал оживленные прения, которые, как и всегда, окончились бы ничем, если бы не гласный Жадаев.
Полуграмотный кустарь-ящичник, маленький, вихрастый, в неизменной поддевке и смазных сапогах, когда уже кончились прения, попросил слова; и его звонкий резкий тенор сменил повествование врача Попандополо, рисовавшего ужасы Охотного ряда. Миазмы, бациллы, бактерии, антисанитария, аммиак… украшали речь врача.
– Вер-рно! Верно, что говорит Василий Константиныч! Так как мы поставляем ящики в Охотный, так уж нагляделись… И какие там миазмы, и сколько их… Заглянешь в бочку – так они кишмя кишат… Так и ползают по солонине… А уж насчет бахтериев – так и шмыгают под ногами, рыжие, хвостатые… Так и шмыгают, того и гляди наступишь.
Гомерический хохот. Жадаев сверкнул глазами, и голос его покрыл шум.
– Чего ржете! Что я, вру, что ли? Во-о какие, хвостатые да рыжие! Во-о какие! Под ногами шмыгают… – и он развел руками на пол-аршина.
Речь Жадаева попала в газеты, насмешила Москву, и тут принялись за очистку Охотного ряда. Первым делом было приказано иметь во всех лавках кошек. Но кошки и так были в большинстве лавок. Это был род спорта – у кого кот толще. Сытые, огромные коты сидели на прилавках, но крысы обращали на них мало внимания. В надворные сараи котов на ночь не пускали после того, как одного из них в сарае ночью крысы сожрали.
Так с крысами ничего поделать и не могли, пока один из охотнорядцев, Грачев, не нашел, наконец, способ избавиться от этих хищников. И вышло это только благодаря Жадаеву.
Редактор журнала "Природа и охота" Л. П. Сабанеев, прочитав заметку о Жадаеве, встретился с Грачевым, посмеялся над "хвостатыми бахтериями" и подарил Грачеву щенка фокса-крысолова. Назвал его Грачев Мальчиком и поселил в лавке. Кормят его мясом досыта. Соседи Грачева ходят и посмеиваются. Крысы бегают стаями. Мальчик подрос, окреп. В одно утро отпирают лавку и находят двух задушенных крыс. Мальчик стоит около них, обрубком хвоста виляет… На другой день – тройка крыс… А там пяток, а там уж ни одной крысы в лавке не стало – всех передушил…
Так же Мальчик и амбар грачевский очистил… Стали к Грачеву обращаться соседи – и Мальчик начал отправляться на гастроли, выводить крыс в лавках. Вслед за Грачевым завели фокстерьеров и другие торговцы, чтобы охранять первосортные съестные припасы, которых особенно много скоплялось перед большими праздниками, когда богатая Москва швырялась деньгами на праздничные подарки и обжорство.
Текущая страница: 1 (всего у книги 8 страниц)
Владимир Гиляровский
Рассказы и очерки
ПРОКОРМИТЬСЯ БЫ
(Из жизни актеров)
Случилось мне летом 1883 года быть в городе Орле. Я остановился в гостинице, а так как день был свободный, пошел прогуляться по городу. На самой главной улице у подъезда гостиницы толкался народ, окружив какой-то громадный вагон, стоявший на улице.
– Что это там делается? – спросил я одного из лавочников.
– Актеров провожают, ну и глядят, – пояснил он мне.
Я подошел ближе, в самую толпу. Перед нами стоял громадный, старый, вылинявший рыдван, напоминавший не то «Ноев ковчег», не то самый скверный вагон железной дороги. Рыдван был запряжен четверкой заморенных лошадей самого жалкого вида. На широких оборванных козлах сидел не менее оборванный ямщик.
В толпе шли примерно такие разговоры.
– Актеров-то, гляди, как возят, в чем… – обращается мещанин к женщине.
– А рази в другом можно? Сейчас их на две половины: женское сословие в одну, мужчинов в другую…
– С ними вместе и зверье посадят? – любопытствует маленький мальчик.
– Это без зверья, это другие актеры, со зверьем – зверинцы, а это киатральные, сами зверье приставляют… Сейчас удивиль есть: «Медведь и паша», так мой постоялец медведя сам в овечьем тулупе приставлял на киатре.
– Как это им охота? Тоже люди, а такими делами занимаются! Лучше бы работали…
Я невольно задумался над последней фразой.
– Вы какими судьбами здесь? – вдруг услышал я сзади.
Оглянулся – мой старый знакомый, актер Л…
– По делу приехал, – сказал я.
– А вот и мы по делу едем, – сказал Л., указывая на рыдван.
– Куда же?
– В Симбирск, верст полтораста отсюда. Здесь наше дело расстроилось, сборов не было, вот и едем. Бог даст, прокормимся… Вот и наши идут. Знаком?
Из гостиницы вышли пять актеров и две актрисы. Из актеров трое были знакомы. С другими и с актрисами меня познакомил актер К.
– Ну что, все уложено? – спросил Л., одетый в русскую поддевку, подпоясанную кавказским поясом.
Из рыдвана высунулся высокий, худой, как голодный заяц, помощник режиссера:
– Все-с! Только водочки бы на дорожку!
– Да, надо, возьми бутылку, – сказал Л.
– Две бы взять… дорога дальняя, – несмело заговорил актер маленького роста.
– Пожалуй, две, вот восемьдесят копеек, – подал Л. деньги.
– Помилуйте, господин Л., какой расчет, а? Добавить полтинник – четверть целую и возьмем.
– Куда четверть! Две бутылки довольно.
Помощник исчез и через минуту вернулся с водкой.
– Теперь, господа, с богом, садитесь. Вы и вы, mesdames, поезжайте до заставы на извозчиках, а мы в колеснице. Проводишь нас, Владимир Алексеевич? – обратился он ко мне.
Я согласился, и мы вшестером поместились в рыдване.
– Трогай!
Ямщик затопал, зачмокал, засвистал, и рыдван закачался по скверной мостовой, гремя и звеня; каждый винтик в нем ходуном ходил.
Мы сидели шестеро, а места еще оставалось в этом ковчеге, хотя целый угол был завален узелками и картонками.
– А что, господа, в каком мы классе едем? – сострил кто-то.
Все промолчали.
Сидели мы по трое в ряд, причем помощник поместился как-то в висячем положении. Сзади на главном месте сидели Л. и С. Последний стал актером недавно – это был отставной гусар, щеголь, когда-то богатый человек. Несмотря на его поношенный костюм, старый шик еще не покинул его. На руках были шведские сиреневые перчатки, а в глазу монокль. Третий сидел Р. Его бледное лицо, шляпа à la brigand, из-под которой светлыми прядями спускались жидкие прямые волосы, выгоревшее и поношенное пальто и сапоги в заплатах как нельзя более подходили к окружающей обстановке.
– Что будет в Симбирске? – заговорил он.
– Я думаю, что будут дела! Все-таки состав для такого города весьма недурен. Ты как думаешь?
– Я думаю, что выпить надо, – в ответ сказал С-ов.
– Что дело, то дело-с! – заегозил помощник и вынул бутылку.
– Погодите, господа, за заставой выпьем, – уговаривал Л.
– Да вот и застава!
Наш рыдван выкатился за два заставных столба и мягко заколыхался по пыльной дороге.
Влево в тени берез, которыми усажена была дорога, нас уже дожидались актрисы.
Мы сели на траву. Помощник режиссера откупорил обе бутылки.
– Зачем это вы обе?
– Пить-с! Да еще я думаю бутылочку бы взять… Вот и они выпьют, – указал на меня помощник.
Л. достал серебряный стакан, рыбу-воблу и связку кренделей.
– И тут без кренделей не могут. Ну, актерики-с, – сострил С-ов.
– Ну-ка, отвальную, – начал Л. и налил мне водки.
Выпили, и через пять минут водки не было…
– Ну, господа, теперь в путь! – вставая, сказал Л.
Попрощались. Перецеловались…
– В Москве увидимся! – крикнул из рыдвана Л.
– Увидимся постом! Желаю сотни заработать!
– Куда сотни! Дай бог прокормиться, с голоду не умереть или без платья не вернуться, – как-то печально промычал С-ов.
– До свидания!
– До свидания!
Через несколько минут рыдван скрылся за поворотом, и только долго еще треск и звон винтов и винтиков древней повозки доносились до меня по вечерней заре.
Дай им бог прокормиться!
БЕГЛЫЙ
Стояла весна. Кое-где в глубоких оврагах вековечной тайги белелся снег, осыпанный пожелтелыми хвоями, а на скатах оврагов, меж зеленевшей травы кое-где выскакивали из-под серого хвороста голубоватые подснежники. Верхушки мелких сосенок пустили новые ростки, светло-зеленые, с серыми шишечками на концах, заблистали бриллиантовые слезки на стволах ели, сосны и кедра. Молодая березка зазеленила концы своих коричневых почек, а на окраинах и вся покрылась изумрудным убором, рельефно отделяясь от темной стены старых елей и сосен и еще черневшихся лиственниц.
По утрам окраины тайги оживали: тысячи птиц кричали без умолку на разные голоса. Самый воздух, согретый яркими лучами солнца, был полон весеннего аромата сосны и березовой почки, полон расцветающей жизни, полон могучей силы.
Никогда не бывает так прекрасна тайга, как весной! И чем дальше человеческое жилье, чем тайга глуше, тем она прекраснее, величественнее и тише.
В самой глуши никто не нарушит ее тихой жизни, никто не мешает ее концерту, ее гармонии.
Каждая птичка поет сама по себе, дятел сердито стучит в дерево, ловя червячков, проделавших удивительные ходы в древесине, плачет кукушка, ветер гудит, стонут от него косматые головы седых великанов.
Всякий звук сам по себе, а дирижер – сама тайга – все эти раздельные звуки сливает в одно, и выходит концерт поразительный.
Человек заслушается этого весеннего, дикого и очаровательного таежного концерта, так заслушается, что всю жизнь тайга будет ему мерещиться и живо будет вставать в памяти.
И тем живее встает она, чем безотраднее ему. И скажет тот человек, если он болен лежит или заброшен в душный каземат, скажет одно:
– Послушать бы тайгу денек, как кукушка кукует, как дятел долбит, как ветер гудит по вершинам, послушать бы еще раз, а там хоть и умереть!
И манит тайга человека бывалого, неудержимо манит из душной тюрьмы на вольный простор.
Рискует старый бродяга попасть под плети, под меткую пулю часового, а все-таки рвется хоть денек послушать кукушку в тайге, поплакать с ней, как и он, бездомной, и умереть, отощав с голоду, или опять вернуться в тюрьму, обновленным таежной волей, до следующей весны, до следующих надежд на побег.
Бывалого бродягу зовет кукушка, а молодого удальца тянет родина далекая, дойти до которой редким приходится.
Раза два удалец попробует побороть неизмеримое расстояние тайги, раза два опять неволей вернется в каземат, а на третий он и родину, пожалуй, готов забыть, а все-таки неудержимо бежит поплакать с кукушкой о далекой родине.
И вытягивает весна удалых добрых молодцев из-за решеток железных, из-за каменных стен, из-за острых штыков. И не страшны им в ту пору стены, не грозна смерть – они сами не помнят себя, очарованные притягательною силой благоухающей вольной тайги.
– Воля! Вот она, воля-то, где! А-ах!.. Не надышишься просто! И сосной, и березкой пахнет… А там…
Он вздохнул и задумался.
Это был плотный тридцатилетний человек, в арестантском халате и шапке без козырька.
– А-ах! Хорошо! – вздохнул он еще раз. – А чего стоило добраться сюда. Да! Даже страшно. Впрочем, чего страшного – пуля, смерть, и только. Страшно там, в этих подземельях, где, того и гляди, тебя задавят землей, как червя в норе, в темноте. Сгинешь и свету божьего не увидишь! Пуля что! Чик и шабаш! А там всю жизнь под землей, без надежды на солнышко взглянуть! Всю жизнь…
Он задумался.
– А солнышко-то, солнышко!
Бродяга прикрыл глаза сверху, как козырьком, рукой и посмотрел на запад.
А оттуда сквозь чащу дерев прорывались режущие, ярко-красные лучи заходящего солнца. Они играли и бегали на стволах деревьев, соскакивали с них и блестящими «зайками» прыгали дальше на следующих стволах, на чуть зазеленевшейся траве, на сети сучьев.
Лучи все ярче и ярче горели, и наконец меж стволами начал скользить самый диск солнца, переливавшийся, как расплавленный металл, брызгавший сиянием ослепительных лучей.
Бродяга, стоявший на берегу лесного оврага, жмурился, а все продолжал смотреть на солнце, опускавшееся за верхушки леса.
Чем ниже опускалось солнце, тем темнее и темнее становилась пропасть оврага.
Все выше и выше бежали золотые «зайки» по старым великанам, блеснули на их шапках, прошли розовой полоской по беловатым облакам и исчезли.
Как-то сразу почернели овраг и лес, будто задернулись от света черной занавесью. Сразу холодно стало.
Бродяга вздрогнул, нащупал спички в кармане и стал опускаться на дно оврага, захватывая по пути сухой валежник.
Снизу тянуло холодом. Там еще белелся снег. Бродяга взглянул на дно и переменил свое намерение. Он опять поднялся наверх, выбрал чистую полянку, натаскал хворосту, вынул спичку, погрел ее сначала за ухом и зажег.
Чуть заметными, беловатыми полосками побежал огонь по сухому валежнику, зачернелся дым, а потом полосы огня, по мере того как темнело небо, краснели; клубы дыма исчезали в темноте, сверкая по временам мчавшимися кверху звездочками искр, или прорезывались кровавыми языками пламени, когда бродяга шевелил костер или бросал свежий валежник.
Он вынул из мешка хлеб, воткнул кусок на палочку и стал жарить над угольями. Хлеб дымился, трещал и слегка обгорел.
Бродяга аппетитно понюхал, снял шапку, положил ее на колени, перекрестился и стал есть.
Свежий ветерок подул из-за оврага и гулко зашумел вершинами.
– Наш, расейский ветерок, с заката. Ишь, теплый какой!
Он подкинул еще валежнику в костер, нахлобучил шапку до ушей, устроил постель из еловых ветвей и хворосту и лег, плотно закутавшись в широкий арестантский халат.
– Дом, а не халат… Спасибо смотрителю, будто знал, что понадобится, – новый дал! – улыбнулся он.
И представилось ему, как перетрусил носастый смотритель, придиравшийся за каждую мелочь к арестантам и дрожавший, как осиновый лист, перед начальством. Вспомнился ему и последний побег из деревянной полусгнившей тюрьмы.
Ночь была такая же темная; окно его секретной камеры с заржавленной решеткой выходило в поле, за которым синела бесконечная тайга. Под окном торчали острые концы бревенчатого частокола, заменявшего тюремную стену, и за частоколом постоянно двигалась взад и вперед полоска штыка – днем синяя и ночью светлая, от красноватого отблеска закоптелого, грязного фонаря.
Он долгое время смотрел на тайгу, на частокол, на штык, мелькавший то вправо, то влево от окна.
По этому штыку можно было знать, где часовой, близко или далеко.
Тогда ночь была темная, туманная, фонарь мигал красноватою точкой среди густого весеннего тумана, как тлеет керосиновая лампа в бане.
Он выставил полугнилую раму, скрутил из белья веревку, связал этой веревкой два прута решетки, всунул в веревку полено, принесенное из коридора под халатом еще накануне, и начал его повертывать. Веревка скручивалась. Вольный, свежий ветер прорывался в тесную, душную камеру и освежал, ободрял его, уставшего до поту. Веревка скручивалась, связанные ею прутья сжимались.
С другой стороны он также связал два прута и скрутил веревку.
Образовалось отверстие, голова в него проходила свободно.
Вспомнил он, как хлопали по грязи кеньги часового, удалялся влево отблеск штыка, вспомнил он смелый прыжок, крики, выстрелы, шум сзади, свист пули около уха.
Но вспомнилось все это как-то неясно, будто давно это случилось, а не три дня назад.
А ветер все гудел вершинами…
Бродяга сквозь полусон прислушивался к этому шуму, напоминавшему ему ночи – далеко, далеко отсюда…
Яркий огонь близкого костра грел ему лоб, и сквозь закрытые веки бродяга видел, или, лучше сказать, чувствовал, сначала красное, а потом фиолетовое зарево, глазам было больно, но он напрасно напрягал усилия открыть их. При каждой тщетной попытке поднять веки зарево только принимало более яркую окраску и еще крепче сковывало глаза и усталые члены.
Он был как бы в забытьи, голова горела, мозг сжимался, грудь давило, и всевозможные картины, одна другой фантастичнее, мелькали в его воображении…
Он забыл в этот миг все, все…
НА ПЛОТАХ
Лед прошел. Вода на Москве-реке стала сбывать, а площади низин все еще были залиты на далекое пространство. По более высоким берегам синелись на черном иле надвинутые одна на другую и забытые водопольем льдины; по оврагам в виде громадных спящих чудовищ лежал снег, а на обрывах на коричневом фоне старой травы просвечивали зеленоватые пятнышки и оживляли мертвые обрывы. Река ожила. Серые чайки парили над водой, с трудом рассматривая в желтой ряби стальную полоску, камнем бросались за добычей, хлопали по воде крыльями, и трепещущая стальная полоска, извиваясь, блестела в их изогнутых клювах.
Время от времени из-за дальнего мыса выдвигалась темная масса, широкая, длинная, извивающаяся по зеркалу воды, как исполинская змея. На концах ее мерно покачивались взад и вперед высокие фигуры, и когда масса подвигалась ближе, то фигуры росли, росли и, как на волшебной декорации, обращались в мужиков и баб, усиленно поднимавших неуклюжие длинные весла на концах дровяного плота.
Один из таких плотов подходил к Москве.
На середине плота, на куче соломы, с багром в руках стоял мужик, одетый в синюю пестрядинную рубаху, жилет, который был расстегнут, лапти и овчинную шапку, заломленную на затылок. Вся фигура мужика с грудью колесом, поднятой головой и рукой на багре, которым он направлял оголовок плота, напоминала в общем лихого лоцмана на картинах крушений судов. Его лицо с чуть заметной растительностью, двумя клочками приткнувшейся к углам подбородка, так и горело беззаветной удалью и сознанием своей силы. Рамка волос, выбившихся из-под шапки и прилипших к изрытому морщинами лбу, была уже седовата и показывала, что сгонщику немало лет.
Плот мчался… Навстречу ему издали бежали главы церквей, красные фабрики, высокие трубы с закопченными верхушками и круглыми черными шарами. Вот белой полосой на темной перспективе замелькал ажурный Бородинский мост, полоса становилась все шире, длиннее и вдруг, освещенная мелькнувшим из-за облака солнышком, представилась плотовщикам гигантским серебряным кружевом, растянутым в воздухе между берегами реки.
– Никита Семенов, мост-от, мост-от, серебряный вроде!.. – сорвалось у кого-то из гребцов, уставившихся на панораму Москвы и лениво поднимавших весла.
А Никита весь погрузился в развернувшуюся перед ним давно знакомую картину и ничего не слышал.
Он смотрел и на кружево моста, и на дымящиеся фабрики, и на золотые главы далекого Новодевичьего монастыря, и на щетину лесистых Воробьевых гор, и на низменный Дорогомиловский берег. Каждое местечко было знакомо Никите.
Невольно всплыла в памяти Никиты первая путина на плотах из-под Можая в Москву, когда за десять рублей ассигнациями он стоял в веслах на дровяном плоту, а потом и каждую весну стал ходить на плотах, как сделали его, удалого да ловкого, сперва канатчиком, а потом сгонщиком. И хозяин сам, бывало, на плоту стоит, а правит все Никита. Сорок одну весну на плотах ходит. А сколько горя насмотрелся он за это время! Сколько народу на его глазах потонуло, померло, без вести пропало, а уж сколько пропилось да в острогах из-за этих сплавов сгнило – и не перечтешь… И вчера один канатчик потонул под Троицей. Стали на ночь канатиться, мужик-от соскочил в воду, думал, мелко, ан в глубь попал да под плот – только и видели… Может, зацепился за дерево, так до Москвы дойдет да при выгрузке всплывет синий, опухлый. А баба-то его как вчера убивалась, все в воду рвалась, так к плоту самое-то от греха привязали…
С берега неслась звонкая, заунывная песня.
– И отчего это, – взбрело Никите, – сорок годов на погонах хожу, а песен на нашей работе не слыхивал? Сапожник поет, портняга колченогий поет, столяр поет и бурлак, и тот, на что уж каторжный, тоже временем поет, а нам вот песня и на ум нейдет.
И стал Никита добиваться, отчего на плотах песня не спорится. Сообразил он, что как сел на плот, так и греби до поздней ночи, – значит, не до песни; потом на ночь к берегу приставать, канатчик должен первый с приколом в воду соскочить, плотовщики окромя баб тоже канатиться в воду лезут. Приканатились. Холод, мокреть, обсушиться негде, спать некогда – того и гляди, плот водой сорвет. Какая тут песня? А потом опять, с пустой кашицы да с черствого хлеба петь-то мало радости. И решил Никита, что в их работе петь нельзя.
Солнышко опять спряталось за тучу, и мост, вместо ласкавшего взгляд серебряного кружева, казался серой громадной массой, утвержденной на серых, мрачных скалах, несшихся навстречу плоту и грозивших разбить его вдребезги. Плотовщикам ясно виделось, что мост несется на их плот, и они боязливо косились на него, усиленнее работая веслами.
– Наляг, братеники, наляг! – зычно покрикивал Никита, и гребцы, ободренные ровным, спокойным голосом первого на реке сгонщика, энергичнее налегали на весла и отводили плот на фарватер.
А мост все надвигался ближе и ближе, грознее и грознее вставал из воды каменный устой.
Плотовщики вскидывали головы время от времени, при передышке между ударами весла, различали живую стену у решетки моста и городового, бессильно старавшегося отогнать публику.
С моста доносились возгласы:
– На бык, ей-богу, на бык! Во налетит… Вдребезги…
– Куда правишь-то, черт, пра-а черт!.. – Последний эпитет относился к Никите.
А опасность была близка. Плот несло прямо на каменный устой, и публика, охотница до ужасных зрелищ, приготовилась видеть крушение.
– Наляг, братеники, наляг! – громче прежнего донеслось до зрителей, и они видели, как еще крепче мужики налегли на весла, как Никита багром отделил с одной стороны на аршин оголовок плота от длинного туловища, как это туловище дрогнуло, изогнулось змейкой в дугу, как оголовок с шестью низко нагибавшимися в веслах мужиками и двумя бабами исчез под мостом и весь плот, минуя устой, помчался туда же.
– Мама, мы поехали, а плот остановился, – услыхали сверху гребцы детский голос, вскоре заглушенный под мостом отголоском ударов весел, плеском воды о каменные устои и грохотом от перебегавшей на другую сторону моста публики.
Плот вынырнул на другой стороне и прямо как стрела продолжал нестись. Гребцы бросили весла и смотрели назад, на народ.
Никита, весь сияющий, без шапки обернулся лицом к мосту и раскланивался.
– Молодец, счастливо, с прибытием! – кричали ему.
– Наляг, братеники, наляг! – опять загудело по реке и раскатилось под мостом.
Опять закланялись гребцы на концах плота, зрителям плот казался все короче и короче, солома на середине плота представлялась желтым, неясным пятном, а мужики и бабы потеряли человеческие формы и казались нагибавшимися очепами деревенского колодца.
Никита надел шапку и плотнее уперся багром в оголовок. Около плота мелькнули две-три небольшие лодочки с гребцом и рулевым. Из лодок торчали багры, поленья дров, доски.
– Никита Семенов, мартышки-то мыряют! – крикнул молодой парень с оголовка плота Никите.
– У нас, Ваня, не разживутся полешком… Вороны проклятые, только и ждут, как бы плот разбило где… Чужим горем кормятся!..
– Дома по Дорогомилову-то понастроили!..
– Наляг, наляг, ребятки, канатиться скоро!
Направо перед плотовщиками раскрылась необозримая равнина Красного луга, на которой, как разбросанные кусочки зеркала, блестели оставшиеся от разлива лужи, и ряд таких же зеркал, прямых и длинных, словно обрезанных по мерке, в бороздах залитых огородов. За огородами тянулся ровный ряд куполообразных ветел, а еще дальше бурый кряж голой Поклонной горы. Вдоль берега стояли вереницы плотов с желтыми пятнами соломы и дымками костров, у которых грелись бабы в желтых, как соломенные кучи, армяках.
По берегу то к городу, то обратно к плотам сновали плотовщики, другие кучками стояли по лугу.
Некоторые кучки, круглые, делали странные движения: то поднимали вверх головы, то опускали их, то все вдруг, как по команде, наклонялись и садились на корточки, а затем опять вставали и опять смотрели в небо.
«Избалован, ах избалован плотами народ, – думал Никита, глядя на берег. – А все из-за чего?.. Деньги, кажись, трудные, а вот не жаль… Вон они в орлянку-то играют. Ишь, головы-те задрали к небу, дождя просят. Круг-то человек тридцать. Кровные денежки проигрывают, проживают. И сам пропьешь… А все хозяева… Сейчас пригнали плот, не успеешь приканатиться хорошенько, ан хозяин с водкой, да нарочно стаканище-то норовит такой, чтобы руками не обхватить… Как не выпьешь? С мокрети да с устатку и хватишь… А как хватил – в глазах круги-круги пойдут, зеленые, желтые, красные, синие… Голова закружится – ну и пошло! Вот этот первый-то стакан отравы все наше горе и есть. А там и пошла и пошла! При расчете пьяного обочтут, в трактире тот хорош, другой лучше того, все тебя угощают, ты всех угощаешь, и деньги все! Мало того, по пьяному делу разуют-разденут люди-то добрые, да еще этапом домой ушлют: не путайся, безобразник, по городам, паши, скажут, свою полосу! А все отрава… И кажинный раз думаешь: ну ее к лысому, отраву-то – а как не выпить с устатку-то… обидится…»
Никита стоял, облокотившись на багор, смотрел на луг и бормотал.
– Дядя Никита, канатиться где будешь? – крикнули ему с оголовка.
Никита вздрогнул и огляделся.
– Вон пониже ветлы-то… Наляг, ребятки, наляг…
Плот извивался и скрипел.
Иван отделился от гребцов и перешел на середину плота. Это был молодой, могучего сложения парень в одной рубахе, с расстегнутым, несмотря на свежую погоду, воротом, без шапки и босой. Он поднял толстую с заостренным концом жердь, намотал на нее бечеву, остатки которой собрал кольцами на левую руку, и встал на край плота.
Гребцы усердно работали. Никита старательно то отводил багром, то притягивал к себе оголовок.
Плот приближался к берегу.
Еще несколько ударов весел, и он искривился. Его толкнуло снизу с такой силой, что все стоявшие на нем покачнулись.
Плотовщики бросили весла, схватили шесты и отталкивались ими от берега. Канатчик Иван с приколом в руках прыгнул в воду и окунулся до шеи. Двое других прыгнули за ним, и все трое быстро очутились на берегу.
Иван, распуская кольца бечевы по мере того, как от него удалялся плот, уносимый быстрым течением, старался всадить острый конец прикола в землю, но прикол вырывало из рук и тащило вместе с Иваном и мужиками, помогавшими ему.
Наконец удалось-таки всадить прикол и забить его чекмарем1
Чекмарь
– деревянный молот.
Плот остановился и стал извиваться, как змея, которой наступили на голову.
– Третью бечеву! Подтягивай третью…
– О-от так! Крепи ее! Крайнюю, проворней! – командовал Никита.
Веревки закреплены. Плот еще треснул раза три, заскрипели его канаты из березовых прутьев, и он остановился.
* * *
Плотовщики сошли на берег.
Их встретил толстый, как слон, хозяин и, не разгибая жирных, раздутых, как в водянке, пальцев, подал Никите руку:
– С прибытием! Блаапалушна?
– Слава богу… Без задоринки…
– Спасибо, Никитушка, спасибо… Сейчас с прибытием поздравим, а потом в трактир за расчетом.
– С прибытием-то и опосля, прежде бы рассчитаться, – нерешительно заговорил Никита, посматривая на четвертную водки, стоявшую на земле.
– Опосля! Нешто это водится, что ты, Никита Семеныч, тебе хорошо, а…
– А другим-то плохо нешто? Перво-наперво расчет, а там всяк за свои выпьет…
– Ты сухой, а вон Ивану-то каково… – указал хозяин на дрожащего Ивана, с которого ручьями лила мутная вода.
– Ваня намок!
– Бог намочил, бог и высушит! – щелкал зубами канатчик.
– А ведь изнутри-то лучше погреться… Мишутка, наливай!
Мишутка, пятнадцатилетний сын дровяника, взял четвертную и налил чайный стакан.
– Кушай, Никита Семеныч…
– Пусть вон Ванька пьет, – аппетитно сплевывая, ответил Никита.
– Пей ты, порядок требует того…
– Пей, не морозь человека-то, – послышалось между плотовщиками.
– Пущай пьет… Нешто я причина… Пей, отравись…
– Какая отрава… Што ты… Сам выпью… – Хозяин взял стакан и отпил половину.
– Кушай ты теперь! – подал он Никите, закусывая густо насоленным хлебом.
– Пей поскореича, дядя Никита… Холодно ведь! – нетерпеливо крикнул Иван.
– Посудина уж больно велика… захмелею, – отнекивался Никита.
– Ничего, с устатку-то!..
– Со свиданием!
Никита залпом проглотил стакан, отломил хлеба и отошел в сторону.
Угощение продолжалось. Сначала выпил канатчик Иван, а за ним и остальные, кроме баб. Их хозяин и упросить не мог.
– Да ты пригубь, сколько можешь, Маланья.
– Не неволь: и рот поганить не буду. О празднике, живы-здоровы будем, выпьем уж.
Никита стоял поодаль и смотрел.
– Отрава проклятая, тьфу, как с голодухи-то забирючило… Вон он, народ-от, от нее, как тараканы, сонные по лугу путаются, а все отрава…
Он опять посмотрел на хозяина.
– Брюхо-то отрастил… вот бы в канатчики его на путинку, на другую, небось, стряс бы жир-то, ежели бы по-Ванькиному побегал! – добродушно улыбнулся Никита.
Ему представилось, что хозяин бежит босой за плотом, как вчера Ванька под Старой Рузой бежал: стали канатиться, а прикол-то у него вырвало, и Ванька версты четыре босой по снегу да по заливам плот догонял. И сам Никита так же, как молод был, бегивал. Ловкий был, сильный. Канатчику надо быть сильным, а сгонщику умным, чтобы течение понимать и берег, где приканатиться, разуметь.
Картины прошлого одна за другой воскресали перед Никитой.
Посреди деревни стоит большая светлая изба с огородом, а за ним зеленые луга, желтые полосы ржи, березовая роща. От рощи двигается воз сена, двое ребятишек копошатся на возу, а лошадь ведет под уздцы рослый, краснощекий Васька, сын Никиты, а рядом с ним, в красном сарафане, с граблями на плечах идет такая же рослая и красивая мать Васьки.
Неделю назад, когда Никита сел на плоты, он видел только одну мать Васькину, старую, сердитую. Березовой рощицы давно уж нет, изба почернела, соломенная крыша до половины за зиму скормлена хромому бурке и комолой буренке.
Скучно теперь в избе! На лавке сидит старуха, прядет и думает: загулял мой запивоха!.. А допрежь весело в избе было. Особенно весной. Малыши на проталинке в бабки играют, Васька из города, из извоза приедет на праздник. А теперь одна старуха в избе. Ребяток нет. Маленьких съела деревня, большого – город. Махонькие померли: от горла один, потом другой от живота летом. А на что уж знахарка Марковна старалась отходить, и кирпичиком толченым с наговором поила, и маслицем от чудотворцев мазала – ничего не помогло.
Васька – этот в городе пропал. Сперва почетливый был, покорный. В легковых извозчиках ездил, домой рублей пятнадцать, а то и двадцать на праздники-то подавал, а потом запил, в острог угодил, а там и помер. Долго тогда Никита о Ваське плакал. О том плакал, что город Ваську съел. Жил бы в деревне себе, при земле, оженился бы, а захотел погулять-попить – на то праздник есть… Плоты опять… Нешто дело плоты? Ими сыт не будешь, плоты только хозяевам хлеб, а мужику разоренье одно… Мало кто домой привезет заработок с путины – все деньги в московских трактирах остаются. Разве бабы только да какой уж каменный мужик супротив соблазна устоит… А прежде все лучше было, народ построже был, да и хозяева не спаивали. Зачем на плоты мужик идет, коли они разоренье одно? – спрашивал себя Никита. – Зачем он сам, знает, что плоты разоренье, а сорок лет ходит? А затем, что издавна заведено было отцами да дедами на плотах ходить, так и тянет. Чуть весна – вся деревня на плоты, как праздника ждешь, натосковавшись за зиму-то. А тут хлеба нет, корму скотине не хватило, а хозяин-дровяник уже объезжает деревню и задатки раздает… Картины одна за другой пестрой панорамой проходили перед Никитой.
А по реке шли плоты один за другим и канатились у берега.
У одного плота порвалась бечева и стащила в воду бабу, другой пристал к чужому плоту, порвал канаты, и хозяин испорченного плота с рабочими избил до полусмерти неосторожного канатчика, а плот унесло дальше и посадило на мель. Около разбитого плота, как из воды, вынырнули десятки мальчишек на своих легких душегубках и переловили унесенные течением дрова…
Толпа золоторотцев из «Аржановской крепости» прошла мимо Никиты наниматься выгружать дрова.
Эта толпа резко отделялась от толпы плотовщиков. При взгляде на серые, похожие одна на другую мужицкие фигуры в рваных полушубках и понитках, в шапках с торчавшими клочьями кудели и с глубокими, добродушными, слезящимися глазами на серых лицах Никите вспоминались такие же серые, однообразные, с клочками соломы на крышах, с глубокими слезящимися в прорезах соломенных завалинок окнами деревенские избы… Видно было что-то родственное между теми и другими, будто одни родили других.
Толпа оборванных, грязных, зловещих золоторотцев в остатках пальто, пиджаков, опорках напомнила Никите трущобы города, куда он как-то ходил разыскивать запутавшегося в них Ваську. Их мрачные земляные лица, их грязные облезлые фигуры напомнили Никите виденные им дома с разбитыми стеклами, с почерневшей, отвалившейся сырой штукатуркой, зловонные, шумные…
Толпа золоторотцев шла быстро… Впереди шагал с темно-бурым, лоснящимся лицом здоровяк в жилете из когда-то дорогого бархатного ковра, в форменной фуражке и опорках, привязанных веревками к оголенным по колено икрам. Остальная толпа с шумом шла за ним. За толпой, стараясь не отстать, торопился оборванец, высокий, худой, беловолосый, напоминавший всей фигурой тонконогий гриб, растущий в подвалах, и как раз сходство с этим грибом усиливала широкополая серая рваная шляпа.
Галденье толпы вывело Никиту из забытья, он осмотрелся кругом, встал и пошел в Дорогомиловский трактир за расчетом.
* * *
Дорогомилово гудело. По всей набережной, по лужам и грязи шлепали лаптями толпы сплавщиков, с котомками за плечами, пьяные. Двое стариков, обнявшись, возились в луже и, не обращая внимания на это видимое неудобство положения, обнимали друг друга за шею мокрыми грязными руками и целовались. Над самой водой, на откосе берега, раскинув крестом руки, лежал навзничь пожилой рыжий мужик в одной рубахе и в лаптях; пьяный плотовщик продавал еврею полушубок, против чего сильно восставала баба, со слезами на глазах умолявшая мужа не продавать шубы, и вместо ответа получала на каждое слово толчок наотмашь локтем в грудь и ответ: «Не встревай, дура! Ты кто?! А?» Мимо Никиты продребезжала пролетка с поднятым верхом, из-под которого виднелись лишь четыре ноги в лаптях и синих онучах, и одна из этих ног упиралась в спину извозчика.