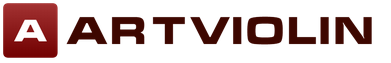«Андреев» - В пасхальном № газеты «Курьер» помещен рассказ «Баргамот и Гараська» Леонида Андреева… Андреев и философская мысль. Андреев и А.П. Чехов. Изгнание первое – из дома (добровольное). Андреев и Ф.М. Достоевский. Так жутко мне без моего царства. Леонид Андреев – новый символист. Толстовские критерии отношения и к жизни, и к литературе были близки Л. Андрееву.
«Рассказы Куприна» - Рассказ «Барри». Свои рассказы о животных Куприн не выдумывал. Рассказ «Изумруд». А Куприн А.И. отражает жизнь животных как художник. Олицетворение земной красоты. О собаках. Невыдуманные рассказы. Рассказ «Ю-ю». А.И.Куприн и А.П.Чехов. Рассказ «Барбос и Жулька». А.И. Куприн и Э.Сетон -Томпсон. Александр Иванович Куприн.
«Л.Андреев Кусака» - (по произведению Л. Н. Андреева. «Кусака» (1901). Тема милосердия и жестокости человека, тема ответственного отношения к животным. Как Кусака выражает свою ненависть и любовь? Хорошо ли поступила Леля по отношению к своему другу? 19. О как же выдержит рассудок Могучий ураган судьбы. Как вы думаете, кто будет больше скучать и почему?
«А.И.Куприн» - Модистка – мастерица, изготовляющая дамские шляпы, а также портниха. Рассказ «Тапер». Куприн с дочерьми Ксенией и Зиночкой, и няня Саша.Гатчина.1911г. Словарная работа. А.И.Куприн.Кадет.1880г. Полотеры – работник, занимающийся натиркой паркетных полов. А.И.Куприн в своем кабинете.1912 -1913г. Открытие мемориала А.И Куприну.
«Кусака Л.Н.Андреева» - Какой была Кусака Какой стала Кусака. Сострадание и бессердечие как критерии нравственности человека. …Чтобы понять, есть ли у животных душа, надо самому иметь душу. Леонид Николаевич Андреев родился 9 (21) августа 1871 года в городе Орле. Альберт Швейцер. Сострадание - жалость, сочувствие, вызываемые несчастьем другого человека.
«Жизнь Куприна» - Повесть «Поединок» (1905). «Гранатовый браслет» (1910). Затем в кадетском корпусе в Москве. «Все серо, казарменно… Там находится 4 года. Каково отношение к Желткову Василия Львовича? 12. 7. Расскажите историю любви Желткова. Родился 8 сентября 1870 г. в городке Наровчатове Пензенской губернии. Куприн в звании подпоручика служит в 46-ом пехотном Днепровском полку.
КУПРИН Александр Иванович – русский писатель. Куприн родился в селе Наровчатове Пензенской области в семье канцелярского служащего. Удивительна и трагична его судьба: раннее сиротство (отец умер, когда мальчику был год), непрерывное семнадцатилетнее затворничество в казенных заведениях (сиротский дом, военная гимназия, кадетский корпус, юнкерское училище). Но постепенно у Куприна созрела мечта стать «поэтом или романистом». Сохранились стихи, написанные им в возрасте 13–17 лет. Годы военной службы в провинции дали Куприну возможность узнать будничную жизнь царской армии, описанную им впоследствии во многих произведениях. Одним из первых произведений, основанных на лично пережитом и увиденном, стал рассказ из армейской жизни «Из отдаленного прошлого» («Дознание») (1894). В историю отечественной литературы Куприн вошёл как автор повестей и романов: «Молох», «Олеся», «Поединок», «Яма», а также как крупный мастер рассказа: «В цирке», «Болото», «Трус», «Конокрады», «Мирное житие», «Корь», «Штабс-капитан Рыбников», «Гамбринус», «Изумруд», «Суламифь», «Гранатовый браслет», «Листригоны», «Чёрная молния», «Анафема» и др. Жизнелюбие, гуманизм, пластическая сила описаний, богатство языка делают Куприна одним из самых читаемых писателей и в наши дни. Многие его произведения инсценированы и экранизированы. В цирке Листригоны Колесо времени Звезда Соломона Гранатовый браслет Олеся Гамбринус Белый пудель Суламифь Анафема Собачье сердце
Кусака
Она никому не принадлежала; у нее не было собственного имени, и никто не мог бы сказать, где находилась она во всю долгую морозную зиму и чем кормилась. От теплых изб ее отгоняли дворовые собаки, такие же голодные, как и она, но гордые и сильные своею принадлежностью к дому; когда, гонимая голодом или инстинктивною потребностью в общении, она показывалась на улице, -- ребята бросали в нее камнями и палками, взрослые весело улюлюкали и страшно, пронзительно свистали. Не помня себя от страху, переметываясь со стороны на сторону, натыкаясь на загорожи и людей, она мчалась на край поселка и пряталась в глубине большого сада, в одном ей известном месте. Там она зализывала ушибы и раны и в одиночестве копила страх и злобу. Только один раз ее пожалели и приласкали. Это был пропойца-мужик, возвращавшийся из кабака. Он всех любил и всех жалел и что-то говорил себе под нос о добрых людях и своих надеждах на добрых людей; пожалел он и собаку, грязную и некрасивую, на которую случайно упал его пьяный и бесцельный взгляд. -- Жучка! -- позвал он ее именем, общим всем собакам.- Жучка! Пойди сюда, не бойся! Жучке очень хотелось подойти; она виляла хвостом, но не решалась. Мужик похлопал себя рукой по коленке и убедительно повторил: -- Да пойди, дура! Ей-Богу, не трону! Но, пока собака колебалась, все яростнее размахивая хвостом и маленькими шажками подвигаясь вперед, настроение пьяного человека изменилось. Он вспомнил все обиды, нанесенные ему добрыми людьми, почувствовал скуку и тупую злобу и, когда Жучка легла перед ним на спину, с размаху ткнул ее в бок носком тяжелого сапога. -- У-у, мразь! Тоже лезет! Собака завизжала, больше от неожиданности и обиды, чем от боли, а мужик, шатаясь, побрел домой, где долго и больно бил жену и на кусочки изорвал новый платок, который на прошлой неделе купил ей в подарок. С тех пор собака не доверяла людям, которые хотели ее приласкать, и, поджав хвост, убегала, а иногда со злобою набрасывалась на них и пыталась укусить, пока камнями и палкой не удавалось отогнать ее. На одну зиму она поселилась под террасой пустой дачи, у которой не было сторожа, и бескорыстно сторожила ее: выбегала по ночам на дорогу и лаяла до хрипоты. Уже улегшись на свое место, она все еще злобно ворчала, но сквозь злобу проглядывало некоторое довольство собой и даже гордость. Зимняя ночь тянулась долго-долго, и черные окна пустой дачи угрюмо глядели на обледеневший неподвижный сад. Иногда в них как будто вспыхивал голубоватый огонек: то отражалась на стекле упавшая звезда, или остророгий месяц посылал свой робкий луч.II
Наступила весна, и тихая дача огласилась громким говором, скрипом колес и грязным топотом людей, переносящих тяжести. Приехали из города дачники, целая веселая ватага взрослых, подростков и детей, опьяненных воздухом, теплом и светом; кто-то кричал, кто-то пел, смеялся высоким женским голосом. Первой, с кем познакомилась собака, была хорошенькая девушка в коричневом форменном платье, выбежавшая в сад. Жадно и нетерпеливо, желая охватить и сжать в своих объятиях все видимое, она посмотрела на ясное небо, на красноватые сучья вишен и быстро легла на траву, лицом к горячему солнцу. Потом так же внезапно вскочила и, обняв себя руками, целуя свежими устами весенний воздух, выразительно и серьезно сказала: -- Вот весело-то! Сказала и быстро закружилась. И в ту же минуту беззвучно подкравшаяся собака яростно вцепилась зубами в раздувавшийся подол платья, рванула и так же беззвучно скрылась в густых кустах крыжовника и смородины. -- Ай, злая собака! -- убегая, крикнула девушка, и долго еще слышался ее взволнованный голос: -- Мама, дети! Не ходите в сад: там собака! Огромная!.. Злюу-щая!.. Ночью собака подкралась к заснувшей даче и бесшумно улеглась на свое место под террасой. Пахло людьми, и в открытые окна приносились тихие звуки короткого дыхания. Люди спали, были беспомощны и не страшны, и собака ревниво сторожила их: спала одним глазом и при каждом шорохе вытягивала голову с двумя неподвижными огоньками фосфорически светящихся глаз. А тревожных звуков было много в чуткой весенней ночи: в траве шуршало что-то невидимое, маленькое и подбиралось к самому лоснящемуся носу собаки; хрустела прошлогодняя ветка под заснувшей птицей, и на близком шоссе грохотала телега и скрипели нагруженные возы. И далеко окрест в неподвижном воздухе расстилался запах душистого, свежего дегтя и манил в светлеющую даль. Приехавшие дачники были очень добрыми людьми, а то, что они были далеко от города, дышали хорошим воздухом, видели вокруг себя все зеленым, голубым и беззлобным, делало их еще добрее. Теплом входило в них солнце и выходило смехом и расположением ко всему живущему. Сперва они хотели прогнать напугавшую их собаку и даже застрелить ее из револьвера, если не уберется; но потом привыкли к лаю по ночам и иногда по утрам вспоминали: -- А где же наша Кусака? И это новое имя "Кусака" так и осталось за ней. Случалось, что и днем замечали в кустах темное тело, бесследно пропадавшее при первом движении руки, бросавшей хлеб, -- словно это был не хлеб, а камень, -- и скоро все привыкли к Кусаке, называли ее "своей" собакой и шутили по поводу ее дикости и беспричинного страха. С каждым днем Кусака на один шаг уменьшала пространство, отделявшее ее от людей; присмотрелась к их лицам и усвоила их привычки: за полчаса до обеда уже стояла в кустах и ласково помаргивала. И та же гимназисточка Леля, забывшая обиду, окончательно ввела ее в счастливый круг отдыхающих и веселящихся людей. -- Кусачка, пойди ко мне! -- звала она к себе.- Ну, хорошая, ну, милая, пойди! Сахару хочешь?.. Сахару тебе дам, хочешь? Ну, пойди же! Но Кусака не шла: боялась. И осторожно, похлопывая себя руками и говоря так ласково, как это можно было при красивом голосе и красивом лице, Леля подвигалась к собаке и сама боялась: вдруг укусит. -- Я тебя люблю, Кусачка, я тебя очень люблю. У тебя такой хорошенький носик и такие выразительные глазки. Ты не веришь мне, Кусачка? Брови Лели поднялись, и у самой у нее был такой хорошенький носик и такие выразительные глаза, что солнце поступило умно, расцеловав горячо, до красноты щек, все ее молоденькое, наивно-прелестное личико. И Кусачка второй раз в своей жизни перевернулась на спину и закрыла глаза, не зная наверно, ударят ее или приласкают. Но ее приласкали. Маленькая, теплая рука прикоснулась нерешительно к шершавой голове и, словно это было знаком неотразимой власти, свободно и смело забегала по всему шерстистому телу, тормоша, лаская и щекоча. -- Мама, дети! Глядите: я ласкаю Кусаку! -- закричала Леля. Когда прибежали дети, шумные, звонкоголосые, быстрые и светлые, как капельки разбежавшейся ртути, Кусака замерла от страха и беспомощного ожидания: она знала, что, если теперь кто-нибудь ударит ее, она уже не в силах будет впиться в тело обидчика своими острыми зубами: у нее отняли ее непримиримую злобу. И когда все наперерыв стали ласкать ее, она долго еще вздрагивала при каждом прикосновении ласкающей руки, и ей больно было от непривычной ласки, словно от удара.III
Всею своею собачьей душою расцвела Кусака. У нее было имя, на которое она стремглав неслась из зеленой глубины сада; она принадлежала людям и могла им служить. Разве недостаточно этого для счастья собаки? С привычкою к умеренности, создавшеюся годами бродячей, голодной жизни, она ела очень мало, но и это малое изменило ее до неузнаваемости: длинная шерсть, прежде висевшая рыжими, сухими космами и на брюхе вечно покрытая засохшею грязью, очистилась, почернела и стала лосниться, как атлас. И когда она от нечего делать выбегала к воротам, становилась у порога и важно осматривала улицу вверх и вниз, никому уже не приходило в голову дразнить ее или бросить камнем. Но такою гордою и независимою она бывала только наедине. Страх не совсем еще выпарился огнем ласк из ее сердца, и всякий раз при виде людей, при их приближении, она терялась и ждала побоев. И долго еще всякая ласка казалась ей неожиданностью, чудом, которого она не могла понять и на которое она не могла ответить. Она не умела ласкаться. Другие собаки умеют становиться на задние лапки, тереться у ног и даже улыбаться, и тем выражают свои чувства, но она не умела. Единственное, что могла Кусака, это упасть на спину, закрыть глаза и слегка завизжать. Но этого было мало, это не могло выразить ее восторга, благодарности и любви, -- и с внезапным наитием Кусака начала делать то, что, быть может, когда-нибудь она видела у других собак, но уже давно забыла. Она нелепо кувыркалась, неуклюже прыгала и вертелась вокруг самой себя, и ее тело, бывшее всегда таким гибким и ловким, становилось неповоротливым, смешным и жалким. -- Мама, дети! Смотрите, Кусака играет! -- кричала Леля и, задыхаясь от смеха, просила:-Еще, Кусачка, еще! Вот так! Вот так... И все собирались и хохотали, а Кусака вертелась, кувыркалась и падала, и никто не видел в ее глазах странной мольбы. И как прежде на собаку кричали и улюлюкали, чтобы видеть ее отчаянный страх, так теперь нарочно ласкали ее, чтобы вызвать в ней прилив любви, бесконечно смешной в своих неуклюжих и нелепых проявлениях. Не проходило часа, чтобы кто-нибудь из подростков или детей не кричал: -- Кусачка, милая Кусачка, поиграй! И Кусачка вертелась, кувыркалась и падала при несмолкаемом веселом хохоте. Ее хвалили при ней и за глаза и жалели только об одном, что при посторонних людях, приходивших в гости, она не хочет показать своих штук и убегает в сад или прячется под террасой. Постепенно Кусака привыкла к тому, что о пище не нужно заботиться, так как в определенный час кухарка даст ей помоев и костей, уверенно и спокойно ложилась на свое место под террасой и уже искала и просила ласк. И отяжелела она: редко бегала с дачи, и когда маленькие дети звали ее с собою в лес, уклончиво виляла хвостом и незаметно исчезала. Но по ночам все так же громок и бдителен был ее сторожевой лай.IV
Желтыми огнями загорелась осень, частыми дождями заплакало небо, и быстро стали пустеть дачи и умолкать, как будто непрерывный дождь и ветер гасили их, точно свечи, одну за другой. -- Как же нам быть с Кусакой? -- в раздумье спрашивала Леля. Она сидела, охватив руками колени, и печально глядела в окно, по которому скатывались блестящие капли начавшегося дождя. -- Что у тебя за поза, Леля! Ну кто так сидит? -- сказала мать и добавила:- А Кусаку придется оставить. Бог с ней! -- Жа-а-лко, -- протянула Леля. -- Ну что поделаешь? Двора у нас нет, а в комнатах ее держать нельзя, ты сама понимаешь. -- Жа-а-лко, -- повторила Леля, готовая заплакать. Уже приподнялись, как крылья ласточки, ее темные брови и жалко сморщился хорошенький носик, когда мать сказала: -- Догаевы давно уже предлагали мне щеночка. Говорят, очень породистый и уже служит. Ты слышишь меня? А эта что -- дворняжка! -- Жа-а-лко, -- повторила Леля, но не заплакала. Снова пришли незнакомые люди, и заскрипели возы, и застонали под тяжелыми шагами половицы, но меньше было говора и совсем не слышно было смеха. Напуганная чужими людьми, смутно предчувствуя беду, Кусака убежала на край сада и оттуда, сквозь поредевшие кусты, неотступно глядела на видимый ей уголок террасы и на сновавшие по нем фигуры в красных рубахах. -- Ты здесь, моя бедная Кусачка, -- сказала вышедшая Леля. Она уже была одета по-дорожному -- в то коричневое платье, кусок от которого оторвала Кусака, и черную кофточку.- Пойдем со мной! И они вышли на шоссе. Дождь то принимался идти, то утихал, и все пространство между почерневшею землей и небом было полно клубящимися, быстро идущими облаками. Снизу было видно, как тяжелы они и непроницаемы для света от насытившей их воды и как скучно солнцу за этою плотною стеной. Налево от шоссе тянулось потемневшее жнивье, и только на бугристом и близком горизонте одинокими купами поднимались невысокие разрозненные деревья и кусты. Впереди, недалеко, была застава и возле нее трактир с железной красной крышей, а у трактира кучка людей дразнила деревенского дурачка Илюшу. -- Дайте копеечку, -- гнусавил протяжно дурачок, и злые, насмешливые голоса наперебой отвечали ему: -- А дрова колоть хочешь? И Илюша цинично и грязно ругался, а они без веселья хохотали. Прорвался солнечный луч, желтый и анемичный, как будто солнце было неизлечимо больным; шире и печальнее стала туманная осенняя даль. -- Скучно, Кусака! -- тихо проронила Леля и, не оглядываясь, пошла назад. И только на вокзале она вспомнила, что не простилась с Кусакой. Кусака долго металась по следам уехавших людей, добежала до станции и -- промокшая, грязная -- вернулась на дачу. Там она проделала еще одну новую штуку, которой никто, однако, не видал: первый раз взошла на террасу и, приподнявшись на задние лапы, заглянула в стеклянную дверь и даже поскребла когтями. Но в комнатах было пусто, и никто не ответил Кусаке. Поднялся частый дождь, и отовсюду стал надвигаться мрак осенней длинной ночи. Быстро и глухо он заполнил пустую дачу; бесшумно выползал он из кустов и вместе с дождем лился с неприветного неба. На террасе, с которой была снята парусина, отчего она казалась обширной и странно пустой, свет долго еще боролся с тьмою и печально озарял следы грязных ног, но скоро уступил и он. Наступила ночь. И когда уже не было сомнений, что она наступила, собака жалобно и громко завыла. Звенящей, острой, как отчаяние, нотой ворвался этот вой в монотонный, угрюмо покорный шум дождя, прорезал тьму и, замирая, понесся над темным и обнаженным полем. Собака выла -- ровно, настойчиво и безнадежно спокойно. И тому, кто слышал этот вой, казалось, что это стонет и рвется к свету сама беспросветно-темная ночь, и хотелось в тепло, к яркому огню, к любящему женскому сердцу. Собака выла.В моменты внутреннего перелома жизни общества, а следовательно, и перелома в литературных вкусах и формах появляются часто крупные художники, настолько новые и настолько разнообразные в своей новизне, что после них целое поколение идет указанными ими путями и разрабатывает намеченные ими формы. На грани 80-х и 90-х годов таким многосторонним новатором явился у нас А.П. Чехов.
До сих пор еще недостаточно оценено его громадное значение в истерии нашей новейшей литературы и влияние его на поколение писателей 90-х годов. Благодаря своей удивительной скромности и боязни всякой рекламы А.П. Чехов как бы умышленно стушевался и старался уменьшить свою роль, а публика, крайне несамостоятельная в суждениях, привыкшая руководиться крикливой указкой, и в самом деле поверила, что это - серый, дюжинный, средней руки писатель.
Здесь не место давать оценку роли и значения А.П. Чехова в русской литературе. Достаточно указать, что он создал ту "мопассановскую" форму короткого рассказа, которая стала теперь чуть не господствующей, он создал ту своеобразную форму драмы без действия, которая надолго укоренилась в нашей литературе.
Но не только художественные формы завещал А.П. Чехов; он оставил также характерное идейное наследие: насмешливое, но в то же время сострадательное отношение к людям, забитым и опошленным кошмарной действительностью, отношение, чуждое политической окраски, но насквозь пропитанное верой в то, что "лет через двести - триста" жизнь станет прекрасной.
Если другие переняли у Чехова его художественную форму, то идейное настроение его большей частью унаследовал .
У А.И. Куприна другой темперамент, другой литературный жанр, чем у А.П. Чехова. Прежде всего Куприн никогда не смеется . Чехов широко пользовался смехом как художественным орудием: его юмористические рассказы, очень часто писанные в тоне шаржа, быть может, больше всего способствовали его популярности. Собственно, герои Чехова не смешливы. Они действуют и творят пошлости серьезно; автор же бьет их карающим смехом. Напротив, герои Куприна мастера смеяться - то беззаботным, жизнерадостным, то злым, насмешливым смехом. Зато сам автор всегда серьезен в изображении жизни. Единственные опыты его в шутливом жанре - так называемые "шутки". Пародийна И. Бунина, Скитальца, М. Горького написаны с большим остроумием, но исключительно как "шутки" - без каких-либо притязаний.
В смысле формы письма характерно также, что до сих пор Куприн ни разу не пользовался драматической формой . Он написал всего небольшой, одноактный очерк "Клоун", да и тот крайне не характерен для него. Между тем Чехов в последние годы почти исключительно пользовался этой фермой. По словам Куприна, он даже говорил, что "каждый писатель должен написать по крайней мере четыре пьесы". Драматический жанр Куприну чужд. Отчасти это объясняется характерной для него статичностью мышления: он всегда изображает картины жизни, момент, эпизод; редко встретите у него длительно, последовательно развивающееся действие; а если и встретите, то это действие обыкновенно слабее описаний и характеристик. Отчасти же объясняется это, вероятно, и тем, что Куприн не мыслит внешней жизни без картин природы. У него природа играет важную и, главное, самостоятельную роль. Это не фон, усиливающий настроение картины, как в рассказах М. Горького, а самостоятельный деятель рассказа. Природа у Куприна живет своей жизнью, не считаясь с человеком, скорее человек подчиняет ей свои настроения. Страстный поклонник красоты природы, охотник, рыболов, бродяга, одним словом, верный любовник природы - Куприн счел бы святотатством подчинить ее настроению людей, превратить в бутафорский аксессуар действия.
Чехов тоже умел понимать и любить природу (вспомните его "Степь", его Астрова и др.), но у него природа и люди были как-то разграничены - либо то, либо другое. Там, где он предавался созерцанию природы, человек становился у него маленьким, маленьким, стушевывался, терялся. Напротив, в его "человеческих" рассказах вы редко найдете отголоски этих впечатлений от природы.
Естественно, что Куприн должен любить и животных - это одно с другим неразрывно. Его рассказ "Собачье счастье" показывает большую наблюдательность и любовь к собакам, а "Изумруд" - прямо восторженный гимн красивой, изящной, молодой лошади. В pendant [в соответствии (фр.) ] к нему просится другой его рассказ: "Суламифь" - такой же гимн женской красоте и молодости. Лошадь и женщина - это сопоставление, несколько восточного характера, может возмутить многих. Но для Куприна такое сопоставление не будет парадоксальным, ибо он подходит к явлениям жизни прежде всего с критерием телесной красоты. И здесь тоже замечается характерная связь Куприна с Чеховым. В произведениях Чехова вы почти не заметите культа телесной красоты, ему как будто чуждо это настроение; зато некоторые герои его, за репликами которых определенно чувствуется автор, уже выдвигают этот эстетический критерий. "Что меня еще захватывает, - говорит Астров ("Дядя Ваня"), - так это красота", - при этом он имеет в виду женскую красоту. В характерном для воззрений Куприна рассказе "Тост", где действие происходит в "всемирном анархическом союзе свободных людей", притом в 1906 году, оратор говорит: "Слава вечно юной, прекрасной, неисчерпаемой жизни. Слава единственному богу на земле - человеку. Воздадим хвалу всем радостям его тела... Любовь наша, освобожденная от всех цепей рабства и пошлости - подобна "любви цветов": так она свободна и прекрасна". "Любовь цветов" - это более красивый оборот; по существу, с таким же правом можно подставить в эту формулу "любовь животных". Ибо смысл этой моральной философии - освобождение отношений между полами от всей лживости, безнравственности, пошлости, навязанной современным браком и блюдущим его лицемерным обществом. "Изменить старому мужу, которого терпеть не можешь, - возмущается дядя Ваня, - это безнравственно; стараться же заглушить в себе бедную молодость и живое чувство - это не безнравственно".
Куприн договорил в этом вопросе то, что осталось недоговоренным у Чехова; он сделал логические выводы из его посылок. Эта жажда освобождения человеческого чувства от "цепей рабства и пошлости" возникла и у Чехова и у Куприна на почве протеста против жалкой и гнусной действительности, которую они наблюдали вокруг себя. Жизнь маленького, среднего, серого человека - вот тот материал, над которым работали и Чехов и Куприн. Не герои, не крупные интересные умные личности, с которыми приходилось им встречаться, привлекали внимание художников, а именно те никому не ведомые, безымянные люди, которые образуют массу общества и на которых особенно рельефно сказывается вся бессмысленность их существования. Люди живут в серой, нудной, пошлой обстановке, убивают все силы свои на какую-то неинтересную и ненужную работу, всю жизнь бьются и материально и морально, как рыба об лед, - без тени надежды, без проблеска веры в лучшее будущее - и для чего? Для того только, чтобы наплодить таких же серых, нудных, пошлых двуногих, которых ждет та же серая, нудная, пошлая жизнь.
Этот ужас бессмысленности жизни и составляет основной, исходный материал у обоих писателей. От него отправляются они и в изображении современной действительности, и в построении будущих перспектив. Только манера трактовки у них несколько другая: Чехов реагирует более нервно и отвечает на пошлость ударами сарказма, Куприн же спокойнее - и самую мерзостную пошлость описывает сдержанно, чисто эпически.
И Чехов и Куприн - индивидуалисты, но индивидуализм их несколько особого свойства. Они стремятся не к тому, чтобы обособить во всем личность одного человека от личности другого, как это наблюдается у Андреева и многих так называемых "модернистов". Они стремятся только к обеспечению за личностью права индивидуально переживать и наслаждаться Это - по аналогии с разновидностями коммунизма - индивидуализм потребления, а не производства.
Эта черта переносит у обоих авторов центр внимания с внешней жизни человека на внутреннюю: поэтому у них и порабощение и освобождение человека трактуется с внутренней, духовной, эстетической стороны, а не с внешней, материальной, политической. Оба они аполитики , политические интересы и политические симпатии у них имеются - особенно у Куприна, живущего в более боевое время, - но они не вносят их в свое творчество, а главное, не подчиняют им своих чисто эстетических задач, как это делают, например, М. Горький и Л. Андреев. Еще у Куприна скорее прорывается активное отношение к политическим вопросам, например, в рассказах "Демир Кая", "Бред", "Искусство", "Тост"; но и тут оно облечено в расплывчатую художественную форму. Благодаря этому произведения их свободны от элементов публицистики - они чисто художественны.
Среди плеяды писателей, начавших работать в 90-е годы, А.И. Куприн, пожалуй, единственный, не увлекшийся политическими вопросами и оставшийся чистопробным художником. В то время как художники-публицисты проявляют свои публицистические симпатии уже в самом выборе материала, который они к тому же освещают и трактуют сообразно своим убеждениям, Куприн берет всегда из действительности живым тот материал, который поражает его художественное воображение , и, обрабатывая его сообразно своей авторской индивидуальности, тем самым уже невольно привносит в него определенную окраску и оценку. Возьмите, например, его рассказ "Обида", в котором профессиональные воры просят не смешивать их с погромщиками. В основу взято "истинное происшествие". Автор описывает его, руководясь чисто художественными мотивами, - и в то же время весь рассказ проникнут боевым настроением 1905 года, с характерным для этого времени ростом чувства человеческого достоинства, уважением к общественному мнению, нравственным оздоровлением всей атмосферы, которое дала революция. Автор ни словом не заикается об оценке происходящего, а между тем его симпатии всем ясны. И то же самое во всех его произведениях. Вы напрасно искали бы где-нибудь у Куприна проявления политических взглядов автора, за исключением, пожалуй, рассказа "Тост", а между тем по этим произведениям, и только по ним, вы знаете, что Куприн всей душой сочувствует борьбе угнетенных классов за освобождение от гнета.
В рассказе "Тост", где, как мы указывали, изображен в некотором роде идеальный строй, оратор говорит: "Вот гляжу я на вас, гордые, смелые, ровные , веселые..." Именно таким ровным является сам Куприн - ровным в своих настроениях, не позволяющих ему увлекаться и разбрасываться под минутными впечатлениями, ровным в своем гармоническом спокойном творчестве, ровным и в красивой, образной, эпической речи.
Такими словами характеризует наше время известный уже нам оратор 1906 года в рассказе "Тост". Здесь даны два положения: обширная и прекрасная земля, могущая служить раем, и порочные люди, населяющие ее. В этих двух положениях заключается вкратце квинтэссенция почти всего творчества Куприна: описание печальной действительности и предчувствия прекрасного будущего.
Свою молодость Куприн провел в армии: не удивительно, что военная среда оставила в нем немало сильных впечатлений, давших ему материал для целого ряда работ. В известном смысле эта среда представляет богатое поле для изучения "порочности" и "уродства" современного нам общества, ибо здесь на ограниченном пространстве сосредоточена длинная вереница иерархических ступеней - от крестьян и рабочих до властвующих верхов, и все это, поставленное в специфические условия скученности, безделья, самомнения и духовной ограниченности, особенно резко подчеркивает недостатки господствующих классов и бесправие угнетаемых классов нашего общества.
"Я падаю, я падаю, - думал с отвращением и со скукой герой "Поединка" Ромашов. - Что за жизнь! Что-то тесное, серое и грязное... Это развратная и ненужная связь (с женой одного офицера), пьянство, тоска, убийственное однообразие службы и хоть бы одно живое слово, хоть бы один момент чистой радости. Книги, музыка, наука, где все это?"
И люди, обреченные на жизнь в этой среде, опускаются, опошляются. Лучшие из них либо спиваются, как Назанский, либо становятся чудаками, вроде Рафальского, превратившего свою холостую квартиру в зверинец. А сколько-нибудь честолюбивые напрягают все силы, чтобы попасть в академию и, если оставаться военным, то, по крайней мере, делать блестящую карьеру. Эта ограниченность и пошлость жизни армейского офицера где-нибудь в захолустье ярко и сильно изображена Куприным также в рассказе "Свадьба". "Мы все, все позабыли, - говорит Ромашов, - что есть другая жизнь. Где-то, я не знаю, где, живут совсем, совсем другие люди, и жизнь у них такая полная, такая радостная, такая настоящая. Где-то люди борются, страдают, любят широко и сильно... Как мы живем! Как мы живем!" Но тоска по хорошей жизни Ромашовых - еще свежих, не заеденных пошлостью людей - не находит отклика в среде их сотоварищей. На его речь другой офицер, Веткин, вяло отвечает: "Н-да, брат, что уж тут говорить, жизнь. Но, вообще... это, брат, одна натурфилософия и энергетика. Послушай, голубчик, что т-такое за штука энергетика?"
В "трудовые" часы они бьют "морды" солдатам, приговаривают к "экзекуциям", то есть порке ("Дознание"), в часы "отдыха" пьянствуют, бесчинствуют в домах терпимости, издеваются над "шпаками". В минуты сентиментальности либо соблазняют деревенских девушек ("Ночлег"), либо мечтают о чувствительных романах с аристократками ("Прапорщик армейский"). "Судьба ежедневно и тесно сталкивает его (Ромашова) с сотнями этих серых Хлебниковых (забитый, жалкий солдат), из которых каждый болеет своим горем и радуется своими радостями, но все они обезличены и придавлены собственным невежеством, общим рабством, начальническим равнодушием, произволом и насилием. И ужаснее всего была мысль, что ни один из офицеров... даже и не подозревает, что серые Хлебниковы с их однообразно-покорными и обессмысленными лицами - на самом деле живые люди, а не механические величины, называемые ротой, батальоном, полком" ("Поединок").
На военной среде Куприн имел широкую возможность обрисовать "порочность" и "уродство" так называемых командующих классов, и вне военных рассказов он редко касается этих классов. К тому же мы знаем, что он не политик; изображение господствующего общества с целью публицистического освещения чуждо его авторской индивидуальности, изображение же его ради чисто эстетического интереса не менее чуждо Куприну, ибо это общество такого интереса в нем не пробуждает. Буржуазное общество в его столкновении с трудящимися классами Куприн характеризовал только однажды в своем рассказе "Молох", отчасти еще в рассказе "Корь", хотя там буржуазная семья изображена скорее в своей внутренней жизни.
Поскольку у Куприна изображаются картины современной "порочной и уродливой" жизни, его внимание больше всего привлекает мир людей, стоящих в силу ли своего образа жизни, в силу ли своих антиобщественных инстинктов вне общества. С одной стороны, это - счастливые дети природы, - счастливые, ибо у них есть та свобода и та детская близость к природе, о которой так мечтают утомленные культурными узами современные художники - страстные охотники ("Лесная глушь", "На глухарей", "Олеся"), живущие одной жизнью с природой, рыбаки ("Листригоны"). С другой стороны, это - отверженные мира сего: подонки, собирающиеся в кабачке "Гамбринус", профессиональные воры с их своеобразной "этикой" ("Обида"), конокрады, контрабандисты, шулера ("Ученик"), проститутки ("Яма"). Сюда же относится и другой вид отверженных - цирковые и убогие провинциальные театральные парии ("В цирке", "Клоун", "Как я был актером"). Эта пестрая полубродячая среда, жизнь которой связана с тысячами опасностей, уловок, авантюр, обладает, подобно рыбакам и охотникам, одной ценной чертой, которая, по-видимому, более всего привлекает к ним внимание художника: это - отсутствие мещанского благополучия, вечный риск, который, по пословице, является "благородным делом". Необеспеченная, скитальческая, обставленная опасностями жизнь этих людей, не знающих, что принесет им завтрашний день, придает им особую красочность, развивает в них оригинальную индивидуальность, дарит их "звериной красотой" (выражение Куприна). Этот интерес автора к среде со слабо развитыми общественными инстинктами носит, бесспорно, несколько авантюристский характер, но в нем имеются те же элементы, что в босяцких симпатиях М. Горького, - именно, протест против тупости чувств и мыслей обретшего благополучие и покой мещанина. Но для М. Горького босяки были ступенью в его внутреннем развитии, для Куприна же они - самостоятельно интересный материал. Он не идеализирует этот материал, теневое значение его ясно Куприну, но он как бы говорит культурному обществу: господа, вы все так безличны, безвкусны, скучны и шаблонны, что не на чем остановиться вниманию художника; я изображу вам мир отверженных вами, и вы увидите, что если в вашем обществе еще есть что-либо интересного и оригинального, так это именно то, что вы гоните от себя. Я буду рисовать тени жизни, и по этим теням вам ясно обозначится весь неприглядный контур вашего современного общества.
Кого редко встретите вы в произведениях Куприна, так это типичного русского интеллигента, фигурирующего обычно - в той или другой обстановке - у всех наших писателей. Есть, впрочем, один рассказ, в котором в пошлую, грязную мелкомещанскую среду Куприн умышленно, ради контраста, вставил одинокую фигуру такого интеллигента. Это жилец в номерах в рассказе "Река жизни". Безвольный, дряблый русский интеллигент нарисован здесь в чисто чеховских тонах. "Я больше смерти боюсь, - пишет он в своем предсмертном письме, - этих деревянных людей, жестоко застывших в своем миросозерцании, глупо самоуверенных, не знающих колебаний... Ненавижу и боюсь всех определенных, самодовольных, шаблонных, трезвых людей, знающих все наперед, - кружковых ораторов, старых волосатых румяных профессоров, кокетничающих невинным либерализмом, внушительных и елейных соборных протопопов, жандармских полковников, радикальных женщин-врачей, твердящих впопыхах куски из прокламаций, но с душой холодной, жестокой и плоской, как мраморная доска". И вот на этого "размагниченного интеллигента" повеяло "новыми, молодыми словами, буйными мечтами, свободными, пламенными мыслями". Но увы, они оказались ему не под силу. "Мой ум с жадностью развернулся им навстречу, - говорит он, - но моя душа была уже навеки опустошена, мертва и опозорена". И, поняв весь ужас своего положения и полную невозможность переродиться, он решает покончить расчеты с жизнью. "Ну, и к черту нас, - восклицает он. - Мы в уме презирали рабство, но сами росли трусливыми рабами. Наша ненависть была глубока, страстна, но бесплодна, и была она похожа на безумную влюбленность кастрата".
Мы уже раньше указали на характерную для Куприна объективность письма: он старается рисовать явления так, как они есть, так, чтобы оценка подсказывалась самими явлениями, своей же авторской оценки он старается не давать. Но есть в этом отношении два исключения. Одно - это актерская среда, пороки которой он бичует с необычайной у него страстностью. "Сцену заняли просто-напросто бесстыдник и бесстыдница, - говорится в рассказе "Как я был актером". - Все они были бессердечны, предатели и завистники друг к другу, без малейшего уважения к красоте и силе творчества, - прямо какие-то хамские, дубленые души. И вдобавок люди поражающего невежества и глубокого равнодушия, притворщики, истерически-холодные лжецы с бутафорскими слезами и театральными рыданьями, упорно-отсталые рабы, готовые всегда радостно пресмыкаться перед начальством и перед меценатами..." В этой характеристике есть, конечно, много верного, но то, что в ней верно, одинаково относится ко всем профессиям, соединяющим видное общественное положение с низким интеллектуальным цензом. Именно Куприн должен бы иметь в виду аналогию в этом смысле актерской среды с хорошо знакомой ему военной. Между прочим, характерно, что в среде писателей вообще довольно часто наблюдается какая-то вражда к актерской среде.
Другая среда, которую Куприн изображает с необычайным у него субъективизмом, хотя на этот раз уже сочувственным, это - проститутки ("Яма"). Пока приходится воздержаться от определенной оценки и этого произведения, и отношения автора к описываемой среде, так как повесть "Яма" еще не закончена. Но то, что из нее стало достоянием публики, носит чуждый Куприну характер идеализации, и самый стиль последней его повести пропитан чуждой ему слащавостью. Очевидно, мир падших женщин до сих пор остается для русского интеллигента специфическим объектом покаянных настроений, каким он был для длинного ряда литературных поколений. Это - камень преткновения даже у самых последовательных реалистов. Образ проститутки как бы впитал в себя в глазах интеллигента все несправедливости, все обиды, все насилия, совершенные в течение веков над человеческой личностью, и стал своего рода святыней. И об этот образ разбивается и скептический пессимизм Л. Андреева, и романтический идеализм М. Горького, и реализм Куприна.
Что же противопоставляет А. Куприн этой "порочной и уродливой" жизни современного общества? Есть ли у него какой-либо идеал или намек на идеал, и каким путем, думает он, будет достигнут этот идеал? Таких вопросов не ставит Куприн в своих произведениях, и прямых ответов на эти вопросы мы у него не найдем. Но зато мы найдем косвенные указания.
В повести "Поединок" Ромашов, мало-помалу понявший весь ужас и бессмыслицу окружавшей его жизни, задумывается над задачами человека. "И все яснее и яснее становилась для него мысль, что существуют только три гордых призвания человека: наука, искусство и свободный физический труд". Эти три элемента - наука, искусство и свободный физический труд - соединяются, в известном нам уже рассказе "Тост", для создания чудовищной земно-магнитной системы, которая "привела в движение все фабрики, заводы, земледельческие машины, железные дороги и пароходы; осветила все улицы и все дома и обогрела все жилые помещения; сделала ненужным дальнейшее употребление каменного угля, залежи которого уж давно иссякли; стерла с лица земли безобразные дымовые трубы, отравлявшие воздух; избавила цветы, травы и деревья - эту истинную радость земли - от грозившего им вымирания и истребления; дала, наконец, неслыханные результаты в земледелии, подняв повсеместно производительность почвы почти в четыре раза".
Все это было достигнуто тремя указанными элементами. Но мы знаем, что во времена Ромашова наука была связана и приписана к определенному министерству, искусство прозябало и зависело от сановных меценатов, наконец, физический труд был, как раб, скован по рукам и ногам и запродан капиталу. Где же отправная точка, исходя из которой можно было бы прийти к блаженному состоянию 1906 года? Где необходимое первое усилие, первый толчок?
Этот толчок, как узнаем мы из тоста знакомого нам уже оратора, был дан "нетерпеливыми, гордыми людьми, героями с пламенными душами", которые "выходили на площади и на перекрестки и кричали: "Да здравствует свобода". "И они обагряли своей праведной горячей кровью плиты тротуаров. Они сходили с ума в каменных мешках. Они умирали на виселицах и под расстрелами. Они отрекались добровольно от всех радостей жизни, кроме одной радости - умереть за свободную жизнь грядущего человечества ". "Друзья мои, - говорит дальше оратор, - разве вы не видите этого моста из человеческих трупов , который соединяет наше сияющее настоящее с ужасным, темным прошлым? Разве вы не чувствуете той кровавой реки, которая вынесла все человечество в просторное сияющее море всемирного счастья?"
Итак, первоначальным двигателем, вырвавшим человеческое общество из ужаса и бессмысленности, явилось самопожертвование героев. Благодаря альтруизму гордых, свободолюбивых людей стало возможным освобождение человечества. Эта идеалистическая точка зрения весьма характерна для аполитицизма Куприна: он не останавливается над вопросом о том, что это за люди, почему они появляются и откуда появляются. "Как они рождались в тот подлый, боязливый век, - говорит оратор, - я не могу понять этого". В борьбе с насилием побеждает, таким образом, не материальная, а моральная сила.
Когда оратор кончил свой тост, женщина необычайной красоты , сидевшая рядом с оратором, вдруг прижалась головой к его груди и беззвучно заплакала. И на вопрос о причине слез она ответила едва слышно:
А все-таки... как бы я хотела жить в то время... с ними... с ними..."
Это характерное место дает довольно ясную картину взгляда Куприна на происходящую революционную борьбу. Этот взгляд - чисто эстетический . То, что именно женщина так реагировала на воспоминание о героической борьбе, то, что это женщина необычайной красоты, и то, что ее прельщает как раз картина самопожертвования, - все это крайне типично для Куприна. Элемент самопожертвования, бесспорно, играет по сей день крупную роль в революционной борьбе, но с тех пор, как активными деятелями революции стали не одиночки, не "герои", а массы, "толпа", - этот элемент отошел на второй план, стал красивым придатком серой повседневной борьбы, лишенной внешних эффектов. Самопожертвование в этой борьбе стало будничной чертой и перестало быть добродетелью. Дерется теперь и побеждает не эта добродетель, не самопожертвование, покоряющее сердца своей моральной силой, а сплоченное усилие безымянных масс - моральная сила, опирающаяся на материальную силу. Подмечать только самопожертвование отдельных героев, не замечая работы этих безымянных средних величин, значит то же самое, что - да позволено будет сделать грубое сравнение - собирать цветы картофеля, не подозревая о существовании в его корнях питательного плода. Фактическим героем нашего времени стал собирательный деятель, и никакие "поэтические соображения" не могут оправдать игнорирование его.
Конечно, не художника дело вскрывать социологические элементы происходящей борьбы, объяснять общественный смысл этой борьбы. Он воспроизводит только в художественных образах те явления, которые наблюдает в жизни или, правильнее, те явления, которые поражают его творческое воображение. Воспроизводить картины новой социальной борьбы, совершающейся на глазах у Куприна, мешает ему не то, что он художник, а то, что его аполитическая психология чужда жизни тех слоев народа, которые выносят на своих плечах эту грандиозную борьбу и мостят своими телами путь к тому счастливому состоянию 1906 года, о котором с такой любовью говорит Куприн. Куприн ходит по периферии жизни, он обводит только ее контуры. Правда, он сочувствует реальной борьбе и борющимся, но эта борьба затрагивает в нем только человека, а не художника. Ибо его творческая психика не имеет органов для восприятия своеобразной эстетики воскресающих к новой жизни масс. Его эстетика индивидуалистична.
Вот почему красота титанической борьбы символизируется у Куприна в образе одинокой, необычайно прекрасной женщины, плачущей от тоски по самопожертвованию. Если говорить в терминах довольно распространенного противопоставления мужского и женского начала, то самопожертвование действительно будет женской чертой, тогда как борьба за власть - мужской. Героизм, торжествующий физически путем победы, воплощается в образе мужчины; героизм, торжествующий морально путем самопожертвования, воплощается в образе женщины. Поэтому-то наша старая революционная борьба (особенно 70-х годов), которая дала прямо сказочные образцы самопожертвования, носит отпечаток, если можно так выразиться, женской красоты; это именно "женщина необычайной красоты". Современная же борьба пролетарских масс с ее несколько угловатой, суровой эстетикой напоминает скорее мужскую красоту тяжелых мускулистых фигур Родена или Менье.
Из этого видно, насколько Куприн психологически принадлежит к старому поколению нашей интеллигенции, хотя по возрасту он девятидесятник. Но та психология интеллигенции, которая так высоко ставила эстетику героического самопожертвования, складывалась и господствовала в эпоху, когда это самопожертвование было главным и наиболее ценным фактом в общественной борьбе. Во времена же Куприна действуют, как уже сказано, другие силы, выдвигающие другие средства борьбы и вырабатывающие другие эстетические мерила. Быть в эпоху массового героизма эстетом индивидуальных героических усилий самопожертвования - значит разойтись с действительностью на целое поколение, стать старосветским помещиком литературы, утратить чутье самого животрепещущего, что сейчас происходит. Не отсюда ли отмеченный нами объективизм Куприна?
Нам кажется, что именно отсюда. Нам кажется, что этот объективизм основывается на известной художественной бесстрастности, происходящей оттого, что Куприн, в силу своего психологического склада, как художник, не способен реагировать на самоновейшие явления в общественной жизни, что он, подмечая, как умный и талантливый наблюдатель, многое и многое, в то же время органически не может духовно слиться с той или иной общественной группой, с ее помыслами, с ее интересами. Он одинок в нашей жизни. Одинок, как бывает одиноким холостяк, утративший способность любить. И как художник он бесстрастен в вопросах политики. От социальной борьбы его мысль рвется в лесную глушь, на морской простор. И превыше всей этой борьбы, раздирающей народы и классы, он готов поставить единое вечное - женскую любовь.
"Были царства и цари, и от них не осталось и следа, как от ветра, пробежавшего над пустыней. Были длинные, беспощадные войны, после которых имена полководцев сияли в веках, точно кровавые звезды; но время стерло даже старую память о них".
"Любовь же бедной девушки из виноградника и великого царя никогда не пройдет и не забудется, потому что крепка, как смерть, любовь , потому что каждая женщина, которая любит, - царица , потому что любовь прекрасна " ("Суламифь").
Воровский, Вацлав Вацлавович (псевдонимы: П. Орловский, Шварц, Жозефина, Фавн и др.) (1871-1923) - публицист, литературный критик. Один из первых советских дипломатов.
Два этих имени - Александр Куприн и Леонид Андреев - в начале ХХ века считались едва ли не самыми громкими. К.Чуковский в своём Дневнике рассказывает, как страстно ревновал И.Бунин к успеху своего приятеля Л.Андреева, который в то время был звездой первой величины и пользовался столь несомненной славой, что рядом с ним Бунина оскорбительно не замечали.
Ныне табель о рангах несколько изменилась, и именно И.Бунин числится в классиках - А.Куприн же с Л.Андреевым отодвинулись на второй план. Тем не менее именно они были и властителями дум, и законодателями литературной моды в ту памятную эпоху, когда расцвет русского искусства, известный ныне как “серебряный век”, подарил миру столько славных имён и художественных открытий, во многом ставших отправной точкой для эстетических исканий всего ХХ века.
Правда, в то время и А.Куприну, и Л.Андрееву доставалось от критики, причём довольно сильно. Перечитайте блестящую статью Д.Мережковского “В обезьяньих лапах”, и вы убедитесь, что для такой критики были основания. Примеры стиля Л.Андреева, его “цветов красноречия”, приводимые Мережковским, и сегодня остаются вполне убедительными: “сад вечно таинственный и манящий”, “острая тоска”, “жгучее воспоминание”, “молчаливая творческая дума”, “стихийная необъятная дума” и так далее - подобной риторики у этого писателя действительно немало. Крылатой стала и фраза Л.Толстого, что Л.Андреев пугает, а ему не страшно.
Однако тот же Мережковский, пытаясь разгадать загадку популярности Л.Андреева, его подчиняющей читателя, даже самого взыскательного, силы, замечает: “Произведения Л.Андреева напоминают письма самоубийц: “Под ложью правда, как под пеплом огонь; огня не видать, а дотроньтесь - обожжёт””.
Произведения Л.Андреева обжигают и сегодня - свидетельство правды писательского переживания и ещё чего-то, выходящего за рамки искусства. Л.Андреев касался каких-то общих болевых точек, каких-то нервных узлов самоощущения человека начала ХХ века, он был полон катастрофических предчувствий и умел это выразить так, что люди, решавшие свести счёты с жизнью, отправляли ему свои предсмертные письма.
Что касается А.Куприна, которому критика строго выговаривала за бытовизм и приземлённость, мелодраматизм и подражательность, то его произведения продолжают покорять жизненной достоверностью, вкусом к жизни и поразительным знанием действительности в самых её мельчайших подробностях, так что и сегодня представляются образцом честного и добротного реалистического письма.
лександр Иванович Куприн (1870-1938) родился в городе Наровчатове Пензенской губернии, в небогатой семье; отец его, мелкий чиновник, умер, когда сыну шёл второй год. Мать, из татарского княжеского рода, после смерти мужа бедствовала и вынуждена была отдать сына в сиротское училище для малолетних, затем гимназия, позже преобразованная в кадетскую школу, подготовка к военной карьере. Однако не поступив в военную академию (этому помешал скандал, связанный с буйным, особенно во хмелю, нравом юнкера, сбросившего в воду полицейского), А.Куприн подал в отставку и, жадный до впечатлений, стал вести страннический образ жизни, пробуя разные профессии - от грузчика до дантиста. Автобиографический жизненный материал лёг в основу многих его произведений.
Леонид Николаевич Андреев (1871-1918) происходил из семьи орловского землемера и дочери польского помещика. Уже в студенческие годы, учась на юриста в Петербургском, откуда был отчислен за неуплату, а затем в Московском университете, он подвизался на газетной ниве, подрабатывал судебными репортажами и фельетонами. Опыт работы в газете он считал чрезвычайно полезным для художественного творчества, в газетах были опубликованы и его собственные первые прозаические сочинения, посвящённые жизни социальных низов, сблизившие его, как и А.Куприна, с писателями реалистического направления, группировавшимися вокруг М.Горького. Именно последний способствовал выходу в издательстве “Знание” первой книги рассказов Л.Андреева (1901), получившей доброжелательные отклики критики и писателей-современников (Л.Толстого, А.Чехова и других), и долгое время оставался его ближайшим другом, хотя впоследствии они резко разошлись.
Фигурами А.Куприн и Л.Андреев были чрезвычайно колоритными.
Вот несколько штрихов к их облику.
И.Бунин об А.Куприне:
“...Александр Иванович очень гордился своей татарской кровью. Одну пору (во время своей наибольшей славы) он даже носил цветную тюбетейку, бывал в ней в гостях и в ресторанах, где садился так широко и важно, как пристало бы настоящему хану, и особенно узко щурил глаза. Это была пора, когда издатели газет, журналов и сборников на лихачах гонялись за ним по этим ресторанам, в которых он проводил дни и ночи со своими случайными и постоянными собутыльниками...”
К.Чуковский о Л.Андрееве:
“...Он был в каждом своём жесте вельможа. Его красивое, точёное, декоративное лицо, стройная, немного тучная фигура, сановитая, лёгкая поступь - всё это весьма гармонировало с той ролью величавого герцога, которую в последнее время он так превосходно играл. Это была его коронная роль; с нею он органически сросся. Он был из тех талантливых, честолюбивых, помпезных людей, которые жаждут быть на каждом корабле капитанами, архиереями в каждом соборе. Вторых ролей он не выносил во всём, даже в игре в городки, он хотел быть первым и единственным”.
Игровое, артистическое начало было присуще и тому и другому и по-своему выразилось в их творчестве.
Если А.Куприн, обладавший недюжинной физической силой и взрывным темпераментом, жадно устремлялся навстречу любому новому жизненному опыту, то Л.Андрееву, наделённому богатым воображением, достаточно было незначительной детали, чтобы выстроить на ней целый сюжет. Один знал жизнь досконально, подходил к ней как исследователь, добиваясь как можно более полного и подробного знания, остро ощущал мир во всём его чувственном многообразии; для другого знание реальности служило в основном толчком к философским обобщениям и постановке “проклятых вопросов” о жизни и смерти, одиночестве и отчуждении, любви и ненависти, чувстве и разуме.
омимо литературы, Л.Андреев, например, замечательно рисовал, увлекался цветной фотографией, граммофонами, любил всё громадное; дом-замок, который он на гребне литературного успеха построил по собственному проекту в глухой финской деревне Райвола и где жил вплоть до последнего дня, наезжая временами в Москву и Петербург, поражал своей огромностью и экзотичностью. В нём всегда крутилось много народу - большая семья, дети (сыновья писателя - оба впоследствии литераторы: Вадим, 1902-1976, поэт, мемуарист; Даниил, 1906-1959, известный поэт-мыслитель), газетчики, гости, и среди этого шумного коловращения - Андреев в чёрной бархатной куртке, внутренне одинокий, живущий своими мрачными фантазиями и снами.
А.Куприн спускался под воду в водолазном костюме, летал на аэроплане (полёт этот закончился катастрофой, едва не стоившей Куприну жизни), организовывал атлетическое общество... Во время Первой мировой войны в его гатчинском доме был устроен организованный им и его женой частный лазарет. Писателя интересовали люди самых разных профессий: инженеры, шарманщики, рыбаки, карточные шулера, нищие, монахи, коммерсанты, шпики... Чтобы достоверней узнать заинтересовавшего его человека, почувствовать воздух, которым тот дышит, он готов был, не щадя себя, пуститься в самую немыслимую авантюру.
О бурной жизни Куприна и Андреева ходили легенды, репортёры преследовали их, окружая и без того громкие имена самыми невероятными слухами и небылицами.
Неудовлетворённость существующим порядком вещей тянула обоих писателей к революции, так что они отдали дань революционным настроениям, оба сочувственно относились к революционерам и активно помогали им. Л.Андреев, у которого на квартире одно время собирался ЦК РСДРП, даже недолго отсидел в тюрьме. Однако после поражения революции 1905 года их упования на демократические преобразования в стране сильно ослабли, а художественные интересы, как и большой части интеллигенции того смутного времени, сместились от социального протеста и критики к исследованию противоречий самого человека, его идей и страстей. Поначалу входившие в кружок литераторов реалистического направления “Среда” (Н.Телешов, И.Бунин, Е.Чириков, Скиталец и другие), они постепенно оторвались от него, двигаясь самостоятельными путями.
Помимо собственно творчества, Л.Андреев активно занимался журналистской и издательской деятельностью. В руководимом им “Шиповнике” выходили книги известных в то время литераторов, причём отнюдь не только реалистической ориентации. Куприн также занимался журналистикой, публикуя статьи и репортажи в разных газетах, много разъезжал, живя то в Москве, то под Рязанью, то в Балаклаве, то в Гатчине, где решил обосноваться надолго...
Приветствовавшие Февральскую революцию, к большевистскому перевороту и к власти большевиков оба знаменитых писателя отнеслись резко негативно. Правда, А.Куприн поначалу пытался с ними сотрудничать и даже собирался издавать крестьянскую газету “Земля”, для чего встречался с Лениным. Но вскоре он неожиданно переходит на сторону Белого движения, а после его поражения уезжает сначала в Финляндию и затем во Францию, где оседает в Париже до 1937 года. Там он активно участвовал в антибольшевистской прессе, продолжал литературную деятельность (романы “Колесо времени”, “Юнкера”, “Жанета”, статьи и рассказы), страдая от невостребованности, оторванности от родной почвы и нищеты, а незадолго до смерти, больной, уставший, поверив советской пропаганде, вернулся вместе с женой в Россию.
Л.Андреев до своего смертного часа (он умер от болезни сердца) оставался в Финляндии. Одинокий в своём громадном, враз опустевшем, холодном и медленно разрушающемся доме, потерявший связь со страной, он с болью и тревогой наблюдал за расправами в большевистской России (статьи “S.O.S.” и “Европа в опасности”).
Острое переживание несправедливости мира начиналось у А.Куприна и Л.Андреева с традиционного для русской литературы сочувственного изображения “маленького” человека и той косной, убогой среды, в которой ему приходится влачить жалкую участь. У А.Куприна это сочувствие выразилось не только в изображении дна общества (роман о жизни проституток “Яма” и другие), но и в образах его интеллигентных, страдающих героев.
Инженер Бобров (повесть “Молох”), наделённый трепетной, отзывчивой на чужую боль душой, переживает за растрачивающих свою жизнь в непосильном заводском труде рабочих, в то время как богатые жируют на неправедно нажитые деньги. Это может показаться удивительным, но А.Куприн с его страстной, плотской (не случайно в его творчестве сильна натуралистическая тенденция) любовью к жизни был склонен именно к таким рефлектирующим, нервным до истеричности, не лишённым сентиментальности героям.
Даже его персонажи из военной среды, вроде Ромашова или Назанского (повесть “Поединок”), обладают очень высоким болевым порогом и малым запасом прочности, чтобы противостоять пошлости, цинизму и затхлости окружающей их среды. Как Боброва коробят прорывающиеся корыстолюбие и пошлость его возлюбленной, так и Ромашова тошнит от тупости военной службы, разврата офицерства, забитости солдат. Пожалуй, никто из писателей не бросил такого страстного обвинения армейской среде, как А.Куприн.
равда, в изображении простых людей А.Куприн отличался от склонных к народопоклонству литераторов народнической ориентации (хотя он и получил одобрение маститого критика-народника Н.Михайловского). Его демократизм не сводился только к слезливой демонстрации их “униженности и оскорблённости”. Простой человек у Куприна оказывался не только слабым, но и способным постоять за себя, обладающим завидной внутренней крепостью. Народная жизнь представала в его произведениях в своём вольном, стихийном, естественном течении, со своим кругом обычных забот - не только горестями, но также и радостями и утешениями.
Вместе с тем писатель видел не только её светлые стороны и здоровые начала, но и выплески агрессивности и жестокости, легко направляемые тёмными, кровожадными инстинктами (знаменитое описание еврейского погрома в рассказе “Гамбринус”).
И, пожалуй, мало кто в литературе того времени, подобно А.Куприну, столь настойчиво пытался вызволить любовь мужчины и женщины из оков пошлости и цинизма, романтизировать её, вернуть ей человечность и поэтичность. “Гранатовый браслет” стал для многих читателей именно таким произведением, где воспевается чистое, самоотверженное, бескорыстное, идеальное чувство.
Во многих произведениях А.Куприна отчётливо ощутимо присутствие этого идеального, романтического начала - оно и в его тяге к героическим сюжетам, и в его стремлении увидеть высшие проявления человеческого духа - в любви, творчестве, доброте... Не случайно и героев он часто выбирал выпадающих, выламывающихся из привычной колеи жизни, ищущих истину и взыскующих какого-то иного, более полного и живого бытия, свободы, красоты, изящества...
Блестящий изобразитель нравов самых разных слоёв общества, А.Куприн рельефно, с особой пристальностью описывал среду, быт. По его произведениям детальнейшим образом можно представить стиль жизни того времени.
Вместе с тем он как никто умел изнутри почувствовать течение естественной, природной жизни - его рассказы “Барбос и Жулька”, “Изумруд” вошли в золотой фонд произведений о животных. Идеал естественной жизни (повесть “Олеся”) для А.Куприна очень важен как некая желанная норма, он часто подсвечивает им современную жизнь, находя в ней печальные уклонения от этого идеала.
Для многих критиков именно такое естественное, органичное восприятие жизни А.Куприна, здоровая радость бытия были главным отличительным качеством его прозы с её гармоничным сплавом лирики и романтики, сюжетно-композиционной соразмерности, драматизма действия и точности в описаниях.
лександр Куприн - превосходный мастер не только литературного пейзажа и всего, что связано с внешним, визуальным и обонятельным восприятием жизни (И.Бунин и А.Куприн состязались, кто более точно определит запах того или иного явления), но и литературного характера: портрет, психология, речь - всё у этого писателя проработано до мельчайших нюансов. Причём героев он выбирает самых разных - от рефлектирующего интеллигента до циркового атлета или скаковой лошади. И всякий раз мы как читатели ощущаем не просто индивидуальный закон именно этого конкретного персонажа, но и теплоту его внутренней жизни, органику его жизнеосуществления.
Существенно и то, что даже, казалось бы, самые примитивные существа обнаруживают у А.Куприна сложность и глубину, а повествование, как правило, очень зрелищное, часто обращено - ненавязчиво и без ложной умозрительности - именно к проблемам экзистенциального толка. Он размышляет о любви, ненависти, воле к жизни, отчаянии, силе и слабости человека.
Не случайно Л.Толстой, следивший за “новой” русской литературой, выделял именно автора “Поединка”. “А.Куприн - настоящий художник, громадный талант, - говорил он. - Поднимает вопросы жизни, более глубокие, чем у его собратьев...”
Какие бы отрицательные стороны жизни ни изображал А.Куприн, в его произведениях так сильна радость жизни, жадность к её “классическим дарам”, что даже самые мрачные из его произведений всё равно оставляют светлое впечатление, несут в себе заряд бодрости. Как говорит один из купринских героев-резонёров, спивающийся поручик Назанский, “главное - не бойтесь вы, не бойтесь жизни: она весёлая, занятная, чудная штука - эта жизнь...”
отличие от А.Куприна, первым и главным мотивом творчества Л.Андреева стал мотив страха перед жизнью. В рассказе “У окна” маленький человек, мелкий чиновник Андрей Николаевич с ужасом в голосе сетует своей возлюбленной, “какая это и странная и ужасная вещь жизнь, в которой так много всего неожиданного и непонятного. Живут люди и умирают и не знают нынче о том, что завтра умрут”. В его ламентациях звучит и социальный мотив - что сильные и грубые прут напролом, топча слабых. Со временем именно мотив метафизического ужаса перед случайностями жизни и неумолимой смертью у Л.Андреева почти полностью вытесняет социальный.
Описываемая Л.Андреевым тоска повседневной жизни, первоначально имевшая социальную окраску, оборачивается тоской метафизической. Ужас бытия, экзистенциальные страхи и тревоги человека в обезбоженном мире, в мире тотального молчания, становятся главной темой писателя.
Чтобы усилить звучание этой темы, Л.Андреев в ряде рассказов делает главным героем священника (“Молчание”, “Жизнь Василия Фивейского”), на которого обрушиваются всевозможные беды и несчастья, как бы испытывая не только его веру, но и саму человеческую природу.
В основе каждой такой истории - спор с библейским мифом о праведнике Иове, на которого обрушились страшные беды и который был вознаграждён за своё смирение. У Василия Фивейского сначала тонет сынишка, потом рождается другой - идиот, спивается и гибнет в пожаре жена, однако он пытается вопреки всем этим несчастьям сохранить веру и в своём упорстве доходит до мессианского чувства, что может волей своей совершать чудеса, и даже пытается оживить мёртвого. Однако его ждёт поражение. Сокрушённый неудачей, он сходит с ума и гибнет.
Тотальное фиаско глубоко верующего человека, которого не спасает даже вера, - это вариация всё той же темы - ужаса перед жизнью-к-смерти, лишённой какого бы то ни было надличного смысла. В судьбе Василия Фивейского несчастья нагнетаются одно за другим, но сила андреевского письма здесь даже не в этом, а в тех повествовательных ракурсах и приёмах, которые он находит для выражения ужаса перед абсурдом бытия.
Вот, к примеру, один из них, приобретающий почти космический масштаб: “Прошёл ещё один год в тяжком оцепенении горя, и когда люди очнулись и взглянули вокруг себя - над всеми мыслями и жизнью их господствовал страшный образ идиота. Как прежде, топились печи, и велось хозяйство, и люди разговаривали о своих делах, но было нечто новое и страшное: ни у кого не стало охоты жить, и от этого всё приходило в расстройство”.
Частное не просто обобщается, но вырастает до символа. Образ горя приобретает всё более и более трагические, мрачные тона, причём Л.Андреев не знает в этом меры. Ребёнок-идиот превращается у него в некое исчадие ада: маленький череп с огромным неподвижным и широким лицом, похожим на страшную маску, руки с хищно скрюченными пальцами, он кричит злым, животным криком, скалит, как собака, зубы и кусается...
Л.Андрееву тесно в реалистических рамках, он нагнетает экспрессию, использует натуралистические детали, подчас впадая в очевидную литературность, а то и безвкусицу.
Однако он находит и какие-то формы, предвещающие будущие открытия русской литературы (И.Бабель, А.Платонов) с её романтической космичностью и растворённой в повествовании косноязычной внутренней речью персонажа. “И он подумал, что если бы кто-нибудь вырыл могилу, своими руками бросил туда эту женщину и живую засыпал землёй, - тот поступил бы хорошо” - так размышляет Фивейский про спивающуюся жену.
Реалистически ориентированная критика связывала такого рода тенденции с декадентскими, упадническими настроениями рубежа веков, на самом же деле Л.Андреев не только двигался в русле художественных поисков западноевропейской литературы (Э.По, Э.Верхарн, М.Метерлинк, А.Стриндберг и другие), но и предвосхищал некоторые будущие тенденции мирового искусства (экспрессионизм, философская проза и драматургия экзистенциализма).
Было в его творчестве и предчувствие тех катастрофических событий, которые обрушились на Россию ХХ столетия.
Смерть становится одним из главных персонажей Л.Андреева, она стоит в углу каждого дома, её призрак душит его героев “непроглядной тьмой ужаса”, как министра из “Рассказа о семи повешенных”, узнавшего о готовившемся на него покушении террористов.
Под действием этого ужаса само человеческое тело становится угрозой и тяготой, поскольку налито всё той же “смертной влагой”. Плоть у Л.Андреева - “злое мясо” именно по причине своей бренности и беззащитности перед “какой-то тоненькой глупой аортой, которая вдруг не выдержит и лопнет, как туго натянутая перчатка на пухлых пальцах”.
Однако “злому мясу” Л.Андреев противопоставляет то же тело, но просветлённое любовным порывом и облагороженное душевным теплом: так, в “Рассказе о семи повешенных” одна из приговорённых, Муся, целует разбойника Цыганка, а несгибаемый террорист Вернер сжимает горячими ладонями безвольную руку убийцы Янсона, парализованного предсмертным ужасом. Эти прикосновения рук и губ становятся для писателя знаком высшей человеческой общности, не знающей социальных преград, способной отогреть человеческую душу даже перед лицом небытия.
еонид Андреев - поэт смятения и страха. Страха детского, стихийного, безотчётного, которому он пытается придать “взрослость” своими излюбленными словами вроде “безумный”, “мучительный”, “необъятный” и тому подобных. В его описаниях этих пороговых психологических состояний есть некоторая истеричность и немотивированность.
Новым в его методе становится отрыв от социально-бытовых мотивировок. Человек сам по себе оказывается игрушкой в руках тёмных сил - от внешних до внутренних, игрушкой собственных неконтролируемых страстей. Так действует у него заморыш Янсон в “Рассказе о семи повешенных”, зарезавший хозяина из-за денег и покушавшийся на изнасилование хозяйки. Подвластный инстинкту, он даже не осознаёт аморальности своих действий. Так же происходит и в нашумевшем рассказе “Бездна”, где студент вслед за хулиганами насилует собственную возлюбленную.
Человек в изображении Л.Андреева беззащитен перед этими безликими тёмными силами: он страшен своей непредсказуемостью, он жалок в своей слабости. Пессимистические настроения в творчестве писателя берут верх, представляя жизнь как хаос и неуправляемую стихию. Иррациональность бытия, одиночество человека, не способного обрести гармонию и использующего разум во зло самому себе, являются у Л.Андреева основными мотивами.
Леонид Андреев работает на контрастах: непроглядная тьма и слепящий свет, грязь и чистота, красота и уродство, тепло и холод, безутешное горе и искрящаяся радость, взлёт и падение, бунт и кротость - всё рядом, рука об руку. Писатель сгущает краски, доводя их до крайности, как и человеческие состояния. Он часто изображает глаза своих персонажей - “чёрные, бездонные зрачки”, в которых “бездна ужаса и безумия”. Его образы сгущаются до аллегорий и символов: “красный смех”, “бездна”, “Некто в сером” и тому подобное. Для своих произведений он выбирает кризисные состояния человека: ожидание гибели, болезнь, смерть и так далее. Средних состояний Л.Андреев как писатель не признаёт, основа его художественного мира - именно экстремальность; “безумие” - одно из главных ключевых слов.
Однако чем более аллегоричной и абстрактной становится проза Л.Андреева, тем более она теряет в силе и убедительности. Ранний Л.Андреев в этом отношении выигрывает у позднего, хотя именно поздний пытается раздвинуть рамки реалистического канона - не столько отражать, сколько выражать, захватывая читателя своим субъективным видением и подчиняя своим эмоциям.
Отталкивание от бытовизма, стремление к философской проблематике влекли Л.Андреева к другим жанрам, и прежде всего к драматургии, где условность является более органичной. Его пьесы, так же как и проза, сочетали реалистические тенденции (“Дни нашей жизни”, “Анфиса”, “Профессор Сторицын”, “Екатерина Ивановна”, “Тот, кто получает пощёчины”) с символико-аллегорическими, опирающимися на художественный опыт античной трагедии и средневековой мистерии, выдвигающими на первый план проблемы добра и зла, гармонии и хаоса, судьбы и индивидуальной воли, бунта и покорности, разума и чувства (“Жизнь человека”, “Царь-голод”, “Анатэма”, “Мысль” и другие). Богоборческие мотивы сочетаются у Л.Андреева с антибуржуазным пафосом, негативно он относился и к индивидуалистической морали, считая её проявлением интеллигентского мещанства.
Как отмечал К.Чуковский, Л.Андреев был “трагиком по самому своему существу”, а его “чисто театральный талант, влекущийся... к традиционным преувеличенным формам, был лучше всего приспособлен для метафизико-трагических сюжетов”.
есмотря на разность их художественных миров и манер, оба писателя - и А.Куприн, и Л.Андреев - остались в истории русской литературы как глубокие выразители тревожных умонастроений начала ХХ века, а также идейно-философских и художественных исканий самой литературы, её трагических предчувствий и предвестий, её нравственной и социальной чуткости. Многие их произведения продолжают читаться и сегодня - не только как талантливое изображение тогдашней российской жизни, но и как воспроизведение сложного духовного мира человека на сломе эпох.