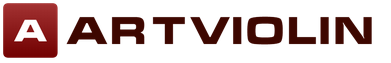В этом мире я ценю только верность. Без этого ты никто и у тебя нет никого. В жизни это единственная валюта, которая никогда не обесценится.
Думать никогда не вредно – только думать как следует и в нужном направлении. Потому одни добиваются успеха в делах, а другие нет.
О чем ты думаешь… когда ты смотришь на луну?
Я? - «О тебе… и чуточку о вечном…»
Что в этом мире мы, - не бесконечны,
Но каждый хочет, отыскать свою звезду.
Только об одном можно в жизни жалеть - о том, что ты когда-то так и не рискнул.
Пошли, посмотришь, как я жил до знакомства с тобой.
- Ты жил до знакомства со мной?
Ты знаешь, люди в большинстве своём к свободе не стремятся, а только думают, что стремятся. Всё это иллюзия. Если им дать настоящую свободу, они просто с ума сойдут. Так и знай. На самом деле люди свободными быть не хотят.
Семья - не ячейка государства. Семья - это государство и есть. Борьба за власть, экономические, творческие и культурные проблемы. Эксплуатация, мечты о свободе, революционные настроения. И тому подобное. Вот это и есть семья.
Я постараюсь больше не звонить,
Не бредить по тебе в объятьях ночи.
И больше никому не говорить,
Что нужен ты, родной, мне очень-очень.Я постараюсь больше не писать,
И слез не лить, подумав, что другая
Готова так же жадно целовать,
В любимых мне объятьях утопая.Я постараюсь больше не мечтать,
Ведь ты не мой, а я всегда хотела,
Чтоб каждый день и снова, и опять
Твоя улыбка душу мою грела.Я постараюсь больше не любить.
Таких, как ты, и правда очень много.
Но знаешь... никогда ведь не забыть
Тебя... такого самого родного...
А ты думал, вернуться просто,
Вот придёшь - и начнём сначала?
Ты не знал, человек мой жёсткий,
Как я голос твой забывала.
Ты не знал, как я задыхалась
Без тебя в этих серых стенах,
Как домой приходить боялась,
Как жила, как одна болела,
Как подушку твою сжимала,
Как часы в темноте стучали,
Доброй ночи тебе желала,
А сама не спала ночами.
Ты не знал, мой недобрый милый,
Я за эти злые полгода
Перемучилась, долюбила,
И не жду твоего прихода.
И словам твоим не поддамся,
А чтоб взглядами не столкнуться
Ухожу, а ты оставайся,
Думал ты, что легко вернуться...
Ты веришь в Бога? Я его не видел…
Как можно верить в то, что не видал?
Ты извини, что я тебя обидел,
Ведь ты такой ответ не ожидал…
Я верю в деньги, их я видел точно…
Я верю в план, в прогноз, в карьерный рост…
Я верю в дом, что был построен прочным…
Конечно… Твой ответ довольно прост…
Ты веришь в счастье? Ты его не видел…
Но видела его душа твоя…
Прости, наверно, я тебя обидел…
Тогда у нас один - один… Ничья…
В любовь ты веришь, в дружбу? Как со зреньем???
Ведь это всё на уровне души…
А искренности светлые мгновенья?
Увидеть всё глазами не спеши…
Ты помнишь, как тогда спешил на встречу,
Но пробки… не успел на самолёт?!
Твой самолёт взорвался в тот же вечер,
Ты пил и плакал сутки напролёт…
А в тот момент, когда жена рожала,
И врач сказал: «Простите, шансов нет…»,
Ты помнишь, жизнь как слайды замелькала,
И будто навсегда померкнул свет,
Но кто-то закричал: «О, Боже, чудо…»
И крик раздался громкий малыша…
Ты прошептал: «Я в Бога верить буду"
И улыбалась искренне душа…
Есть то, чего глаза узреть не в силах,
Но сердце видит чётче и ясней…
Когда душа без фальши полюбила,
То разум возражает всё сильней…
Ссылается на боль, на опыт горький,
Включает эгоизм, большое «Я»…
Ты видел Бога каждый день и столько,
Насколько глубока душа твоя…
У каждого из нас своя дорога…
А вера и любовь важней всего…
Я не спросил тебя: «Ты видел Бога?»
Я спрашивал, поверил ли в него…
Стихотворение «О свободе небывалой» было написано в 1915 г. и включено в третье издание сборника «Камень» (1923). С 1914 г. Мандельштам был увлечён философией Чаадаева, которого считал апостолом, несущим с востока на запад важную для Мандельштама идею свободы.
В статье «Пётр Чаадаев» (1915) Мандельштам отмечал, что любая деятельность Чаадаева была похожа на служение или священнодействие. В личности Чаадаева слились нравственный и умственный элементы. Потребность ума была «величайшей нравственной необходимостью» Чаадаева. Именно нравственная свобода, свобода выбора, «дар русской земли» стала подарком Чаадаеву за то, что он подчинил свою личность идее.
Литературное направление и жанр
Стихотворение «О свободе небывалой» принадлежит к литературному направлению акмеизма. В аллегорической форме диалога поэта с верностью Мандельштам воплощает философское учение Чаадаева, которое было созвучно идее самого Мандельштама. Для поэта 20 в. философ 19 в. был примером личности, сумевшей организоваться из сырого материала с помощью идеи в архитектурную форму, чтобы готической мыслью «возносить к небу свои стрельчатые башни». Этот образ человека как собора созвучен поэзии акмеизма.
Жанр стихотворения – философская лирика. Форма интересна тем, что, хотя стихотворение являет философские взгляды Чаадаева, они проходят через призму восприятия лирического героя, чья личность в данном случае совершенно совпадает с личностью Мандельштама.
Тема, основная мысль и композиция
Тема стихотворения – рассуждения о взаимосвязи свободы и постоянства.
Основная мысль: небывалую свободу получает только тот человек, кто подчиняет себя полностью определённой идее (Мандельштам подразумевал Чаадаева). Эта идея созвучна библейскому «познайте истину, и истина сделает вас свободными».
Стихотворение состоит из 4 строф. Оно представляет диалог лирического героя с верностью. В первых двух строчках лирический герой провозглашает своё жизненное кредо – небывалую свободу. Ему возражает верность (в стихотворении это синоним прекрасного постоянства). Мысль, которую высказывает верность, понять трудно. Герой может подчиниться свободе, только полностью принадлежа верности.
В ответе героя нет противоречия. Он уточняет, что обручён (а не просто подчинён) свободе. А это совсем другие отношения: не отношения сыновней покорности, а отношения взаимной ответственности.
Вывод стихотворения заключён в последней строфе. В ней Мандельштам обращается к ещё одной философской мысли Чаадаева. В расселении собственного русского народа на «возможно больших пространствах» Чаадаев видел идею русской истории, противоположной западной, заселяющей мир идеями, ценностями и образами. Чаадаев, а вслед за ним Мандельштам, противились такому «пространственному» историческому пути, по которому пошла Россия, видели в нём тупик, движение к смерти.
Признавая себя частью исторического пути России, герой отмечает главное и положительное, что он даёт – свободу. Именно поэтому прекрасное постоянство и верность уже не важны. Они и так присущи человеку, обретшему свободу.
Тропы и образы
Верность, с которой беседует лирический герой, в стихотворении описана с помощью олицетворений. Она плачет в ночи, доказывает свою точку зрения лирическому герою и возлагает на него свою корону. Корна здесь – символ подчинения верности и одновременно выделения, знака её особого предпочтения. Вспомним, что корона в истории – знак не только власти, но и ответственности, бремени. Такой же смысл коронования во время венчания.
Герою корона верности кажется лёгкой (это перекликается с библейским «бремя моё лёгко и иго моё благо). Бремя свободы, которую обретают только коронованные верностью и постоянством, сточки зрения лирического героя, гораздо тяжелее.
Образ свободы, как и верности, тоже аллегорический. Глаголы подчинён и обручён по отношению к свободе не противопоставлены друг другу, но отражают разные степени взаимодействия со свободой лирического героя.
В стихотворении важна точность эпитетов: свобода небывалая , сладко думать (наречный), лёгкая корона, прекрасное постоянство. Все они относятся к абстрактным понятиям. Вообще всё стихотворение говорит не просто о нематериальном, духовном мире, но о философских абстракциях, это интеллектуальный и одновременно нравственный спор. Материальные образы свечи как приметы ночи и пространства (подразумевается – России) – это пространственно-временные ориентиры в стихотворении.
Метафоры «брошенные в пространстве, обречённые умереть» раскрывают состояние русского человека и человека вообще в материальном мире, сметённого историческими событиями, если он не обретёт свободу, подчинившись верности и постоянству.
Размер и рифмовка
Стихотворение написано двустопным анапестом. Рифмовка перекрёстная. Женская рифма традиционно чередуется с мужской. Чёткость и традиционность формы не отвлекает от абстрактно-логических идей стихотворения.
- «Notre Dame», анализ стихотворения Мандельштама
- «Мы живём, под собою не чуя страны…», анализ стихотворения Мандельштама
О, спутник вечного романа,
Аббат Флобера и Золя -
От зноя рыжая сутана
И шляпы круглые поля;
Он всё еще проходит мимо,
В тумане полдня, вдоль межи,
Влача остаток власти Рима
Среди колосьев спелой ржи.Храня молчанье и приличье,
Он должен с нами пить и есть
И прятать в светское обличье
Сияющей тонзуры честь.
Он Цицерона, на перине,
Читает, отходя ко сну:
Так птицы на своей латыни
Молились Богу в старину.Я поклонился, он ответил
Кивком учтивым головы,
И, говоря со мной, заметил:
"Католиком умрете вы!"
Потом вздохнул: "Как нынче жарко!"
И, разговором утомлен,
Направился к каштанам парка,
В тот замок, где обедал он.
"От вторника и до субботы…"
От вторника и до субботы
Одна пустыня пролегла.
О, длительные перелеты! -
Семь тысяч верст – одна стрела.И ласточки, когда летели
В Египет водяным путем,
Четыре дня они висели,
Не зачерпнув воды крылом.
"О свободе небывалой…"
О свободе небывалой
Сладко думать у свечи.
– Ты побудь со мной сначала, -
Верность плакала в ночи.– Только я мою корону
Возлагаю на тебя,
Чтоб свободе, как закону,
Подчинился ты, любя…– Я свободе, как закону,
Обручен, и потому
Эту легкую корону
Никогда я не сниму.Нам ли, брошенным в пространстве,
Обреченным умереть,
О прекрасном постоянстве
И о верности жалеть!
"Бессонница. Гомер. Тугие паруса…"
Бессонница. Гомер. Тугие паруса.
Я список кораблей прочел до середины:
Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,
Что над Элладою когда-то поднялся,Как журавлиный клин в чужие рубежи -
На головах царей божественная пена -
Куда плывете вы? Когда бы не Елена,
Что Троя вам одна, ахейские мужи?И море, и Гомер – всё движется любовью.
Кого же слушать мне? И вот, Гомер молчит,
И море черное, витийствуя, шумит
И с тяжким грохотом подходит к изголовью.
"С веселым ржанием пасутся табуны…"
С веселым ржанием пасутся табуны
И римской ржавчиной окрасилась долина;
Сухое золото классической весны
Уносит времени прозрачная стремнина.
Топча по осени дубовые листы,Что густо стелются пустынною тропинкой,
Я вспомню цезаря прекрасные черты -
Сей профиль женственный
с коварною горбинкой!Да будет в старости печаль моя светла:
Я в Риме родился, и он ко мне вернулся;
Мне осень добрая волчицею была,
И – месяц цезарей – мне август улыбнулся.
"Я не увижу знаменитой "Федры"…"
Я не увижу знаменитой "Федры",
В старинном многоярусном театре,
С прокопченной высокой галереи,
При свете оплывающих свечей.
И, равнодушен к суете актеров,
Сбирающих рукоплесканий жатву,
Я не услышу, обращенный к рампе,
Двойною рифмой оперенный стих:– Как эти покрывала мне постылы…
Театр Расина! Мощная завеса
Нас отделяет от другого мира;
Глубокими морщинами волнуя,
Меж ним и нами занавес лежит.
Спадают с плеч классические шали,
Расплавленный страданьем крепнет голос,
И достигает скорбного закала
Негодованьем раскаленный слог…Я опоздал на празднество Расина…
Вновь шелестят истлевшие афиши,
И слабо пахнет апельсинной коркой,
И словно из столетней летаргии
Очнувшийся сосед мне говорит:
– Измученный безумством Мельпомены,
Я в этой жизни жажду только мира;
Уйдем, покуда зрители-шакалы
На растерзанье Музы не пришли!Когда бы грек увидел наши игры…
Tristia
"– Как этих покрывал и этого убора…"
– Как этих покрывал и этого убора
Мне пышность тяжела средь моего позора!– Будет в каменной Трезене
Знаменитая беда,
Царской лестницы ступени
Покраснеют от стыда,
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
И для матери влюбленной
Солнце черное взойдет.– О, если б ненависть в груди моей кипела -
Но, видите, само признанье с уст слетело.– Черным пламенем Федра горит
Среди белого дня.
Погребальный факел чадит
Среди белого дня.
Бойся матери, ты, Ипполит:
Федра-ночь – тебя сторожит
Среди белого дня.– Любовью черною я солнце запятнала…
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Мы боимся, мы не смеем
Горю царскому помочь.
Уязвленная Тезеем
На него напала ночь.
Мы же, песнью похоронной
Провожая мертвых в дом,
Страсти дикой и бессонной
Солнце черное уймем.
Зверинец
Отверженное слово "мир"
В начале оскорбленной эры;
Светильник в глубине пещеры
И воздух горных стран – эфир;
Эфир, которым не сумели,
Не захотели мы дышать.
Козлиным голосом, опять,
Поют косматые свирели.Пока ягнята и волы
На тучных пастбищах водились
И дружелюбные садились
На плечи сонных скал орлы, -
Германец выкормил орла,
И лев британцу покорился,
И галльский гребень появился
Из петушиного хохла…А ныне завладел дикарь
Священной палицей Геракла,
И черная земля иссякла,
Неблагодарная, как встарь. -
Я палочку возьму сухую,
Огонь добуду из нее,
Пускай уходит в ночь глухую
Мной всполошенное зверье!Петух, и лев…
. . . . . . . . .
Мы для войны построим клеть,
Звериные пригреем шкуры, -
А я пою вино времен -
Источник речи италийской -
И в колыбели праарийской
Славянский и германский лен!Италия, тебе не лень
Тревожить Рима колесницы,
С кудахтаньем домашней птицы
Перелетев через плетень?
. . . . . . . . . . . .В зверинце заперев зверей,
Мы успокоимся надолго,
И станет полноводней Волга,
И рейнская струя светлей -И умудренный человек
Почтит невольно чужестранца,
Как полубога, буйством танца
На берегах великих рек.
На розвальнях, уложенных соломой,
Едва прикрытые рогожей роковой,
От Воробьевых гор до церковки знакомой
Мы ехали огромною Москвой.А в Угличе играют дети в бабки
И пахнет хлеб, оставленный в печи.
По улицам меня везут без шапки,
И теплятся в часовне три свечи.Не три свечи горели, а три встречи -
Одну из них сам Бог благословил,
Четвертой не бывать, а Рим далече -
И никогда он Рима не любил!Ныряли сани в черные ухабы
И возвращался с гульбища народ.
Худые мужики и злые бабы
Переминались у ворот.Сырая даль от птичьих стай чернела
И связанные руки затекли:
Царевича везут, немеет страшно тело -
И рыжую солому подожгли.
"В Петербурге мы сойдемся снова…"
В Петербурге мы сойдемся снова,
Словно солнце мы похоронили в нем,
И блаженное, бессмысленное слово
В первый раз произнесем:
В черном бархате <советской> ночи,
В бархате всемирной пустоты,
Всё поют блаженных жен родные очи,
Всё цветут бессмертные цветы.Дикой кошкой горбится столица,
На мосту патруль стоит,
Только злой мотор во мгле промчится
И кукушкой прокричит.
Мне не надо пропуска ночного,
Часовых я не боюсь:
За блаженное, бессмысленное слово
Я в ночи <советской> помолюсь.Слышу легкий театральный шорох
И девическое "ах" -
И бессмертных роз огромный ворох
У Киприды на руках.
У костра мы греемся от скуки,
Может быть, века пройдут,
И блаженных жен родные руки
Легкий пепел соберут.Где-то хоры сладкие Орфея
И родные темные зрачки,
И на грядки кресел с галереи
Падают афиши-голубки.
Что ж, гаси, пожалуй, наши свечи,
В черном бархате всемирной пустоты
Всё поют блаженных жен крутые плечи,
А ночного солнца не заметишь ты.
Соломинка
Когда, соломинка, не спишь в огромной спальне
И ждешь, бессонная, чтоб, важен и высок,
Спокойной тяжестью -
что может быть печальней -
На веки чуткие спустился потолок,Соломка звонкая, соломинка сухая,
Всю смерть ты выпила и сделалась нежней,
Сломалась милая соломка неживая -
Не Саломея, нет, соломинка скорей.В часы бессонницы предметы тяжелее,
Как будто меньше их – такая тишина -
Мерцают в зеркале подушки, чуть белея,
И в круглом омуте кровать отражена.Нет, не соломинка в торжественном атласе,
В огромной комнате, над черною Невой,
Двенадцать месяцев поют о смертном часе,
Струится в воздухе лед бледно-голубой.Декабрь торжественный струит свое дыханье,
Как будто в комнате тяжелая Нева.
Нет, не Соломинка, Лигейя, умиранье -
Я научился вам, блаженные слова.
Я научился вам, блаженные слова:
Ленор, Соломинка, Лигейя, Серафита.
В огромной комнате тяжелая Нева
И голубая кровь струится из гранита.Декабрь торжественный сияет над Невой.
Двенадцать месяцев поют о смертном часе.
Нет, не Соломинка в торжественном атласе
Вкушает медленный томительный покой.
«Смерть не конец, а как бы оправдание жизни». Надежда Мандельштам.
Твой зрачок в небесной корке,
Обращенный вдаль и ниц,
Защищают оговорки
Слабых, чующих ресниц.
Будет он обожествленный
Долго жить в родной стране –
Омут ока удивленный –
Кинь его вдогонку мне!
Он глядит уже охотно
В мимолетные века –
Светлый, радужный, бесплотный,
Умоляющий пока.
«Записав стихотворение “Твой зрачок в небесной корке”, – вспоминает Надежда Яковлевна Мандельштам во второй книге своей автобиографической прозы, – он <Осип Мандельштам. – С. Д.> удивленно сказал, что только Баратынский и он писали стихи женам». Даже ближайшая из немногих по-настоящему близких этой семье, Ахматова, как пишет Надежда Яковлевна, долго сомневалась в любви Мандельштама к жене: «так с мужчинами не бывает, тут что-то кроется». В той, богемной среде более обычной была смена «увлечений». И уж точно не способствовало созданию прочных человеческих связей то время – 1919-й год, двадцатые... Время русского окаянства...
«Сегодня чем старше человек, – пишет Надежда Яковлевна под конец жизни (совсем недавно!), – тем прочнее в него въелись “родимые пятна” прошлой эпохи... Под нашим небом семья, дружба, товарищество – все, что могло бы объединиться словом “мы”, распалось на глазах и не существует».
Следующие слова главки ее воспоминаний, так и названной: «Мы», – звучат как свидетельство:
«Настоящее “мы” – незыблемо, непререкаемо и постоянно. Его нельзя разбить, растащить на части, уничтожить. Оно остается неприкосновенным и целостным, даже когда люди, называвшие себя этим словом, лежат в могилах».
О свободе небывалой
Сладко думать у свечи.
– Ты побудь со мной сначала, –
Верность плакала в ночи, –
Только я мою корону
Возлагаю на тебя,
Чтоб свободе, как закону,
Подчинился ты, любя...
– Я свободе, как закону,
Обручен, и потому
Эту легкую корону
Никогда я не сниму.
Нам ли, брошенным в пространстве,
Обреченным умереть,
О прекрасном постоянстве
И о верности жалеть!
Эти стихи двадцатичетырехлетний Мандельштам написал еще в той, предреволюционной России, – написал, видать, авансом. Сполна испытать «брошенность», а еще больше – постоянное чувство роковой неизвестности каждой судьбы, личной и семейной, русскому человеку придется чуть позже. «В середине двадцатых годов, – констатирует Надежда Яковлевна, – когда столб воздуха на плечах стал тяжелее – в роковые периоды он бывал тяжелее свинца, – люди вдруг начали избегать общения друг с другом... О чем разговаривать, когда все уже сказано, объяснено, припечатано? Только дети продолжали нести свой вполне человеческий вздор… Но матери, подготовляя к жизни своих детей, сами обучали младенцев священному языку взрослых. “Мои мальчики больше всех любят Сталина, а потом уже меня”... Другие так далеко не заходили, но своими сомнениями с детьми не делился никто: зачем обрекать их на гибель? А вдруг ребенок проболтается в школе и погубит всю семью?.. “Русский народ болен”, – сказала мне П<...> Болезнь стала особенно заметной сейчас, когда прошел кризис и начинают выявляться признаки выздоровления».
Три тома мемуаров Н. Я. Мандельштам, материал к которым написан ею уже в спокойные 60-е – 70-е, – из числа мощных обличительных документов коммунистическому режиму. Это книги беспощадно правдивые и имеющие хорошее отрезвляющее действие. Но есть у них еще одно важное свойство. Эпоха там отражена в судьбе самого близкого человека. Больше того. «Жизнь моя, – пишет Надежда Яковлевна, – начинается со встречи с Мандельштамом»...
2 мая смутного 1919-го, то есть уже после стихов о Верности, произошло это... – знакомство?.. признание?.. Да не из их лексикона были сии книжные слова. «Мы сошлись», – определяет Надежда Яковлевна. Как-то сниженно с самого начала... Но почитаем, что было дальше.
«...Я совсем не отличалась ни кротостью, ни терпением, и мы ежеминутно сталкивались лбами, шумно ссорились, как все молодые пары, и тут же мирились. Он ловко перелавливал меня, когда я норовила сбежать – не навсегда, а немножко, и вдалбливал мне в голову, что пора крутни и развлечений кончилась. Я ему не верила – всюду девчонки-жены старались улизнуть и развлечься, а мальчишки-мужья скандалили, пока не находили и для себя какой-нибудь забавы... У Мандельштама было твердое ядро, глубокая основа, несвойственная людям ни его поколения, ни последующим. У него существовало понятие “жена”, и он утверждал, что жена должна быть одна».
Кто, как и когда соединил их узами, что окажутся крепче самой смерти? Ведь они, Осип Мандельштам и Надежда Хазина, даже не «догадались» повенчаться – и в этом нет удивительного. Пронизанные христианской культурой, крещенные каждый в свое время несмотря на еврейское происхождение, они так и оставались вне видимой ограды Христовой Церкви... Гражданский союз был оформлен – правда, позднее. «Так начался наш брак или грех, – заключает Надежда Яковлевна, – и никому из нас не пришло в голову, что он будет длиться всю жизнь».
«Мне все же хочется понять, – размышляет она через тридцать лет после гибели мужа, – что связывало нас с Мандельштамом. Быть может, это называется не любовью, а судьбой? Но какая же это судьба, если все могло разорваться в один миг?.. И встреча наша была случайной, а связь до ужаса неразрывной. Мы изредка против нее бунтовали, но ничего поделать не могли. Я как будто знаю, что нас связывало, и вместе с тем не понимаю. Одно ясно: расстаться нам было не дано. В дни, когда мы вместе уехали из Киева, я не представляла себе, во что все это обернется. Пока мы жили вместе, я думала, что все же наступит конец, потому что у любви есть начало и конец. Когда его увели, я поняла, что конца не будет, но еще не представляла себе, что пройдет полстолетия с нашей встречи, а наша связь не оборвется, хотя в какой-то момент все висело на ниточке. Я мучительно верю, что конца вообще не будет, но боюсь верить, пытаюсь разубедить себя, но вера не покидает меня. С ней я доживаю жизнь и никогда не узнаю, оправдались ли мои надежды и моя вера, потому что здесь об этом не дано знать, а можно только верить, а там, когда все станет ясно, все будет иначе – не так, как здесь...»
Как эту выпуклость и радость передать,
Когда сквозь слез нам слово улыбнется,
Но я забыл, что я хотел сказать,
И зрячих пальцев стыд не всякому дается...
«Я знаю, – пишет Надежда Яковлевна, – что суть вещей непознаваема и иногда до нее можно дотянуться – чуть-чуть... Я всегда почему-то вспоминала “зрячие пальцы” рембрандтовского отца, протянутого к блудному сыну – это и есть радость узнавания. И меня поразило, что, встречаясь со мной после разлуки, О. М. почему-то, закрыв глаза, проводил по моему лицу рукой, трогал лоб, глаза, губы... А впервые встретившись со мной, он все твердил мне, что сразу узнал меня...» И в другом месте воспоминаний: «Разве не странно, что буквально после первой встречи со мной он назвал свадьбу (И холодком повеяло высоким / От выпукло девического лба...) <из стихотворения «Черепаха», созданного 2 мая 1919 года, в самый день их встречи. – С. Д.>, хотя обстоятельства были совсем неподходящими?»
Может быть, это точка безумия,
Может быть, это совесть твоя –
Узел жизни, в котором мы узнаны
И развязаны для бытия.
Так соборы кристаллов сверхжизненных
Добросовестный свет-паучок,
Распуская на ребра, их сызнова
Собирает в единый пучок.
Чистых линий пучки благодарные,
Направляемы тихим лучом,
Соберутся, сойдутся когда-нибудь,
Словно гости с открытым челом, –
Только здесь, на земле, а не на небе,
Как в наполненный музыкой дом, –
Только их не спугнуть, не изранить бы –
Хорошо, если мы доживем...
То, что я говорю, мне прости...
Тихо-тихо его мне прочти...
Итак, значит, – они не знакомились, они – выросший в Петербурге 28-летний, уже известный поэт-акмеист и киевская девчонка 20-ти лет, родившаяся, правда, в Саратове в последний год пушкинского 19-го века, 18 (30) октября, – как будет утверждать она спустя десятки лет, просто «бездумно сошлись», а потом (и очень скоро) окажется, что расстаться – невозможно...
Но мало ли крупных поэтов прошумело в те годы... Мандельштам, пишет Надежда Яковлевна, «принадлежал к антиблоковской породе. Высшая сторона любви была у него отнюдь не служением прекрасной даме, а чем-то совсем иным, что он выразил словами “мое ты”. Антиблоковская порода выразилась и в выборе жены: не “прекрасная дама” и даже не просто “дама”, а девчонка, сниженный вариант женщины, с которой все смешно, просто и глупо, но постепенно развивается предельная близость, когда можно сказать: “Я с тобой свободен”».
«Мое ты»... Из «случайной» девчонки Мандельштам старательно лепил жену – такая память о начале их общей жизни останется с Надеждой Яковлевной до самого конца. Впрочем, конца-то ведь не будет... Не зря так запомнила она одну из его мыслей о смерти. «Удивляясь самому себе, он сказал, что в смерти есть особое торжество, которое он испытал, когда умерла его мать... У меня создалось впечатление, будто для него смерть не конец, а как бы оправдание жизни». А убивали в те годы на каждом шагу...
«Говорил он со мной, – вспоминает Надежда Яковлевна, – очень осторожно – приоткрывал щелочку и тут же захлопывал, как будто оберегал от меня собственный мир, куда все же хотел, чтобы я заглянула. В этом было настоящее целомудрие, и я чувствовала его и в стихах, но люди вокруг нас о такой штуковине даже не подозревали».
Целомудрие, неразорванность внутреннего мира – необходимы для Служения, к которому призван всяк получивший от Бога талант. Мандельштам был наделен таким, что прорывает все запруды. Многолетним свидетелем чуда – рождения из небытия стихов (многие из них станут важной частью современного христианского искусства) – была она. Подруга. Жена. Мое ты... Но только в 30-м году, по ее признанию, она «впервые поняла, как возникают стихи... До этого я только знала, – пишет она, – что совершилось чудо: чего-то не было и что-то появилось». И теперь она записывает за ним – строчку за строчкой, много, очень много... А когда в тридцать восьмом, второго мая (!), в их изоляцию в лесной подмосковной Саматихе пожалуют «гости» из органов и уведут его от нее навсегда, – она начнет эти строчки – запоминать. А потом прятать и перепрятывать автографы запрещенного поэта и любимого человека, а что не уцелело – сохранять в собственной памяти еще двадцать, тридцать лет – пока в стране не перестанут расстреливать за стихи...
«Моя цель, – пишет Надежда Яковлевна, – была в оправдании жизни Мандельштама путем сохранения того, что было ее смыслом... На большее я способна не была, да ни на что и не претендовала: на цель ушло все. Мне повезло – могло бы быть гораздо хуже: я тоже едва не попала в яму с биркой на ноге, а бумажки бы истлели или были бы брошены в огонь. Слава Богу, этого не случилось. В этом я вижу Его руку и тихо шепчу слова любви и благодарности».
В черном бархате советской ночи,
В бархате всемирной пустоты
Все поют блаженных жен родные очи,
Все цветут бессмертные цветы...
«Пусть только никто не думает, – предупреждает Надежда Яковлевна нас, потомков-читателей, – что у нас был культ стихов и работы. Ничего подобного и в помине не было: мы интенсивно и горячо жили, шумели, играли, забавлялись, пили водку и вино, гуляли, дружили с людьми, ссорились, издевались друг над другом, ловили один другого на глупостях, неоднократно пробовали разбежаться в разные стороны и почему-то не могли расстаться ни на один день... Это настоящая загадка: каким образом балованная и вздорная девчонка, какой я была в дни слепой юности, могла увидеть “свет, невидимый для нас” и спокойно пойти навстречу страшной судьбе... Мы хотели жить, а не погибать, но с самого начала всем было ясно, что ничего хорошего нас не ждет».
По этой-то последней причине им, Осипу и Надежде, пришлось «вовремя» отказаться от мысли... когда-нибудь иметь детей. И нам сейчас, почти век спустя, прежде чем давать какую-то этому оценку, стоит спросить себя: а могли ли они вырастить воинов Христовых, неспособных к предательству ближнего и Бога? А плодить прикормленных и выросших павликов морозовых либо слепых и безвинных жертв государственной репрессивной машины – не хотели. И даже просто честно признавать это, согласимся, уже есть мужество...
«...Любовь, – пишет Надежда Яковлевна, – не радость и не игра, а непрерывающаяся жизненная трагедия, извечное проклятие этой жизни и могучее ее содержание... Мне хотелось избежать общей участи, то есть отнестись ко всему этому приблизительно так, как молодые женщины второй половины двадцатого века. Отсюда теория двух месяцев “без переживаний”. Но на первой серьезной встрече – с О. М. – все сорвалось, и я попала в жены, а дальше все пошло как обычно плюс все трудности наших дней... У нас не было почти ни одного человеческого года... Что бы там ни было, я знала живую любовь, не ставшую, а всегда становящуюся, и чудо возникновения стихов, и раздоры, и неслыханную близость, отречения и бунт против слишком глубокой связи, и радость новой встречи и нового сближения. Я знаю, что такое буйство, неистовство и обузданное своеволие – мое и О. М. Что бы мне ни говорила А<нна> А<хматова>, я не верю, что такая дружба, любовь, союз, связь, как наша, могли бы распасться... Основная ее жизненная ошибка – она хотела, чтобы у нее было, как у людей, а этого не могло быть. А мы с ним понимали, что не надо, как у людей, а нам надо, как у нас, и благодаря этому мы прожили тот миг, который был нам отпущен на долю, в движении, в смятении, в любви и горе, в радости от жизни и в ожидании смерти».
Вот одно из стихотворений 1930 года:
Куда как страшно нам с тобой,
Товарищ большеротый мой!
Ох, как крошится наш табак,
Щелкунчик, дружок, дурак!
А мог бы всю жизнь просвистать скворцом,
Заесть ореховым пирогом –
Да, видно, нельзя никак...
Удивительно, но эти строчки тоже обращены к жене. Засвидетельствовано ею же, как первым мандельштамоведом: «...Дура, обращенное к женщине, – грубое слово, а дурак явно ласковое... Это особенно верно для таких непышных отношений, как у меня с О. М.» А домашний ореховый торт действительно был – испеченный в том году к ее именинам в день памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии 30 сентября ее тифлисской теткой...
И вот еще – из того времени, когда все только начиналось:
Ты будешь Лия – не Елена!
Не потому наречена,
Что царской крови тяжелее
Струиться в жилах, чем другой, –
Нет, ты полюбишь иудея,
Исчезнешь в нем – и Бог с тобой.
Это – к тому же вопросу о «моем ты». Что ж, Мандельштам в своем единственном браке и впрямь был деспотом (напомним значение этого слова в греческом оригинале: господин). Мужу это как-то больше пристало, во всяком случае... И к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою (Быт 3, 16). «Он, – пишет Надежда Яковлевна, – всегда до мелочей ждал от меня того же, что от себя, и не мог отделить мою судьбу от своей: если меня пропишут в Москве, то и тебя, с тобой будет то же, что со мной, ты прочтешь эту книгу, если я буду ее читать... Он твердо верил, что я умру тогда же, когда он, а если случайно раньше, то он поспешит за мной... Мою любовь к живописи, очевидно неискоренимую, он сразу забрал себе и так же решил поступить и с Шекспиром. Ведь любить врозь означает отделиться друг от друга – это было ему не под силу... Отдельной Лии не было и быть не могло. С ним было трудно жить и легко. Трудно, потому что он жил с невероятной интенсивностью и я всегда бежала за ним... А легко, потому что это был он и мне ни разу в жизни не стало с ним скучно. Вероятно, и потому, что я его любила. Наверное не скажу... В годы воронежской ссылки, когда мне поневоле приходилось что-то для Мандельштама делать, он страшно этим тяготился. Зависеть в какой-либо степени от жены казалось ему невыносимым. Так я и просидела возле него всю нашу совместную жизнь и нисколько об этом не жалею. Был бы он жив, я бы и сейчас тихонько сидела рядышком, не вмешиваясь в разговоры. Ни к чему другому я бы не стремилась».
Надежда Яковлевна поняла, как муж относится к ней, когда в Батуме им пришлось ночевать на какой-то террасе, полной москитов. «Всю ночь, – вспоминает она, – просыпаясь, я видела, как Мандельштам сидит на стуле, рядом с кроватью, и машет листом бумаги, отгоняя от меня москитов. Боже, как хорошо нам было вместе – почему нам не дали дожить нашу жизнь...»
Еще один из поэтических сколков страшной яви – четыре строчки из стихов 1937 года:
Как по улицам Киева-Вия
Ищет мужа не знаю чья жинка,
И на щеки ее восковые
Ни одна не скатилась слезинка.
«Пока по улицам Киева-Вия / ищет мужа не знаю чья жинка, в жизни еще сохраняется что-то человеческое. Когда “чья-то жинка”, подкрасив губы, идет на службу, жить уже нельзя», – подводит черту Надежда Яковлевна, и чувствуешь, что за ней – правда. А сколько стало в ту пору таких, как она, вдов, не похоронивших своих мужей, – вряд ли кому удалось сосчитать. Но ей случилось не только уцелеть, но и сохранить живую память и совесть и рассказать обо всем – нам...
«Никто не видел его мертвым, – пишет она о своем Осипе. – Никто не обмыл его тело. Никто не положил его в гроб... Я знаю одно: человек, страдалец и мученик, где-то умер. Этим кончается всякая жизнь. Перед смертью он лежал на нарах, и вокруг него копошились другие смертники. Вероятно, он ждал посылки... Ее не доставили, или она не успела дойти... Посылку отправили обратно. Для нас это было вестью и признаком того, что О. М. погиб. Для него, ожидавшего посылку, ее отсутствие означало, что погибли мы. А все это произошло потому, что откормленный человек в военной форме, тренированный на уничтожении людей, которому надоело рыться в огромных, непрерывно меняющихся списках заключенных и искать какую-то непроизносимую фамилию, перечеркнул адрес, написал на сопроводительном бланке самое простое, что пришло ему в голову – “за смертью адресата”, – и отправил ящичек обратно, чтобы я, молившаяся о смерти друга <мы не можем даже отдаленно представить, чем был для Мандельштама, всегда слабого здоровьем и все последние годы задыхавшегося от сердечной болезни, советский дальневосточный концлагерь! – С. Д.>, пошатнулась перед окошком, узнав от почтовой чиновницы сию последнюю и неизбежную благую весть.
А после его смерти – или до нее? – он жил в лагерных легендах как семидесятилетний безумный старик с котелком для каши, когда-то на воле писавший стихи и потому прозванный “Поэтом”. И какой-то другой старик – или это был О. М.? – жил в лагере на “Второй речке” и был зачислен в транспорт на Колыму, и многие считали его Осипом Мандельштамом, и я не знаю, кто он... Другие знают о гибели своих близких еще меньше».
Мандельштам, по свидетельству жены, чувствовал приближающийся конец и, как вспоминает она, «готовился к уходу из жизни, прощаясь со всем, что любил: с Арменией, Крымом, с вещами и людьми. Он не простился только со мной, потому что не представлял себе, что я останусь жить без него... Поймет ли он, что я задержалась ради него?..»
Священник Владимир Зелинский говорит о великой внутренней правде этой беседы с умершим супругом, когда «один, умолкший, начинает говорить устами другого и словно облекается в новый образ, который творится любовью. И потому, признаться, мы не знаем более мощной поэмы о браке, написанной в ХХ-ом столетии... Трехтомник этих воспоминаний останется не только необходимейшим введением в советскую жизнь “на воле”, но и одним из самых подлинных доказательств осуществившегося брака».
Прожить в движении и становлении, не разлучаясь ни на один день, ссорясь и своевольничая и обуздывая страсти и при этом «всегда зная, что именно это счастье» (слова из того, последнего письма к О. М.), пусть всего девятнадцать лет, – а может, целых девятнадцать лет?.. – этого у них, Осипа и Надежды, теперь уже никто не отнимет. Это – действительно чудо состоявшегося союза двоих душ. И рос этот союз, как и все живое, по каким-то своим законам.
«Первый этап, – проводит «периодизацию» Надежда Яковлевна, – это насильственно увезенная девчонка, с которой трудно возиться, но женолюб должен это терпеть. В те годы О. М. не подпускал меня к своей жизни, мало со мной разговаривал и в сущности только кормил и держал при себе... Настоящая близость началась только после “умыкания” (как ни смешно умыкать собственную жену) в Царское Село. Это письма в Ялту, где я лежала больная, это огромная воля, проявленная им для того, чтобы сохранить наш союз... Я перестала быть девчонкой, которую он таскал за собой, – нас стало двое. Третий период нашей жизни это тридцатые годы, когда он сделал меня полной соучастницей своей жизни... И каждый период отношений начинался с того, что он определял такой фразой: “Я опять в тебя влюбился”. Мне кажется, что к концу мы подошли еще к какому-то периоду, может, даже к разрыву, но мы этого не узнали, потому что нас насильственно разлучили».
Здесь, не называемый, упоминается единственный серьезный кризис в отношениях, случившийся в 1925-м году, когда Осип Эмильевич случайно встретил давнюю знакомую Ольгу Ваксель, пригласил ее в гости, а в дни болезни жены стал «куда-то» уходить с Ольгой... «Однажды отец Мандельштама, – рассказывает Надежда Яковлевна о том тяжелом годе, – зашел навестить меня. Он с одобрением посмотрел на Ольгу и, когда они ушли (они всегда уходили), сказал: “Вот хорошо: если Надя умрет, у Оси будет Лютик...” Я не обидела старика, но вдруг вспомнила, что мать Мандельштама умерла, узнав, что ее муж завел себе любовницу. Мне стало страшно – я вдруг почувствовала, что в сыне есть что-то отцовское...» И вот ведь тоже чудо: Мандельштам все же победил возникший соблазн «новенького», и, как пишет Надежда Яковлевна, «меня и сейчас удивляет его жесткий выбор и твердая воля в этой истории». Так и не случилось (слава Богу!) того, что дается многим с такой легкостью – но оно легко, здесь-то, а что, бишь, нам сказано о блудниках и Царстве Небесном?..
Видать, и вправду именно он, муж и господин, слепил свою Галатею. Она ведь сама пыталась, по ее выражению, «удрать», и не один раз. В том числе – и из богодарованного Бытия... «Мысль об этом последнем исходе, –вспоминает она, – всю нашу жизнь утешала и успокаивала меня, и я нередко – в разные невыносимые периоды нашей жизни – предлагала О. М. вместе покончить с собой. У О. М. мои слова всегда вызывали резкий отпор. Основной его довод: “Откуда ты знаешь, что будет потом… Жизнь – это дар, от которого никто не смеет отказываться...” И, наконец, последний и наиболее убедительный для меня довод: “Почему ты вбила себе в голову, что должна быть счастливой?”
Мы с тобой на кухне посидим,
Сладко пахнет белый керосин,
Острый нож да хлеба каравай...
Хочешь, примус туго накачай,
А не то веревок собери
Завязать корзину до зари,
Чтобы нам уехать на вокзал,
Где бы нас никто не отыскал.
«В третьем и последнем периоде нашей жизни, – пишет Надежда Яковлевна, – мы были до такой степени вместе, как никогда. Разговаривая, мы даже не боялись ранить друг друга и почти не чувствовали, что есть в близости людей заветная черта <первая строка известного стихотворения А. А. Ахматовой. – С. Д.> Может, она есть только в тех случаях, кода живущие вместе смотрят в разные стороны. В какой-то степени люди всегда чуточку смотрят в разные стороны, весь вопрос в степени уклона. У нас он был минимальный... Так мы жили с Мандельштамом, и он дразнил меня, не “прекрасную даму”, и был до ужаса свободен и радостен до последнего дня».
Еще не умер ты, еще ты не один
Покуда с нищенкой-подругой
Ты наслаждаешься величием равнин
И мглой, и холодом, и вьюгой.
В роскошной бедности, в могучей нищете
Живи спокоен и утешен –
Благословенны дни и ночи те
И сладкогласный труд безгрешен.
Несчастлив тот, кого как тень его
Пугает лай и ветер косит
И беден тот, кто сам полуживой
У тени милостыни просит.
«...Мне стало казаться, – как будто удивляется она, – что я делаюсь старше его, потому что его работа разворачивалась во всю ширь, а он, старея, молодел. Да можно ли говорить “старея”, раз ему не дали дожить даже до сорока восьми лет?.. Недосказанное слово. Если б не вера в будущую встречу, я бы не могла прожить эти десятки одиноких лет. Я смеюсь над собой, я не смею верить, но вера не покидает меня. Встреча будет, и разлуки нет. Так обещано, и в этом моя вера».
Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды (1 Сол 4, 13)...
И вот еще ее слова из второй книги воспоминаний о Мандельштаме: «Надо остерегаться такой близости, какая была у нас с ним, потому что один всегда умирает раньше...» Но она, Надежда, прожила эти сорок лет. Она выполнила его завещание, высказанное в стихах 1931 года:
Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма,
За смолу кругового терпенья, за совестный деготь труда.
Как вода в новгородских колодцах должна быть черна и сладима,
Чтобы в ней к Рождеству отразилась семью плавниками звезда.
А нас, живущих уже в следующем столетии, вместе с нею не покидает надежда на то, что легкая корона Верности, и только она – наследует жизнь будущего века...