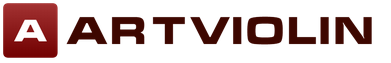Текущая страница: 1 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Гомер
Одиссея
Гомер (Homeros) – Биография
ГОМЕР (Homeros), греческий поэт, согласно древней традиции, автор Илиады (Ilias) и Одиссеи (Odysseia), двух больших эпопей, открывающих историю европейской литературы. О жизни Гомера у нас нет никаких сведений, а сохранившиеся жизнеописания и «биографические» заметки являются более поздними по происхождению и часто переплетены с легендой (традиционные истории о слепоте Гомера, о споре семи городов за право быть его родиной).
С XVIII в. в науке идет дискуссия как относительно авторства, так и относительно истории создания Илиады и Одиссеи, так называемый «гомеровский вопрос», за начало которого повсюду принимается (хотя были и более ранние упоминания) опубликование в 1795 г. произведения Ф. А. Вольфа под заглавием Введение в Гомера (Prolegomena ad Homerum). Многие ученые, названные плюралистами, доказывали, что Илиада и Одиссея в настоящем виде не являются творениями Гомера (многие даже полагали, что Гомера вообще не существовало), а созданы в VI в. до н. э., вероятно, в Афинах, когда были собраны воедино и записаны передаваемые из поколения в поколение песни разных авторов. А так называемые унитарии отстаивали композиционное единство поэмы, а тем самым и единственность ее автора. Новые сведения об античном мире, сравнительные исследования южнославянских народных эпосов и детальный анализ метрики и стиля предоставили достаточно аргументов против первоначальной версии плюралистов, но усложнили и взгляд унитариев. Историко-географический и языковой анализ Илиады и Одиссеи позволил датировать их примерно VIII в. до н. э., хотя есть попытки отнести их к IX или к VII в. до н. э. Они, по-видимому, были сложены на малоазийском побережье Греции, заселенном ионийскими племенами, или на одном из прилегающих островов.
В настоящее время не подлежит сомнению, что Илиада и Одиссея явились результатом долгих веков развития греческой эпической поэзии, а вовсе не ее началом. Разные ученые по-разному оценивают, насколько велика была роль творческой индивидуальности в окончательном оформлении этих поэм, но превалирует мнение, что Гомер ни в коем случае не является лишь пустым (или собирательным) именем. Неразрешенным остается вопрос, создал ли Илиаду и Одиссею один поэт или это произведения двух разных авторов (чем, по мнению многих ученых, объясняются различия в видении мира, поэтической технике и языке обеих поэм). Этот поэт (или поэты) был, вероятно, одним из аэдов, которые, по меньшей мере, с микенской эпохи (XV–XII вв. до н. э.) передавали из поколения в поколение память о мифическом и героическом прошлом.
Существовали, однако, не пра-Илиада или пра-Одиссея, но некий набор устоявшихся сюжетов и техника сложения и исполнения песен. Именно эти песни стали материалом для автора (или авторов) обеих эпопей. Новым в творчестве Гомера была свободная обработка многих эпических традиций и формирование из них единого целого с тщательно продуманной композицией. Многие современные ученые придерживаются мнения, что это целое могло быть создано лишь в письменном виде. Ярко выражено стремление поэта придать этим объемным произведениям определенную связность (через организацию фабулы вокруг одного основного стержня, сходного построения первой и последней песен, благодаря параллелям, связывающим отдельные песни, воссозданию предшествующих событий и предсказанию будущих). Но более всего о единстве плана эпопеи свидетельствуют логичное, последовательное развитие действия и цельные образы главных героев. Представляется правдоподобным, что Гомер пользовался уже алфавитным письмом, с которым, как мы сейчас знаем, греки познакомились не позднее VIII в. до н. э. Реликтом традиционной манеры создания подобных песен было использование даже в этом новом эпосе техники, свойственной устной поэзии. Здесь часто встречаются повторы и так называемый формульный эпический стиль. Стиль этот требует употребления сложных эпитетов («быстроногий», «розовоперстая»), которые в меньшей степени определяются свойствами описываемой особы или предмета, а в значительно большей – метрическими свойствами самого эпитета. Мы находим здесь устоявшиеся выражения, составляющие метрическое целое (некогда целый стих), представляющие типические ситуации в описании битв, пиров, собраний и т. д. Эти формулы повсеместно были в употреблении у аэдов и первых творцов письменной поэзии (такие же формулы-стихи выступают, например у Гесиода).
Язык эпосов также является плодом долгого развития догомеровской эпической поэзии. Он не соответствует ни одному региональному диалекту или какому-либо этапу развития греческого языка. По фонетическому облику ближе всего стоящий к ионийскому диалекту язык Гомера демонстрирует множество архаических форм, напоминающих о греческом языке микенской эпохи (который стал нам известен благодаря табличкам с линеарным письмом В). Часто мы встречаем рядом флективные формы, которые никогда не употреблялись одновременно в живом языке. Много также элементов, свойственных эолийскому диалекту, происхождение которых до сих пор не выяснено. Формульность и архаичность языка сочетаются с традиционным размером героической поэзии, которым был гекзаметр.
В плане содержания зпосы Гомера тоже заключают в себе множество мотивов, сюжетных линий, мифов, почерпнутых в ранней поэзии. У Гомера можно услышать отголоски минойской культуры и даже проследить связь с хеттской мифологией. Однако основным источником эпического материала стал для него микенский период. Именно в эту эпоху происходит действие его эпопеи. Живший в четвертом столетии после окончания этого периода, который он сильно идеализирует, Гомер не может быть источником исторических сведений о политической, общественной жизни, материальной культуре или религии микенского мира. Но в политическом центре этого общества, Микенах, найдены, однако, предметы, идентичные описанным в эпосе (в основном оружие и инструменты), на некоторых же микенских памятниках представлены образы, вещи и даже сцены, типичные для поэтической действительности эпопеи. К микенской эпохе были отнесены события троянской войны, вокруг которой Гомер развернул действия обеих поэм. Эту войну он показал как вооруженный поход греков (названных ахейцами, данайцами, аргивянами) под предводительством микенского царя Агамемнона против Трои и ее союзников. Для греков троянская война была историческим фактом, датируемым XIV–XII вв. до н. э. (согласно подсчетам Эратосфена, Троя пала в 1184 г.).
Сегодняшнее состояние знаний позволяет утверждать, что, по крайней мере, некоторые элементы троянской эпопеи являются историческими. В результате раскопок, начатых Г. Шлиманом, были открыты руины большого города, в том самом месте, где в соответствии с описаниями Гомера и местной вековой традицией должна была лежать Троя-Илион, на холме, носящем ныне название Гиссарлык. Лишь на основании открытий Шлимана руины на холме Гиссарлык называют Троей. Не совсем ясно, какой именно из последовательных слоев следует идентифицировать с Троей Гомера. Поэт мог собрать и увековечить предания о поселении на приморской равнине и опираться при этом на исторические события, но он мог и на руины, о прошлом которых мало знал, перенести героические легенды, первоначально относившиеся к другому периоду, мог также сделать их ареной схваток, разыгравшихся на другой земле.
Действие Илиады происходит в конце девятого года осады Трои (другое название города Илиос, Илион, отсюда и заглавие поэмы). События разыгрываются на протяжении нескольких десятков дней. Картины предшествующих лет войны не раз возникают в речах героев, увеличивая временную протяженность фабулы.
Ограничение непосредственного рассказа о событиях столь кратким периодом служит для того, чтобы сделать более яркими события, решившие как исход войны, так и судьбу ее главного героя. В соответствии с первой фразой вступления, Илиада есть повесть о гневе Ахилла. Разгневанный унижающим его решением верховного вождя Агамемнона, Ахилл отказывается от дальнейшего участия в войне. Он возвращается на поле боя лишь тогда, когда его друг Патрокл находит смерть от руки Гектора, несгибаемого защитника Трои, старшего сына царя Приама. Ахилл примиряется с Агамемноном и, мстя за друга, убивает Гектора в поединке и бесчестит его тело. Однако в конце концов он отдает тело Приаму, когда старый царь Трои сам приходит в стан греков, прямо в палатку убийцы своих сыновей. Приам и Ахилл, враги, смотрят друг на друга без ненависти, как люди, объединенные одной судьбой, обрекающей всех людей на боль.
Наряду с сюжетом о гневе Ахилла, Гомер описал четыре сражения под Троей, посвящая свое внимание действиям отдельных героев. Гомер представил также обзор ахейских и троянских войск (знаменитый список кораблей и перечень троянцев во второй песне – возможно, наиболее ранняя часть эпопеи) и приказал Елене показывать Приаму со стен Трои самых выдающихся греческих вождей. И то и другое (а также многие иные эпизоды) не соответствует десятому году борьбы под Троей. Впрочем, как и многочисленные реминисценции из предшествующих лет войны, высказывания и предчувствия, относящиеся к будущим событиям, все это устремлено к одной цели: объединения поэмы о гневе Ахилла с историей захвата Илиона, что автору Илиады удалось поистине мастерски.
Если главным героем Илиады является непобедимый воин, ставящий честь и славу выше жизни, в Одиссее идеал принципиально меняется. Ее героя, Одиссея, отличает прежде всего ловкость, умение найти выход из любой ситуации. Здесь мы попадаем в иной мир, уже не в мир воинских подвигов, но в мир купеческих путешествий, характеризующий эпоху греческой колонизации.
Повествование начинается на десятом году скитаний главного героя. Гнев Посейдона до сего времени не позволял герою вернуться на родную Итаку, где воцарились женихи, соперничающие из-за руки его жены Пенелопы. Юный сын Одиссея Телемах уезжает в поиске вестей об отце. Тем временем Одиссей по воле богов отправленный в путь державшей его до той поры при себе нимфой Калипсо, достигает полулегендарной страны феаков. Там в долгом и необычайно красочном повествования он описывает свои приключения с момента отплытия из-под Трои (среди прочего – путешествие в мир мертвых). Феаки отвозят его на Итаку. Под видом нищего он возвращается в свой дворец, посвящает Телемаха в план уничтожения женихов и, воспользовавшись состязанием в стрельбе из лука, убивает их.
Легендарные элементы повествования о морских странствиях, существовавшие долгое время в фольклорной традиции воспоминания о древних временах и их обычаях, «новеллистический» мотив мужа, возвращающегося домой в последний момент, когда дому угрожает опасность, а также интересы и представления современной Гомеру эпохи колонизации были использованы для изложения и развития троянского мифа.
Илиада и Одиссея имеют множество общих черт как в композиции, так и в идеологической направленности. Характерны организация сюжета вокруг центрального образа, небольшая временная протяженность рассказа, построение фабулы вне зависимости от хронологической последовательности событий, посвящение пропорциональных по объему отрезков текста важным для развития действия моментам, контрастность следующих друг за другой сцен, развитие фабулы путем создания сложных ситуаций, очевидно замедляющих развитие действия, а затем их блестящее разрешение, насыщенность первой части действия эпизодическими мотивами и интенсификация основной линии в конце, столкновение главных противостоящих сил только в конце повествования (Ахилл – Гектор, Одиссей – женихи), использование апостроф, сравнений. В эпической картине мира Гомер зафиксировал важнейшие моменты человеческого бытия, все богатство действительности, в которой живет человек. Важным элементом этой действительности являются боги; они постоянно присутствуют в мире людей, влияют на их поступки и судьбы. Хотя они и бессмертны, но своим поведением и переживаниями напоминают людей, а уподобление это возвышает и как бы освящает все, что свойственно человеку.
Гуманизация мифов является отличительной чертой эпопей Гомера: он подчеркивает важность переживаний отдельного человека, возбуждает сочувствие к страданию и слабости, пробуждает уважение к труду, не принимает жестокости и мстительности; превозносит жизнь и драматизирует смерть (прославляя, однако, ее отдачу за отчизну).
В древности Гомеру приписывали и другие произведения, среди них гимна. Войну мышей и лягушек, Маргита. Греки говорили о Гомере просто:
«Поэт». Илиаду и Одиссею многие, хотя бы частично, знали наизусть. С этих поэм начиналось школьное обучение. Вдохновение, навеянное ими, мы видим во всем античном искусстве и в литературе. Образы гомеровских героев стали образцами того, как следует поступать, строки из поэм Гомера сделались афоризмами, обороты вошли во всеобщее употребление, ситуации обрели символическое значение. (Однако философы, в частности Ксенофан, Платон, обвиняли Гомера в том, что он привил грекам ложные представления о богах).
Поэмы Гомера считались также сокровищницей всяческих знаний, даже исторических и географических. Этого взгляда в эллинистическую эпоху придерживался Кратет из Малл, его оспаривал Эратосфен. В Александрии исследования текстов Гомера породили филологию как науку о литературе (Зенодот Эфесский, Аристофан Византийский, Аристарх Самофракийский). С перевода Одиссеи на латинский язык началась римская литература. Илиада и Одиссея послужили моделями для римской эпопеи.
Одновременно с упадком знания греческого языка Гомера перестают читать на Западе (ок. IV в. н. э.), зато его постоянно читали и комментировали в Византии. На Западе Европы Гомер вновь становится популярным начиная со времен Петрарки; первое его издание было выпущено в г. Великие произведения европейской эпики создаются под влиянием Гомера.
«Гомеровские гимны» («Homerikoi hymnoi»)
Это название носит сохранившееся под именем Гомера собрание гекзаметрических произведений разной длины, адресованных богам. Их складывали рапсоды в качестве так называемых проэмий (вступлений), которыми они предваряли чтение песен Гомера на поэтических агонах во время культовых празднеств в различных религиозных центрах Греции. Это были воззвания к чествуемому божеству. Короткие, иногда всего в несколько стихов, гимпы перечисляли лишь прозвища бога и просили о покровительстве, затем излагалась (часто с большим мастерством рассказчика) священная легенда или любое другое повествование об этом боге. Однако не все гимны носили культовый характер.
Они создавались, по-видимому, в VII–V вв. до н. э., авторы их неизвестны. В сборнике имеется 5 длинных гимнов, представляющих законченное художественное целое и не являющихся проэмиями. Это:
– К Аполлону Дельфийскому (I, Eis Apollona Delphion) – гимн в 178 стихов, легенда о рождении бога на острове Делос;
– К Аполлону Пифийскому (II, Eis Apollona Pythion) в 368 стихах – повествование о создании дельфийского оракула. Два этих гимна выступают в рукописях как одно произведение.
– Гимн К Гермесу (III, Eis Hermen) в 580 стихах – полная юмора и обаяния повесть о проделках новорожденного Гермеса.
– Гимн К Афродите (IV, Eis Aphroditen) в 293 стихах – повествование о союзе Афродиты с Анхизом.
– Гимн К Деметре (V, Eis Demetra) в 495 стихах представляет собой аттическую легенду о прибытии богини в Элевсин и учреждении мистерий.
(текст приведен по изданию: «Античные писатели. Словарь.» СПб, изд-во «Лань», 1999)
ПЕСНЬ ПЕРВАЯ
Муза, скажи мне о том многоопытном муже, который
Долго скитался с тех пор, как разрушил священную Трою,
Многих людей города посетил и обычаи видел,
Много духом страдал на морях, о спасеньи заботясь
Жизни своей и возврате в отчизну товарищей верных.
Все же при этом не спас он товарищей, как ни старался.
Собственным сами себя святотатством они погубили:
Съели, безумцы, коров Гелиоса Гиперионида.
Дня возвращенья домой навсегда их за это лишил он.
Муза! Об этом и нам расскажи, начав с чего хочешь.
Все остальные в то время, избегнув погибели близкой,
Были уж дома, равно и войны избежавши и моря.
Только его, по жене и отчизне болевшего сердцем,
Нимфа-царица Калипсо, богиня в богинях, держала
В гроте глубоком, желая, чтоб сделался ей он супругом.
Но протекали года, и уж год наступил, когда было
Сыну Лаэрта богами назначено в дом свой вернуться.
Также, однако, и там, на Итаке, не мог избежать он
Многих трудов, хоть и был меж друзей. Сострадания полны
Были все боги к нему. Лишь один Посейдон непрерывно
Гнал Одиссея, покамест своей он земли не достигнул.
Был Посейдон в это время в далекой стране эфиопов,
Крайние части земли на обоих концах населявших:
Где Гиперион заходит и где он поутру восходит.
Там принимал он от них гекатомбы быков и баранов,
Там наслаждался он, сидя на пиршестве. Все ж остальные
Боги в чертогах Кронида-отца находилися в сборе.
С речью ко всем им родитель мужей и богов обратился;
На сердце, в памяти был у владыки Эгист безукорный,
Жизни Агамемнонидом лишенный, преславным Орестом.
Помня о нем, обратился к бессмертным Кронид со словами:
«Странно, как люди охотно во всем обвиняют бессмертных!
Зло происходит от нас, утверждают они, но не сами ль
Гибель, судьбе вопреки, на себя навлекают безумством?
Так и Эгист, – не судьбе ль вопреки он супругу Атрида
Взял себе в жены, его умертвив при возврате в отчизну?
Гибель грозящую знал он: ему наказали мы строго,
Зоркого аргоубийцу Гермеса послав, чтоб не смел он
Ни самого убивать, ни жену его брать себе в жены.
Месть за Атрида придет от Ореста, когда, возмужавши,
Он пожелает вступить во владенье своею страною.
Так говорил ему, блага желая, Гермес; но не смог он
Сердца его убедить. И за это Эгист поплатился».
Правду сказал ты, – вполне заслужил он подобную гибель.
Так да погибнет и всякий, кто дело такое свершил бы!
Но разрывается сердце мое за царя Одиссея:
Терпит, бессчастный, он беды, от милых вдали, на объятом
Волнами острове, в месте, где пуп обретается моря.
Остров, поросший лесами; на нем обитает богиня,
Дочь кознодея Атланта, которому ведомы бездны
Моря всего и который надзор за столбами имеет:
Между землею и небом стоят они, их раздвигая.
Скорбью объятого, держит несчастного дочерь Атланта,
Мягкой и вкрадчивой речью все время его обольщая,
Чтобы забыл о своей он Итаке. Но, страстно желая
Видеть хоть дым восходящий родимой земли, помышляет
Только о смерти одной Одиссей. Неужели не тронет
Милого сердца тебе, Олимпиец, судьба его злая?
Он ли не чествовал в жертвах тебя на равнине троянской
Близ кораблей аргивян? Так на что же ты, Зевс, негодуешь?»
Ей отвечая, сказал собирающий тучи Кронион:
«Что за слова у тебя из ограды зубов излетели!
Как это смог бы забыть о божественном я Одиссее,
Так выдающемся мыслью меж смертных, с такою охотой
Жертвы богам приносящем, владыкам широкого неба?
Но Посейдон-земледержец к нему не имеющим меры
Гневом пылает за то, что циклоп Полифем богоравный
Глаза лишен им, – циклоп, чья сила меж прочих циклопов
Самой великой была; родился он от нимфы Фоосы,
Дочери Форкина, стража немолчно шумящего моря,
В связь с Посейдоном-владыкой вступившей в пещере глубокой,
С этой поры колебатель земли Посейдон Одиссея
Не убивает, но прочь отгоняет от милой отчизны.
Что же, подумаем все мы, кто здесь на Олимпе сегодня,
Как бы домой возвратиться ему. Посейдон же отбросит
Гнев свой: не сможет один он со всеми бессмертными спорить
И против воли всеобщей богов поступать самовластно».
Зевсу сказала тогда совоокая дева Афина:
«О наш родитель Кронид, из властителей всех наивысший!
Если угодно теперь всеблаженным богам, чтоб вернуться
Мог Одиссей многоумный в отчизну, прикажем Гермесу
Аргоубийце, решений твоих исполнителю, к нимфе
В косах, красиво сплетенных, на остров Огигию тотчас
Мчаться и ей передать непреклонное наше решенье,
Чтобы на родину был возвращен Одиссей многостойкий.
Я же в Итаку отправлюсь, чтоб там Одиссееву сыну
Бодрости больше внушить и вложить ему мужество в сердце,
Чтоб, на собрание длинноволосых ахейцев созвавши,
Всех женихов он изгнал, убивающих в доме без счета
Кучей ходящих овец и рогатых быков тихоходных.
После того я пошлю его в Спарту и Пилос песчаный,
Чтобы разведал о милом отце и его возвращеньи,
Также чтоб в людях о нем утвердилася добрая слава».
Кончив, она привязала к ногам золотые подошвы,
Амвросиальные, всюду ее с дуновеньями ветра
И над землей беспредельной носившие и над водою.
В руки взяла боевое копье, изостренное медью, -
Тяжкое, крепкое; им избивала Афина героев,
Гнев на себя навлекавших богини могучеотцовной.
Ринулась бурно богиня с высоких вершин олимпийских,
Стала в итакской стране у двора Одиссеева дома
Перед порогом ворот, с копьем своим острым в ладони,
Образ приняв чужестранца, тафосцев властителя Мента.
Там женихов горделивых застала. Они перед дверью
Душу себе услаждали, с усердием в кости играя,
Сидя на шкурах быков, самими же ими убитых.
В зале же вестники вместе с проворными слугами дома
Эти – вино наливали в кратеры, мешая с водою,
Те, – ноздреватою губкой обмывши столы, выдвигали
Их на средину и клали на них в изобилии мясо.
Первым из всех Телемах боговидный заметил богиню.
Сердцем печалуясь милым, он молча сидел с женихами.
И представлялось ему, как явился родитель могучий,
Как разогнал бы он всех женихов по домам, захватил бы
Власть свою снова и стал бы владений своих господином.
В мыслях таких, с женихами сидя, он увидел Афину.
Быстро направился к двери, душою стыдясь, что так долго
Странник у входа стоять принужден; и, поспешно приблизясь,
Взял он за правую руку пришельца, копье его принял,
Голос повысил и с речью крылатой к нему обратился:
«Радуйся, странник! Войди! Мы тебя угостим, а потом уж,
Пищей насытившись, ты нам расскажешь, чего тебе нужно».
Так он сказал и пошел. А за ним и Паллада Афина.
После того как вошли они в дом Одиссеев высокий,
Гостя копье он к высокой колонне понес и поставил
В копьехранилище гладкое, где еще много стояло
Копий других Одиссея, могучего духом в несчастьях.
После богиню подвел он к прекрасноузорному креслу,
Тканью застлав, усадил, а под ноги придвинул скамейку.
Рядом и сам поместился на стуле резном, в отдаленьи
От женихов, чтобы гость, по соседству с надменными сидя,
Не получил отвращенья к еде, отягченный их шумом,
Также, чтоб в тайне его расспросить об отце отдаленном.
Тотчас прекрасный кувшин золотой с рукомойной водою
В тазе серебряном был перед ними поставлен служанкой
Для умывания; после расставила стол она гладкий.
Хлеб положила перед ними почтенная ключница, много
Кушаний разных прибавив, охотно их дав из запасов.
Кравчий поставил пред ними на блюдах, подняв их высоко,
Разного мяса и кубки близ них поместил золотые;
Вестник же к ним подходил то и дело, вина подливая.
Шумно вошли со двора женихи горделивые в залу
И по порядку расселись на креслах и стульях; с водою
Вестники к ним подошли, и они себе руки умыли.
Доверху хлеба в корзины прислужницы им положили,
Мальчики влили напиток в кратеры до самого края.
Руки немедленно к пище готовой они протянули.
После того как желанье питья и еды утолили,
Новым желаньем зажглися сердца женихов: захотелось
Музыки, плясок – услады прекраснейшей всякого пира.
Фемию вестник кифару прекрасную передал в руки:
Пред женихами ему приходилося петь поневоле.
Фемий кифару поднял и начал прекрасную песню.
И обратился тогда Телемах к совоокой Афине,
К ней наклонясь головой, чтоб никто посторонний не слышал:
«Ты не рассердишься, гость дорогой мой, на то, что скажу я?
Только одно на уме вот у этих – кифара да песни.
Немудрено: расточают они здесь чужие богатства -
Мужа, чьи белые кости, изгнившие где-нибудь, дождик
Мочит на суше иль в море свирепые волны качают.
Если б увидели, что на Итаку он снова вернулся,
Все пожелали бы лучше иметь попроворнее ноги,
Чем богатеть, и одежду и золото здесь накопляя.
Злою судьбой он, однако, погублен, и нет никакого
Нам утешенья, хотя кое-кто из людей утверждает:
Он еще будет. Но нет! Уж погиб его день возвращенья!
Кто ты? Родители кто? Из какого ты города родом?
И на каком корабле ты приехал, какою дорогой
К нам тебя в гости везли корабельщики? Кто они сами?
Ведь не пешком же сюда, полагаю я, к нам ты добрался.
Так же и это скажи откровенно, чтоб знал хорошо я:
В первый ли раз ты сюда приезжаешь иль давним отцовским
Гостем ты был? Приезжало немало в минувшие годы
В дом наш гостей, ибо много с людьми мой общался родитель».
«Я на вопросы твои с откровенностью полной отвечу:
Имя мне – Мент; мой отец – Анхиал многоумный, и этим
Рад я всегда похвалиться; а сам я владыка тафосцев
Веслолюбивых, приехал в своем корабле со своими;
По винно-чермному морю плыву к чужеземцам за медью
В город далекий Темесу, а еду с блестящим железом.
Свой же корабль я поставил под склоном лесистым Нейона
В пристани Ретре, далеко от города, около поля.
С гордостью я заявляю, что мы с Одиссеем друг другу
Давние гости. Когда посетишь ты героя Лаэрта,
Можешь об этом спросить старика. Говорят, уж не ходит
Больше он в город, но, беды терпя, обитает далеко
В поле со старой служанкой, которая кормит и поит
Старца, когда, по холмам виноградника день пробродивши,
Старые члены свои истомив, возвращается в дом он.
К вам я теперь: говорили, что он уже дома, отец твой.
Видно, однако же, боги ему возвратиться мешают.
Но не погиб на земле Одиссей богоравный, поверь мне.
Где-нибудь в море широком, на острове волнообъятом,
Он задержался живой и томится под властью свирепых,
Диких людей и не может уйти, как ни рвется душою.
Но предсказать я берусь – и какое об этом имеют
Мнение боги и как, полагаю я, все совершится,
Хоть я совсем не пророк и по птицам гадать не умею.
Будет недолго еще он с отчизною милой в разлуке,
Если бы даже его хоть железные цепи держали.
В хитростях опытен он и придумает, как воротиться.
Ты же теперь мне скажи, ничего от меня не скрывая:
Подлинно ль вижу в тебе пред собой Одиссеева сына?
Страшно ты с ним головой и глазами прекрасными сходен.
Часто в минувшее время встречались мы с ним до того, как
В Трою походом отправился он, куда и другие
Лучшие из аргивян на судах крутобоких поплыли.
После ж ни я с Одиссеем, ни он не встречался со мною».
Ей отвечая, сказал рассудительный сын Одиссеев:
«Я на вопрос твой, о гость наш, отвечу вполне откровенно:
Мать говорит, что я сын Одиссея, но сам я не знаю.
Может ли кто-нибудь знать, от какого отца он родился?
Счастлив я был бы, когда бы родителем мне приходился
Муж, во владеньях своих до старости мирно доживший.
Но – между всеми людьми земнородными самый несчастный -
Он мне отец, раз уж это узнать от меня пожелал ты».
Снова сказала ему совоокая дева Афина:
«Видно, угодно бессмертным, чтоб не был без славы в грядущем
Род твой, когда вот такого, как ты, родила Пенелопа.
Ты ж мне теперь расскажи, ничего от меня не скрывая:
Что за обед здесь? Какое собранье? Зачем тебе это?
Свадьба ли здесь или пир? Ведь не в складчину ж он происходит.
Кажется только, что гости твои необузданно в доме
Вашем бесчинствуют. Стыд бы почувствовал всякий разумный
Муж, заглянувший сюда, поведенье их гнусное видя».
«Раз ты, о гость мой, спросил и узнать пожелал, то узнай же:
Некогда полон богатства был дом этот, был уважаем
Всеми в то время, когда еще здесь тот муж находился.
Нынче ж иное решенье враждебные приняли боги,
Сделав его между всеми мужами невидимым глазу.
Менее стал бы о нем сокрушаться я, если б он умер,
Если б в троянской земле меж товарищей бранных погиб он
Или, окончив войну, на руках у друзей бы скончался.
Был бы насыпан над ним всеахейцами холм погребальный,
Сыну б великую славу на все времена он оставил.
Ныне же Гарпии взяли бесславно его, и ушел он,
Всеми забытый, безвестный, и сыну оставил на долю
Только печаль и рыданья. Но я не об нем лишь едином
Плачу; другое мне горе жестокое боги послали:
Первые люди по власти, что здесь острова населяют
Зам, и Дулихий, и Закинф, покрытый густыми лесами,
И каменистую нашу Итаку, – стремятся упорно
Мать принудить мою к браку и грабят имущество наше.
Мать же и в брак ненавистный не хочет вступить и не может
Их притязаньям конец положить, а они разоряют
Дом мой пирами и скоро меня самого уничтожат».
В негодованьи ему отвечала Паллада Афина:
«Горе! Я вижу теперь, как тебе Одиссей отдаленный
Нужен, чтоб руки свои наложил на бесстыдных пришельцев.
Если б теперь, воротившись, он встал перед дверью домовой
С парою копий в руке, со щитом своим крепким и в шлеме, -
Как я впервые увидел героя в то время, когда он
В доме у нас на пиру веселился, за чашею сидя,
К нам из Эфиры прибывши от Ила, Мермерова сына:
Также и там побывал Одиссей на судне своем быстром;
Яда, смертельного людям, искал он, чтоб мог им намазать
Медные стрелы свои. Однако же Ил отказался
Дать ему яду: стыдился душою богов он бессмертных.
Мой же отец ему дал, потому что любил его страшно.
Пред женихами когда бы в таком появился он виде,
Короткожизненны стали б они и весьма горькобрачны!
Это, однако же, в лоне богов всемогущих сокрыто, -
Он за себя отомстит ли иль нет, возвратившись обратно
В дом свой родной. А теперь я тебе предложил бы подумать,
Как поступить, чтобы всех женихов удалить из чертога.
Слушай меня и к тому, что скажу, отнесись со вниманьем:
Завтра, граждан ахейских созвав на собранье, открыто
Все расскажи им, и боги тебе пусть свидетели будут.
После потребуй, чтоб все женихи по домам разошлися;
Мать же твоя, если дух ее снова замужества хочет,
Пусть возвратится к отцу многосильному, в дом свой родимый;
Пусть снаряжает он свадьбу, приданое давши большое,
Сколько его получить полагается дочери милой.
Что ж до тебя, – мой разумный совет ты, быть может, исполнишь:
Лучший корабль с двадцатью снарядивши гребцами, отправься
И об отце поразведай исчезнувшем; верно, из смертных
Кто-либо сможет о нем сообщить иль Молва тебе скажет
Зевсова – больше всего она людям известий приносит.
В Пилосе раньше узнаешь, что скажет божественный Нестор,
К русому после того Менелаю отправишься в Спарту;
Прибыл домой он последним из всех меднолатных ахейцев.
Если услышишь, что жив твой отец, что домой он вернется,
Год дожидайся его, терпеливо снося притесненья;
Если ж услышишь, что мертв он, что нет его больше на свете,
То, возвратившись обратно в отцовскую милую землю,
В честь его холм ты насыплешь могильный, как следует справишь
Чин похоронный по нем и в замужество мать свою выдашь.
После того как ты все это сделаешь, все это кончишь,
В сердце своем и в уме хорошенько обдумай, какими
Средствами всех женихов в чертогах твоих изничтожить,
Хитростью или открыто. Ребячьими жить пустяками
Время прошло для тебя, не таков уже ныне твой возраст.
Иль неизвестно тебе, что с божественным было Орестом,
Славу какую он добыл, расправясь с коварным Эгистом,
Отцеубийцей, отца его славного жизни лишившим?
Вижу я, друг дорогой мой, что ты и велик и прекрасен,
Ты не слабее его, ты в потомстве прославишься также;
Но уж давно мне пора возвратиться на быстрый корабль мой:
Спутники ждут и наверно в душе возмущаются мною.
Ты ж о себе позаботься и то, что сказал я, обдумай».
Снова тогда Телемах рассудительный гостю ответил:
«Право же, гость мой, со мной говоришь ты с такою любовью,
Словно отец; никогда я твоих не забуду советов.
Но подожди, хоть и очень, как вижу, в дорогу спешишь ты.
Вымойся раньше у нас, услади себе милое сердце.
С радостным духом потом унесешь на корабль ты подарок
Ценный, прекрасный, который тебе поднесу я на память,
Как меж гостей и хозяев бывает, приятных друг другу».
Так отвечала ему совоокая дева Афина:
«Нет, не задерживай нынче меня, тороплюсь я в дорогу.
Дар же, что милое сердце тебя побуждает вручить мне,
Я, возвращаясь обратно, приму и домой с ним уеду,
Дар получив дорогой и таким же тебя отдаривши».
Молвила и отошла совоокая дева Афина,
Как быстрокрылая птица, порхнула в окно. Охватила
Сила его и отвага. И больше еще он, чем прежде,
Вспомнил отца дорогого. И, в сердце своем поразмыслив,
В трепет душою пришел, познав, что беседовал с богом.
Тотчас назад к женихам направился муж богоравный.
Пел перед ними певец знаменитый, они же сидели,
Слушая молча. Он пел о возврате печальном из Трои
Рати ахейцев, ниспосланном им Палладой Афиной.
В верхнем покое своем вдохновенное слышала пенье
Старца Икария дочь, Пенелопа разумная. Тотчас
Сверху спустилась она высокою лестницей дома,
Но не одна; с ней вместе спустились и двое служанок.
В залу войдя к женихам, Пенелопа, богиня средь женщин,
Стала вблизи косяка ведущей в столовую двери,
Щеки закрывши себе покрывалом блестящим, а рядом
С нею, с обеих сторон, усердные стали служанки.
Плача, певцу вдохновенному так Пенелопа сказала:
«Фемий, ты знаешь так много других восхищающих душу
Песен, какими певцы восславляют богов и героев.
Спой же из них, пред собранием сидя, одну. И в молчаньи
Гости ей будут внимать за вином. Но прерви начатую
Песню печальную; скорбью она наполняет в груди мне
Милое сердце. На долю мне выпало злейшее горе.
Мужа такого лишась, не могу я забыть о погибшем,
Столь преисполнившем славой своей и Элладу и Аргос».
Матери так возразил рассудительный сын Одиссеев:
«Мать моя, что ты мешаешь певцу в удовольствие наше
То воспевать, чем в душе он горит? Не певец в том виновен, -
Зевс тут виновен, который трудящимся тягостно людям
Каждому в душу влагает, что хочет. Нельзя раздражаться,
Раз воспевать пожелал он удел злополучный данайцев.
Больше всего восхищаются люди обычно такою
Песнью, которая им представляется самою новой.
Дух и сердце себе укроти и заставь себя слушать.
Не одному Одиссею домой не пришлось воротиться,
Множество также других не вернулось домой из-под Трои.
Лучше вернись-ка к себе и займися своими делами -
Пряжей, тканьем; прикажи, чтоб служанки немедля за дело
Также взялись. Говорить же – не женское дело, а дело
Мужа, всех больше – мое; у себя я один повелитель».
Так он сказал. Изумившись, обратно пошла Пенелопа.
Сына разумное слово глубоко ей в душу проникло.
Наверх поднявшись к себе со служанками, плакала долго
Об Одиссее она, о супруге любимом, покуда
Сладостным сном не покрыла ей веки богиня Афина.
А женихи в это время шумели в тенистом чертоге;
Сильно им всем захотелось на ложе возлечь с Пенелопой.
С речью такой Телемах рассудительный к ним обратился:
«О женихи Пенелопы, надменные, гордые люди!
Будем теперь пировать, наслаждаться. Шуметь перестаньте!
Так ведь приятно и сладко внимать песнопеньям прекрасным
Мужа такого, как этот, – по пению равного богу!
Завтра же утром сойдемся на площадь, откроем собранье,
Там я открыто пред целым народом скажу, чтобы тотчас
Дом мой очистили вы. А с пирами устройтесь иначе:
Средства свои проедайте на них, чередуясь домами.
Если ж находите вы, что для вас и приятней и лучше
У одного человека богатство губить безвозмездно, -
Жрите! А я воззову за поддержкой к богам вечносущим.
Может быть, делу возмездия даст совершиться Кронион:
Все вы погибнете здесь же, и пени за это не будет!»
Так он сказал. Женихи, закусивши с досадою губы,
Смелым словам удивлялись, которые вдруг услыхали.
Тотчас к нему Антиной обратился, рожденный Евпейтом:
«Сами, наверное, боги тебя, Телемах, обучают
Так беззастенчиво хвастать и так разговаривать нагло.
Зевс нас избави, чтоб стал ты в объятой волнами Итаке
Нашим царем, по рожденью уж право имея на это!»
И, возражая ему, Телемах рассудительный молвил:
«Ты на меня не сердись, Антиной, но скажу тебе вот что:
Если бы это мне Зевс даровал, я конечно бы принял.
Или, по-твоему, нет ничего уже хуже, чем это?
Царствовать – дело совсем не плохое; скопляются скоро
В доме царевом богатства, и сам он в чести у народа.
Но между знатных ахейцев в объятой волнами Итаке
Множество есть и других, молодых или старых, которым
Власть бы могла перейти, раз царя Одиссея не стало.
Но у себя я один останусь хозяином дома,
Как и рабов, для меня Одиссеем царем приведенных!»
Начал тогда говорить Евримах, рожденный Полибом:
«О Телемах, это в лоне богов всемогущих сокрыто,
Кто из ахейцев царем на Итаке окажется нашей.
Все же, что здесь, то твое, и в дому своем сам ты хозяин.
Вряд ли найдется, пока обитаема будет Итака,
Кто-нибудь, кто бы дерзнул на твое посягнуть достоянье.
Но я желал бы узнать, мой милейший, о нынешнем госте:
Кто этот гость и откуда? Отечеством землю какую
Славится Какого он рода и племени? Где он родился?
С вестью ль к тебе о возврате отца твоего он явился
Или по собственной нужде приехал сюда, на Итаку?
Сразу исчезнув, не ждал он, чтоб здесь познакомиться с нами.
На худородного он человека лицом не походит».
И, отвечая ему, Телемах рассудительный молвил:
«На возвращенье отца, Евримах, я надежд не имею.
Я ни вестям уж не верю, откуда-нибудь приходящим,
Ни прорицаньям внимать не желаю, к которым, сзывая
Разных гадателей в дом, без конца моя мать прибегает.
Путник же этот мне гость по отцу, он из Тафоса родом,
Мент, называет себя Энхиала разумного сыном
С гордостью, сам же владыка он веслолюбивых тафосцев».
Так говорил Телемах, хоть и знал, что беседовал с богом.
Те же, занявшись опять усладительным пеньем и пляской,
Тешились ими и ждали, покамест приблизится вечер.
Тешились так, веселились. И вечер надвинулся черный.
Встали тогда и пошли по домам, чтоб покою предаться.
Сын же царя Одиссея прекрасным двором в свой высокий
Двинулся спальный покой, кругом хорошо защищенный.
Думая в сердце о многом, туда он для сна отправлялся.
С факелом в каждой руке впереди его шла Евриклея,
Дочь домовитая Опа, рожденного от Пенсенора.
Куплей когда-то Лаэрт достояньем своим ее сделал
Юным подросточком, двадцать быков за нее заплативши,
И наравне с домовитой женой почитал ее в доме,
Но, чтоб жену не гневить, постели своей не делил с ней.
Шла она с факелом в каждой руке. Из невольниц любила
Всех она больше его и с детства его воспитала.
Двери открыл Телемах у искусно построенной спальни,
Сел на постель и, мягкий хитон через голову снявши,
Этот хитон свой старухе услужливой на руки кинул.
Та встряхнула хитон, по складкам искусно сложила
И на колок близ точеной постели повесила. После
Вышла старуха тихонько из спальни, серебряной ручкой
Дверь за собой притворила, засов ремнем притянувши.
Ночь напролет на постели, покрывшись овчиною мягкой,
Он размышлял о дороге, в которую зван был Афиной.
На сегодняшнем занятии мы познакомимся с поэмой Гомера «Одиссея», основным сюжетом которой являются странствия Одиссея, царя острова Итака, возвращавшегося домой после взятия греками Трои. «Сладостней нет ничего нам отчизны и родичей наших», - не уставал повторять Одиссей. Однако боги преследовали его, долгих десять лет скитался он по морям, пока не увидел берега своей Итаки.
Рассказал Одиссей, как, заблудившись на морских путях, пристал он к острову одноглазых великанов-циклопов. У самого моря греки увидели большую пещеру и вошли в неё. Вскоре появился вместе со стадом хозяин пещеры циклоп Полифем - сын самого владыки морей бога Посейдона (рис. 2).
Загнав стадо овец и коз в пещеру, Полифем завалил вход в неё обломком скалы. Неласково встретил он гостей.
Ужас объял греков. Тогда Одиссей развязал кожаный мех с вином и «отважно полную чашу протянул Полифему». Понравился напиток великану. Предложил он Одиссею назвать своё имя, обещая сделать ему подарок. Хитроумный Одиссей сказал:
«Я называюсь Никто; мне такое название дали
Мать и отец, и товарищи так все меня величают».
С злобной насмешкою мне отвечал людоед зверонравный:
«Знай же, Никто, мой любезный, что будешь ты самый последний
Съеден, когда я разделаюсь с прочими; вот мой подарок».
Тут повалился он навзничь совсем опьянелый.
Нашли греки в пещере огромный кол, раскалили его на костре и выбили людоеду его единственный глаз. Дико завыл Полифем…
Громкие вопли услышав, отвсюду сбежались циклопы:
«Кто же тебя, Полифем, здесь обманом иль силою губит?!»
Им отвечал он из тёмной пещеры отчаянно диким
Рёвом: «Никто!..» В сердцах закричали циклопы:
«Если никто, для чего же один так ревёшь ты?..»
Разошлись циклопы по своим пещерам. А утром связал Одиссей баранов по трое. Под каждым средним был привязан один из греков. Полифем отодвинул от входа огромный камень и, ощупывая баранов сверху, выпустил всё стадо. А вместе с ним и греков… Добравшись до корабля, вспенили они вёслами тёмные воды. Вот тут и закричал Одиссей циклопу: «Знай, людоед, что тебя ослепил Одиссей, властитель Итаки!» Услышав имя своего врага, взмолился Полифем Посейдону: «О, владыка морей! Отец мой! Пусть Одиссей никогда не увидит отчизны. Если же волей судьбы он достигнет Итаки, пусть возвратится один, на чужом корабле и несчастье найдёт в своём доме!» Стал с тех пор Посейдон преследовать Одиссея.

Рис. 2. Одиссей и Полифем ()
Однажды Одиссей проплывал мимо острова сирен. Это были злые чародейки, полуптицы-полуженщины. Своим сладкозвучным пением сирены заманивали мореходов и пожирали их. Весь остров белел костями погибших. Очень хотел Одиссей волшебное пение послушать и живым остаться. Он заклеил уши товарищей воском и попросил, чтобы его крепко привязали к мачте. Чудесно пели сирены. Забыл Одиссей обо всём: о своей каменистой Итаке, о жене Пенелопе и сыне Телемаке. Он попытался разорвать верёвки. Но с удвоенной силой нажали на вёсла его верные спутники. И лишь когда остров сирен скрылся из виду, они отвязали Одиссея от мачты (рис. 3).

Рис. 3. Встреча с сиренами ()
Вскоре Одиссей и его спутники вновь пережили смертельную опасность. «В страхе великом тогда проходили мы тесным проливом», - рассказывал Одиссей царю Алкиною. Из скалистой пещеры по одну сторону пролива выползало ужасное чудовище - Сцилла. Это была громадная змея с шестью собачьими головами, каждая из которых имела острейшие в три ряда зубы. По другую сторону узкого пролива мореходов подстерегало не менее страшное чудовище - Харибда. Трижды в день она разверзала огромную пасть, поглощая чёрные воды, а затем извергала их обратно. Проходя между Сциллой и Харибдой, Одиссей и его спутники «в трепете очи свои на грозящую гибель вперяли».
Выслушав горестный рассказ Одиссея, царь Алкиной повелел снарядить корабль, чтобы доставить его на Итаку.
Сбылось проклятие циклопа: на чужом корабле, один, спустя десять лет после гибели Трои, возвратился Одиссей на родину. В доме его незваными гостями пировали знатные юноши Итаки. Они считали Одиссея погибшим, нагло распоряжались его добром, сватались к жене Пенелопе (рис. 4), глумились над сыном Телемаком, надеясь лишить его отцовского наследства.
Пенелопа не переставала верить, что Одиссей жив, и ждала его. Она придумала хитрость: обещала выбрать нового мужа, как только соткёт покров погребальный отцу Одиссея (был он стар и готовился к смерти). Днём она без устали ткала, а ночами распускала нитки. Обман продолжался три года, на четвёртый одна из служанок открыла женихам тайну хозяйки.

Рис. 4. Пенелопа ()
Не желая быть узнанным, переоделся Одиссей в заплатанную одежду и под видом нищего вошёл в свой дом. Буйные женихи пили и ели, принуждая Пенелопу выбрать себе нового мужа. Наконец, она объявила, что станет женой того, кто победит в стрельбе из лука, принадлежащего Одиссею. Сама же надеялась, что никто не сумеет даже согнуть могучий лук. Так и случилось. Попросил Одиссей разрешить ему натянуть лук. Решили женихи, что нищий бродяга лишился рассудка.
Взявши могучий свой лук, Одиссей, в испытаниях твёрдый,
Вмиг натянул тетиву, и сквозь кольца стрела пролетела…
Одиссей жестоко расправился с женихами: «В доме своем истребил он тут всех женихов многобуйных…». Родичи убитых устремились к дворцу Одиссея, призывая к мести. С великим трудом добился Одиссей примирения со знатью Итаки.
Список литературы
- А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. История Древнего мира. 5 класс - М.: Просвещение, 2006.
- Немировский А.И. Книга для чтения по истории древнего мира. - М.: Просвещение, 1991.
- Lib.ru ()
- Godsbay.ru ()
Домашнее задание
- Почему в Одиссей в течение десяти лет после окончания Троянской войны не мог вернуться на родину?
- Что означает крылатое выражение «между Сциллой и Харибдой»? В каких случаях мы можем употребить этот афоризм?
- Опишите характер Одиссея. Какие поступки героя вам нравятся? Какие поступки вы осуждаете?
Лу Синь
Правдивая история А-Кея
Источник текста: Лу Синь - Правдивая история А-Кея Издательство "Прибой", Ленинград, 1929 г. Переводчик: Борис Александрович Васильев OCR и проверка орфографии: Оскар Уайльд .ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ
Как ни странно то обстоятельство, что мы очень мало знаем о богатейшей литературе древнего Китая, создававшейся на протяжении веков в процессе его непрерывной исторической жизни, еще страннее тот факт, что мы совершенно незнакомы с литературой современного Китая. А между тем, нет лучшего средства для понимания жизни соседнего с нами народа, переживающего эпоху возрождения и ломающего старые культурные основы для возведения новых, как художественная литература послереволюционного периода, плоть от плоти молодого Китая. Современная китайская литература явилась следствием той реформы языка, которая была произведена в 1917 году и заключалась в отказе от дальнейшего употребления языка классического, -- языка-пережитка, уже не совпадавшего с формами живого языка народа. (По аналогии, это соответствует хотя бы латинскому языку в современной Италии или санскриту -- в Индии.) Этот переход на язык современности и дал толчок к созданию новой литературы, написанной на живом языке и, в то же время, отражающей все то новое в укладе жизни и идеологии современного Китая, что явилось в результате его приобщения к кругу западной цивилизации. Вместе с тем, в процессе создания этой литературы наметились две линии развития, две основные школы, из которых одна, объединившая романтиков, поставила лозунгом идею "искусство для искусства", а другая, объединившая реалистов, провозгласила принцип "искусство для жизни". Романтическая школа, с уклоном в подражание европейской и японской литературе, имеет свои корни в среде европеизированной интеллигенции и, несмотря на свои заслуги в области обогащения языка, менее популярна в Китае, чем школа реалистов, с их ярко выраженным национализмом и натуралистическим уклоном, более близким рационалистически настроенному уму китайцев. Лидером реалистической школы писателей является Лу Синь. Лу Синь -- литературный псевдоним известного профессора национальной литературы и видного публициста Чжоу Шу-женя. Литературную славу ему доставили два художественных сборника: один, появившийся в 1922 году, под названием "На-хань" ("Клич") и другой, "Фан-хуан" ("Блуждания"), напечатанный в 1925 году. Китайская литературная критика единодушно отметила нового писателя, и, спустя некоторое время, часть его произведений появилась в переводе на английском, французском и японском языках, причем повесть "Подлинная история А-Кея" получила лестный отзыв со стороны Романа Роллана. По характеру своего творчества Лу Синь -- бытописатель, причем один из первых начал брать, в качестве темы, китайскую деревню, до тех пор не находившую себе места в классической литературе Китая. Лу Синь -- наблюдатель, и его основное качество -- холодное спокойствие, соединенное с интуицией подлинного психолога. Для Лу Синя литературное творчество является делом большого воспитательного значения: в своем отношении к искусству он стоит на утилитарной точке зрения, и если это искусство служит на пользу человечеству, он целиком его приемлет, утверждая, вместе с тем, что чистого искусства нигде никогда не было и не может быть, ибо художник всегда -- сын своей страны и эпохи. В произведениях Лу Синя нет напряженности действия, иногда они недостаточно выпуклы в смысле фабулы, но зато ему нет равного среди современных китайских писателей в умении схватывать бытовые детали и правдиво их описывать. По своим политическим взглядам Лу Синь -- анархист-индивидуалист, и его насмешливо-скептическое отношение к старым формам общественной жизни, как к ненужному и вредному пережитку, нашло себе поддержку у молодой радикально настроенной китайской интеллигенции. В своей повести "Правдивая история А-Кея", Лу Синь направляет свою сатиру не только против китайской псевдореволюции 1911 года, но главным образом против старо-китайской культуры и старо-китайского общества. И если иногда, рисуя типы простых людей из народа, он смеется над их беспомощностью, то это только смех сквозь слезы, ибо сочувствие писателя всегда на стороне униженных и обездоленных. Не принадлежа к определенной политической партии, Лу Синь сначала сочувствовал Гоминдану, но после переезда в 1927 году в Кантон, он разошелся с ним и, отрицательно относясь к его политике, снова вернулся на Север, где он продолжает свою литературную деятельность. При передаче на русский язык повестей и рассказов Лу Синя переводчикам пришлось преодолеть большие трудности, главным образом в области стилистических особенностей, связанных с китайской иероглификой, -- этим специфическим явлением, говорящим иногда гораздо больше глазу, чем сознанию. Поэтому кое-что, а иногда и многое пропадает в русском переводе, принцип которого заключается в возможно меньшем использовании примечаний.
Я испытал глубокую радость, узнав о том, что моя повесть "Правдивая история А-Кея" будет напечатана на русском языке. И по этому поводу мне хочется оказать несколько слов. Отобразил ли я, в своей книге, душу современного китайского народа? Не знаю, как эго сделают другие, но что касается меня лично, то у меня, в общем, такое ощущение, словно между нами, людьми, стоят высокие стены, отделяющие нас друг от друга и мешающие нашему взаимному общению. В древности наши умные люди, так называемые "мудрецы", разделяли человечество на десять категорий, утверждая, что они не одинаковы. Хотя мы сейчас и не пользуемся этим разделением, но оно все же еще существует в Китае и притом в еще более неприятном виде. А, кроме того, наши мудрецы изобрели еще трудно усваиваемую и необычайно сложную письменность. Я, впрочем, не особенно браню их за это, ибо чувствую, что они сделали это без умысла, не подумав о том, что очень-очень многих они своей выдумкой лишили возможности читать и писать. Таким образом, вся та письменность, которая дошла до нас, представляет собою мысли и законы последователей нескольких мудрецов, написанные ими для них самих. Что же касается народа, то он рос 4 000 лет в молчании, хирея и увядая, словно придавленная огромным камнем трава... И потому, нарисовать глубоко-молчаливую душу китайского народа -- дело трудное. И я чувствую это, ибо, несмотря на все мои усилия проникнуть в нее, я постоянно ощущаю какую-то преграду. В скором будущем, еще окруженный высокими стенами, китайский народ очнется, вырвется на свободу и заговорит, но сейчас это еще мало заметно, и поэтому я тоже могу писать о китайской жизни, основываясь лишь на собственных наблюдениях, сиротливо и одиноко. После появления в свет моей повести, первое, что я получил, это порицание со стороны одного молодого критика. Затем нашлись такие, которые объявили ее безумным бредом. Потом ее назвали насмешкой, а еще некоторые увидели в ней сатиру. Наконец, были и люди, заявившие, что моя повесть -- холодное издевательство, после чего я и сам усомнился: уж не кусок ли льда у меня вместо сердца? Но потом я подумал, что ведь человеческая жизнь кажется неодинаковой каждому писателю, и что произведения этих писателей кажутся неодинаковыми каждому из их читателей... Таким образом, очень возможно, что в глазах русских читателей, не имеющих на мой счет предвзятого мнения, моя повесть предстанет в ином свете. И если это будет так, я испытаю глубокую радость.
Лу Синь .
I . ВСТУПЛЕНИЕ
Вот уже год или два, как я собираюсь написать подлинную историю А-Кея, С одной стороны, я хотел это сделать, с другой -- колебался, из чего достаточно очевидно, что я не из числа знаменитостей. Ибо в старину кисти бессмертных художников передавали потомству образы бессмертных людей, эти люди оставляли после себя произведения, а произведения, в свою очередь, сохраняли потомству их имена, но что от чего зависело -- постепенно перестало быть ясным. Что же касается моего прежнего желания написать об А-Кее, то словно какая-то сверхъестественная сила понуждает меня к этому. Однако, желая написать это очень даже "смертное" сочинение, я не успел взяться за кисть, как уже сразу наткнулся на неисчислимые затруднения. Первым было заглавие произведения. Еще Конфуций сказал: "Если название не соответствует, то и слова не послушны". На это следует обратить особое внимание. Заглавий для исторических трудов весьма много: биография, автобиография, эзотерическая биография, экзотерическая биография, особая биография, семейная хроника, сокращенная биография... [Термины специальных жанров в китайской историографической литературе.] Жаль только, что все они не подходят. "Биография"? Но это мое произведение не годится помещать, наравне с биографиями знаменитостей, в основную историю. "Автобиография"? Но, ведь, я не А-Кей. Если сказать, что это "экзотерическая биография", то где же тогда эзотерическая? Бели же все-таки обозначить ее как эзотерическую, то ведь А-Кей вовсе не святой, для которых они пишутся. "Особая биография"? Но А-Кей никогда не удостаивался правительственной награды в форме приказа Историографической комиссии составить его жизнеописание. Хотя и говорят, что в исторических анналах Англии нет биографий игроков, но знаменитый писатель Диккенс все же написал такую историю. Однако то, что разрешается столь известному писателю, никак не позволительно таким, как я. Следующей идет "семейная хроника". Но я вовсе не знаю, есть ли у меня общие предки с А-Кеем, тем более, что я никогда не удостаивался почтительного обхождения со стороны его сыновей и внуков. Быть может, "сокращенная биография"? Но, ведь, у А-Кея не было другой, полной. В конце концов, это будет скорее "личной биографией", жизнеописанием. Но в виду особенностей изложения, из-за грубости моего стиля и языка, какая бывает у возчиков и уличных торговцев, я не осмеливаюсь назвать свое произведение даже так. И вот я решил взять два слова: "подлинная история" -- из любимой фразы тех писателей, которые не принадлежат ни к трем религиозным школам, ни к девяти философским течениям, [Три религиозные школы, т. е. конфуцианство, даосизм и буддизм, и девять философских течений, т, е. ряд философских школ феодального периода, включавших в себя всю литературу и науку придворного типа.] и обычно пишут: "Довольно праздных слов, перейдем к подлинной истории!" --и сделал их заглавием. Если же это внешне похоже на то заглавие, которое присваивали в древности сочинениям других жанров, например: "Подлинная история каллиграфического искусства", -- то что ж поделать!.. Мое второе затруднение состояло в том, что, согласно традиции, каждое жизнеописание начинается обыкновенно словами: "Такой-то, по прозвищу какой-то, оттуда-то родом..." Но я не знал даже фамилии А-Кея. Однажды мне показалось, что его фамилия Чжао, но на следующий же день это опять стало сомнительным. Дело в том, что когда сын почтенного Чжао добился ученой степени кандидата и под звон гонгов эта новость достигла деревни, А-Кей, который только-что влил в себя две чашки желтого вина, заявил, жестикулируя и притоптывая, что это событие весьма почетно и для него, так как он, в сущности, однофамилец почтенного Чжао, и что, если разобраться в родстве поподробнее, так он на три степени старше, чем кандидат. При таком заявлении, присутствовавшие почувствовали некоторое уважение. Кто же мог знать, что на следующий день старшина вызовет А-Кея в дом почтенного Чжао? Едва завидев его, почтенный Чжао весь вспыхнул и, задыхаясь, крикнул: -- А-Кей, дрянь ты этакая!.. Ты говоришь, я твой однофамилец? А-Кей не раскрывал рта. Чем больше почтенный Чжао на него глядел, тем больше раздражался и, подскочив на несколько шагов, продолжал: -- Как ты смеешь нести такую чепуху? Как эго я могу быть из одного рода с таким, как ты? Разве тебя зовут Чжао? А-Кей молчал, подумывая как бы обратиться вспять, но почтенный Чжао, подскочив еще ближе, дал ему пощечину. -- Как ты смеешь называться Чжао?! Разве ты можешь быть достойным такой фамилии?.. А-Кей, не пытаясь доказать, что его фамилия действительно Чжао, только потирал левую щеку и, наконец, вышел со старшиной вон. Там он получил должное "внушение" и от него и отблагодарил его за это двумястами чохов [Чох -- около 1/8 копейки.] на вино. Узнав об этом, все решили, что А-Кей совсем дурак и сам напросился на пощечину. Вряд ли его фамилия Чжао; но даже если это и так, то, раз уже есть один почтенный Чжао, все равно не следовало болтать глупости. После этого случая никто не дал себе труда выяснить его настоящую фамилию, так что я в конце концов так и не знаю, что за фамилия была у А-Кея. Третье затруднение состояло в том, что я не знал, как пишется его имя. При жизни все звали его А-Кей, а после смерти называть так перестали. Где ж тут быть "древним записям на бамбуке и полотне". [Т. е. прямых свидетельств древнего происхождения.] Если же, все-таки, поставить вопрос об этом, то ведь данное сочинение появляется впервые, и, значит, сразу же возникает означенное затруднение. Я уже подробно обдумывал, как пишется это самое А-Кей: через иероглиф "кей", обозначающий "лунное дерево", или через "кей", означающий "благородство". Если бы его прозвище было "Юэ-тин" "лунный павильон", или если бы он родился в августе, я, конечно, написал бы его имя через иероглиф "кей" в значении "лунного дерева". Но ведь у него не было прозвища (может быть и было, но никто его не знал), а кроме того, никогда не рассылались извещения по случаю его рождения, как принято, так что писать его имя через "кей" в значении "лунного дерева" было бы совершенно произвольно. Вот если бы у него был старший брат или младший, по прозвищу А-фу -- "богатство", в таком случае, по аналогии, можно было бы написать его имя иероглифом "кей", означающим "благородство". Но ведь он был одинок и, значит, писать так -- тоже неосновательно. Другие знаки на звук "кей" еще менее обоснованы. [При односложности китайского языка и иероглифическом письме, на одно и то же слово, произносимое одинаково, но с различным значением, существует несколько иероглифических начертаний, благодаря чему возможна богатейшая игра слов, основанная па различном начертании знаков в применении к одинаково произносимому комплексу.] Когда-то я опрашивал об этом талантливого кандидата наук, сына почтенного Чжао. Но кто бы мог ожидать, что такой отменно-ученый человек, как он, тоже окажется несведущим? Правда, он добавил, что исследовать нужный мне вопрос нельзя вследствие того, что Чень Ду-сю, основав журнал "Новая молодежь", ввел в обиход иностранные слова, и от этого национальная культура погибла. Тогда я поручил одному из моих земляков обследовать судебные документы, связанные с делом А-Кея. Только восемь месяцев спустя я получил письмо, что в тех документах нет человека с именем, похожим на звук "А-Кей". Не знаю, действительно ли там не было этого имени, или он не сумел выяснить его, -- во всяком случае, других способов у меня больше нет. Мне очень стыдно, но если даже ученый кандидат не знает, то что же можно требовать от меня? Четвертое затруднение -- вопрос о родине А-Кея. Если бы его фамилия была Чжао, то на основании обычая согласовывать имена с названиями провинций, можно было бы справиться по фамильным записям в провинциях, где говорится, например, "Лун-си, родом из Тянь-шуя". Жаль только, что фамилия его не совсем определенна; поэтому нельзя решить, где его родина. Хотя он больше всего проживал в деревне Вей-чжуан, он часто бывал и в других местах, так что нельзя сказать, что он вейчжуанец. Если же написать "родом из Вей-чжуана", то это будет противоречить точному историческому методу. Утешением для меня является то обстоятельство, что по крайней мере приставка "А" вполне достоверна. В ней нет никакой ошибки, и ее можно рекомендовать всем. [Приставка "А" к именам, практикующаяся главным образом в деревнях, иногда соответствует нашему суффиксу "ка" в именах, например -- Гришка, Ванька...] Что касается остального, то с такой неглубокой эрудицией, как моя, выяснить это невозможно. Остается одна надежда, что помешанные на истории и археологии будущие исследователи смогут, пожалуй, открыть много новых данных, но к тому времени моя "Подлинная история А-Кея", боюсь, будет предана забвению. Все вышесказанное можно считать предисловием.II . ВКРАТЦЕ О БЛЕСТЯЩИХ ПОБЕДАХ
Не только фамилия и место рождения А-Кея были неизвестны, но даже и его прошлое. Причина лежала в том, что жители Вей-чжуана требовали от него только работы, потешались над ним, но никогда не интересовались его прошлым. Сам А-Кей тоже о нем не рассказывал, и только когда ругался с другими, таращил глаза и говорил: -- Мои предки много важнее твоих. А ты что за птица?.. А-Кей не имел семьи и жил в местном храме Земледелия. У него не было определенных занятий, и он исполнял поденные работы для других. Нужно было косить пшеницу, он косил; нужно было толочь рис -- толок; надо было грести -- греб... Если работа затягивалась, он временно жил в доме работодателя, но как только кончал ее, сейчас же уходил. Поэтому, когда людям было нужно, они вспоминали об А-Кее, вернее -- вспоминали об его работе, но уж никак не об его прошлом. Когда же работа кончалась, о нем быстро забывали. Какие же тут могут быть разговоры о прошлом и заслугах? Только один раз какой-то старик одобрительно заметил: -- А-Кей -- мастер работать. Все это время А-Кей, обнаженный по пояс, ленивый и тощий, стоял перед ним. Никто не мог догадаться, искренно это было сказано или в насмешку, но А-Кей был весьма доволен. О себе он был очень высокого мнения, и все жители Вей-чжуана ничего не значили в его глазах. В особенности это касалось двух грамотеев; по его мнению ради них не стоило даже шевельнуть пальцем. Оба эти грамотея в будущем могли, пожалуй, превратиться в ученых кандидатов. Почтенный Чжао и почтенный Цянь пользовались уважением односельчан не только потому, что были богаты, но еще и потому, что были отцами этих грамотеев. Один А-Кей в душе не выказывал особого уважения, думая: "Мой сын мог бы быть поважнее". Кроме того, А-Кей несколько раз бывал в городе, и это еще более прибавило ему самомнения, хотя он в то же время весьма презирал горожан. Например, деревянное сиденье, в три аршина длиной и три вершка шириной, вейчжуанцы называли просто "скамьей", и он тоже называл его так, а в городе это называли "лавкой", и он думал: "Это не так... вот смешно!" К большеголовой рыбе, поджаренной на масле, все вейчжуанцы прибавляли луковые перья в полвершка длиной, а горожане заправляли рыбу мелко нарезанным луком, и он думал: "Это тоже неправильно... вот смешно!" Но ведь вейчжуанцы были настоящей деревенщиной, не видавшей света. Они даже не видели жареной рыбы в городе. А-Кей со своими знаменитыми предками, высокими знаниями да притом еще настоящим уменьем работать, в сущности, был почти совершенным человеком. Жаль только, что он обладал кой-какими внешними недостатками. Наиболее отталкивающим было то, что на голове у него находились плешины от неизвестно когда появившейся парши. Хотя они и были его собственные, но, по его мнению, они, пожалуй, ничего не прибавляли к его достоинству. Поэтому он запрещал произносить при нем слово "плешь", равно и все другие слова, сходные по звуку; в дальнейшем он расширил эту сферу, и слово "блеск" тоже стало запретным. Как только это запрещение нарушалось, безразлично -- умышленно или нет, А-Кей краснел во всю свою плешь и.приходил в ярость, а затем, смотря по противнику, либо ругал его, либо избивал, если тот был слабее... Впрочем, гораздо чаще в таких случаях по неизвестной причине всегда страдал сам А-Кей. Поэтому он постепенно переменил тактику, которая в общем свелась к гневным взглядам. Кто бы мог ожидать, что после того, как А-Кей избрал систему гневных взглядов, вейчжуанские бездельники находили еще больше удовольствия в насмешках над ним? Как только, бывало, завидят они его, тотчас же сделают изумленный вид: -- Хей? Посветлело?.. А-Кей приходил в ярость и мерил их гневным взглядом. -- Должно быть, здесь лампа, -- продолжали они бесстрашно. А-Кею не оставалось ничего другого, кроме возражения: -- Где вам до такой... -- словно в это время на голове его была не простая, а какая-то необыкновенно прекрасная плешь. Выше уже упоминалось, что А-Кей был чрезвычайно знающим; он мгновенно соображал, что это явилось бы нарушением его запрета, и поэтому не заканчивал фразы. Но бездельники, не унимались, продолжали его травить и, в конце концов, доводили дело до драки. Внешне А-Кей терпел поражения: его противники хватали его за рыжую косу, стукали раз пять головой о стенку, а затем, довольные своей победой, удалялись. А-Кей с минуту стоял размышляя: "А в общем, я побит мальчишкой... Нынешний век никуда не годится...", и тоже удалялся с сознанием полной победы. [При патриархальном строе в семье оскорбление старшего младшим или отца сыном навлекало позор на голову сына и возвеличивало оскорбленного.] Все, что А-Кей думал, он в конце концов разбалтывал. Поэтому задиравшие его очень скоро узнали его мнение о духовных победах. После это! о каждый раз, накручивая его рыжую косу, они сначала внушали ему: -- А-Кей, это не мальчишка бьет отца, а человек скотину. Повтори-ка сам: человек бьет скотину. А-Кей, обеими руками ухватив собственную косу у основания и наклонив голову, говорил: -- Это, по-твоему, хорошо бить мошку? А я -- мошка. Ну, отпустишь? Но, несмотря на "мошку", бездельники не отпускали его, норовя стукнуть раз шесть головой о ближайший предмет, и только после этого, вволю натешившись, уходили, полагая, что на этот раз А-Кей посрамлен. Но не проходило и десяти секунд, как А-Кей опять уже преисполнялся сознанием одержанной победы. Он чувствовал, что он единственный в своем унижении; остальные слова шли не в счет, и оставалось только слово "единственный". А разве лауреат государственных экзаменов -- "юань чжуан" -- тоже не был "единственным"? Что они воображают?! После столь славных побед над своими врагами А-Кей радостно спешил в харчевню, проглатывал несколько чашек вина, шутил с другими, ругался и, снова одержав победу, навеселе возвращался в храм Земледелия и погружался в сон. Когда у него бывали деньги, он сейчас же шел играть. Кучка людей сидела на корточках на земле, и А-Кей с потным лицом протискивался в середину. Голос его бывал особенно пронзительным, когда он кричал: -- На "Зеленого дракона" четыреста чохов! -- Хей!.. Ну, открывай! -- "Небесные ворота!" "Углы"!.. Кто ставил на "середину" и на "человека" -- пусто!.. Деньги А-Кея взяты! -- На "середину" -- сто!.. Сто пятьдесят! И под эти возгласы деньги А-Кея постепенно переходили за пояса других людей с потными лицами. В конце концов он протискивался обратно и смотрел, стоя позади, волнуясь за других, пока все не расходились; тогда и он неохотно возвращался в храм, а на следующий день с заспанными глазами отправлялся на работу. Ведь правильно говорится: "Старик потерял лошадь, но как знать -- может быть это к счастью". [Старая китайская пословица, основанная на рассказе о том, как у одного старика, проживавшего вблизи границ Китая, пропала лошадь. Когда соседи стали выражать ему свое сожаление, он ответил: "Как знать, может быть это к счастью". Действительно, вскоре лошадь прибежала обратно приведя с собой другую лошадь. Но, когда соседи стали поздравлять старика с удачей, он ответил: "Как знать, может быть это к несчастью". Вскоре сын старика, объезжая новую лошадь, упал с нее и сломал себе ногу. Опять соседи явились выразить свое сожаление, но старик опять заявил: "Как знать, может быть это к счастью". Через год варвары напади на Китай, вся молодежь была забрана в солдаты, и большинство погибло на войне. Сын же старика уцелел из-за своей сломанной ноги.] А-Кей, на несчастье как-то раз выиграв, потерпел, в конце концов, неудачу. Это случилось вечером, в праздник местного божества. По обычаю в этот вечер были устроены театральные подмостки, а рядом с ними, тоже по обычаю, было расставлено много игральных столов. Гонги и барабаны театра доносились до ушей А-Кея словно откуда-то издалека. Он слышал только выклики банкомета. Он выигрывал и выигрывал. Медяки превращались в серебряную мелочь, серебро превращалось в да-яны, [Да-ян -- 1 рублю] потом они образовали целую кучу. Радость его была необычайна: -- Два да-яна на "Небесные ворота"! Он не понял, кто с кем и из-за чего разодрался. Ругань, удары, топот -- все смешалось в потемневшей голове, а когда он приподнялся, не было ни столов, ни людей, и только на теле чувствовалась боль, словно от чьих-то ног или кулаков. Несколько человек удивленно смотрели на него. Словно что-то потеряв, он двинулся к храму, а когда успокоился, понял, что его кучи денег как не бывало. Съехавшиеся на праздник игроки в большинстве были нездешними. Где уж там было их искать!.. Светлая, блестящая куча денег, притом его собственная-- ее не было! Сказать, что она унесена мальчишками, -- это не утешало; сказать, что сам он -- мошка, утешало так же мало... На этот раз он почувствовал горечь поражения. Но в тот же миг оно превратилось в победу. Правой рукой А-Кей с силой дал себе пощечину, й тупая боль восстановила его душевное равновесие, словно бивший был он сам, а битый другой он. Через мгновение этот "другой он" стал просто другим человеком; и, хотя все еще ощущая боль, он, совершенно успокоенный и довольный, улегся и заснул.III . ЕЩЕ О БЛЕСТЯЩИХ ПОБЕДАХ
Хотя А-Кей и одерживал постоянно победы, но это ясно обнаружилось лишь после того, как он получил пощечину от почтенного Чжао. Отсчитав старшине двести чохов на вино, он улегся, рассерженный, но потом подумал: "Нынешний век прямо никуда не годится -- мальчишки бьют отцов!.." Тут его мысли перешли к почтенному Чжао, который теперь очутился в роли мальчишки, и мало-по-малу к нему вернулось хорошее настроение. Он встал и, напевая "Молодую вдову на могиле", отправился в харчевню. В этот момент он чувствовал себя на равной ноге с такими людьми, как почтенный Чжао. Странно сказать, но с этого момента все как будто стали относиться к нему с большим уважением. А-Кей, быть может, считал, что происходит это оттого, что он стал как бы отцом почтенного Чжао, но на самом деле это было не так. По обычаю Вей-чжуана, если A-Седьмой колотил А-Восьмого или Ли-Четвертый бил Чжана-Третьего, это никогда не считалось особым событием, и нужно было столкновение со знаменитостью, вроде почтенного Чжао, чтобы об этом стали говорить. А раз это попадало людям на язычок, то побивший приобретал известность, но и побитый, в свою очередь, тоже приобщался к славе. О том, что виноват был А-Кей, не стоит, конечно, и говорить. Почему так? Да просто потому, что почтенный Чжао не мог быть виноват. Но если виноват был А-Кей, то почему все как будто начали выказывать ему особое уважение? Это объяснить трудно. Предположительно, пожалуй, потому, что А-Кей высказался о своем отношении к роду Чжао, и хотя за это был побит, однако все боялись, что тут может быть доля правды и что, на всякий случай, лучше уже оказать ему уважение. А может быть -- потому же, почему жертвенные животные в храме Конфуция, будучи такими же свиньями и баранами, как все остальные представители их породы, делались неприкосновенными для конфуцианцев, как только их касались обеденные палочки "священномудрого"... А-Кей после этого случая остался довольным на много лет. В один весенний день, подвыпив, он шел по улице и на солнечном свете, около стены, увидал Бородатого Вана, сидевшего обнаженным по пояс и ловившего блох. В ту же минуту А-Кей почувствовал, что тело его тоже зачесалось. Этот Ван Бородатый был и паршив и волосат, и все звали его Ван Паршивый и Бородатый. А-Кей, пропуская слово "паршивый", в то же время глубоко презирал Вана. С точки зрения А-Кея, паршь не заслуживала удивления, а вот волосатость -- это было вещью поразительной и невыносимой для человеческого глаза. А-Кей сел рядом с ним. Если бы это был кто-либо другой, А-Кей не решился бы так свободно расположиться. Но рядом с Ваном Бородатым чего ему было опасаться? По правде сказать, то, что он присел рядом, даже делало честь Вану. А-Кей тоже снял рубашку и принялся осматривать ее. Но потому ли, что она была свеже-выстиранной, или потому, что он был невнимателен, во всяком случае за большой промежуток времени он выловил только трех-четырех, а у Вана Бородатого одна следовала за другой, так и пощелкивая на зубах. Сначала А-Кей изумился, а потом обеспокоился. У какого-то там Вана, и вдруг так много блох, а у него так мало! Что за неприличное положение! Ему очень хотелось найти большую, но такой не было, нашлась только одна среднего размера. Он со злостью сунул ее в рот, лязгнул зубами -- и все же ему было далеко до Вана! Все его плешины покраснели. Он швырнул рубашку на землю и, сплюнув, сказал: -- Проклятый червяк! -- Паршивая собака! Ты кого ругаешь? - слегка подняв глаза, спросил Ван. Хотя за последнее время А-Кей удостаивался сравнительно почтительного обхождения, а потому чувствовал некоторое высокомерие, однако перед постоянно бившими его бездельниками он все еще трусил. Но на этот раз он был весьма отважно настроен. Эта заросшая волосами штука смеет еще разговаривать?! -- Кто отзывается, того и ругаю! Он поднялся и подбоченился. -- Что, у тебя кости чешутся? -- спросил Ван Бородатый, тоже встав и накидывая рубашку. А-Кей, решив, что тот хочет бежать, размахнулся кулаком, но не успел еще кулак опуститься, как был перехвачен... Толчок... А-Кей ткнулся вперед, и в ту же минуту Бородатый Ван, ухватив его за косу, потащил по заведенному порядку стукать его об стену. -- Благородный муж рассуждает ртом, а не руками, -- наклонив голову, заявил А-Кей. Но Бородатый Ван, как видно, не был "благородным мужем": не теряя времени, он стукнул А-Кея раз пять, потом толкнул его так, что тот отлетел чи [Чи -- около пол-аршина ] на шесть, а затем, удовлетворенный, удалился. На памяти А-Кея, это было, пожалуй, первым посрамлением в его жизни, потому что Ван Бородатый с его волосатостью всегда был предметом насмешек со стороны А-Кея, а не наоборот, и уж, конечно, нечего говорить о том, чтобы он смел его трогать. А вот теперь взял и тронул... Прямо невероятно! Может быть, правда то, что говорят на рынке, будто "император прекратил экзамены и не желает иметь ни ученых, ни кандидатов"? Уж не поэтому ли умалилось значение семьи Чжао и не поэтому ли и на него, на А-Кея, стали смотреть с пренебрежением? А-Кей стоял, не зная, что делать. Вдали показался человек. Приближался еще один его враг. Это был всеми презираемый старший сын почтенного Цяня. Когда-то он убежал в город, в иностранную школу, а потом, неизвестно как, в Японию. Через полгода, когда он вернулся домой, ноги его выпрямились, а косы уже не оказалось. Мать его плакала раз десять, а жена трижды прыгала в колодец. Потом мать его, приходя куда-нибудь, стала говорить: "Косу ему срезали в пьяном виде негодяи. Он ведь мог быть большим человеком, но теперь лучше подождать, пока она отрастет, а тогда поговорим". Но А-Кей не мог этому поверить и за-глаза называл его "фальшивым заморским чертом", а также "иностранным шпионом" и, едва его завидев, уже начинал вполголоса ругаться. Но самое главное, что А-Кей в нем "глубоко презирал и ненавидел", была фальшивая коса. Ведь если даже коса поддельная, то, значит, нет в человеке ничего человеческого; а что его жена не прыгнула в колодец в четвертый раз, доказывает лишь, что она -- не хорошая женщина. "Фальшивый заморский черт" подошел ближе. -- Плешивый! Осел! Ругательство, которое А-Кей всегда произносил про себя, на этот раз, по случаю расстроенного состояния и жажды мести, вырвалось у него довольно громко. Неожиданно этот плешивый, подняв желтую лаковую палку, ту самую, которую А-Кей называл "похоронным посохом", [При похоронах ближайшие родственники идут за гробом, опираясь на специальную палку, так как предполагается. что от скорби родные физически слабеют. Вообще носить палку в дореформенном Китае было не принято] большими шагами направился к нему. В этот момент А-Кей, поняв, что его хотят бить, втянул плечи и шею и стал ожидать нападения. И действительно, удары посыпались на его голову. -- Я сказал про него! -- протестовал А-Кей, указывая на ребенка [Ребятам обычно начисто бреют головы.], стоявшего поодаль. -- Вот тебе, вот тебе, вот тебе!.. На памяти А-Кея, это, пожалуй, было вторым посрамлением в его жизни. К счастью, эти удары словно что-то завершили в нем. Он почувствовал облегчение, а затем забвение -- эта драгоценная способность, унаследованная им от предков, проявила свое действие, и он медленно отправился своей дорогой. Когда же он дошел до дверей харчевни, то уже совсем повеселел. Но тут перед ним показалась маленькая монашка из храма Спокойствия и Очищения. В обычное время, завидев ее, А-Кей ругался и плевался; но что же оставалось делать ему теперь, после посрамления? В нем поднялись воспоминания, родилась неприязнь. "А я-то не знал, почему сегодня мне так не везло! Оказывается, тебя увидел!" -- подумал он. Он пошел ей навстречу и громко сплюнул. -- Хай!.. Пэй!.. Маленькая монашка продолжала идти, не поднимая глаз и опустив голову. А-Кей поравнялся с ней и вдруг, протянув руку, потер ее свежевыбритую голову и захохотал: -- Плешивая! Торопись, монах тебя ждет! -- Ты чего даешь волю рукам, чего трогаешь? -- вся покраснев, огрызнулась монашка, ускоряя шаги. Народ в харчевне расхохотался. А-Кей, увидев, что труды его получили одобрение, совсем разошелся. -- Монах трогает, а мне нельзя? -- и он ущипнул ее за щеку. Народ в харчевне хохотал. А-Кей был в полном восхищении и, чтобы угодить публике, ущипнул монашку еще сильнее и отпустил. В этом турнире он совсем забыл и Вана Бородатого и "фальшивого заморского черта", словно все его огорчения разом получили отмщение. И странно, все его тело, после побоев, словно облегчилось, словно готово было лететь куда-то... -- Ах ты... бездетный А-Кей! -- слышался издали плач маленькой монашки. -- Ха-ха-ха! -- хохотал совсем довольный А-Кей. -- Ха-ха-ха! -- смеялись почти столь же довольные люди в харчевне.IV . ТРАГЕДИЯ ЛЮБВИ
Кто-то сказал, что есть победители, которые хотят, чтобы противники их были тиграми или соколами, ибо только тогда они ощущают радость победы; напротив, если противники окажутся вроде барана или цыпленка, они чувствуют бессмысленность такой победы. А есть и такие, которые, победив и видя, что умиравшие умерли, а сдавшиеся сдались, и все кругом трепещут и повторяют: "Слуга ваш поистине трепещет, воистину устрашен... Вина его достойна смерти", -- такие понимают, что для них уже нет ни врагов, ни соперников, ни друзей, что они одни над всем, в одиночестве, в холоде, в молчании... И тогда они ощущают горечь победы. Но наш А-Кей не обладал подобными недостатками. Он был вполне доволен собою. В этом, пожалуй, одно из доказательств, почему духовная культура Китая стоит впереди всех на земном шаре! Смотрите! В упоении он словно хотел взлететь... Но на этот раз победа оказалась несколько странной. Прошатавшись в упоении полдня, он очутился в храме Земледелия и, по обычаю, должен был улечься и захрапеть. Кто бы мог подумать, что в этот вечер ему оказалось весьма нелегко сомкнуть глаза? Он ощущал что-то странное в своем указательном и большом пальцах, как будто они стали более упругими, чем всегда. Неизвестно, пристал ли к ним жир с лица маленькой монашки, когда он коснулся ее, или это произошло оттого, что он ущипнул ее и втер в свои пальцы ее жир... "Бездетный А-Кей!" -- звучала в его ушах ее фраза. И он подумал: "Правильно... Надо иметь женщину. Бездетному никто не принесет после смерти в жертву чашку с пищей. Надо иметь женщину! Кроме того, сказано, что "из трех человеческих пороков наибольший -- не иметь потомства". Известно также, что "дух Жо-ао голодал". Да, бездетность большой недостаток в человеческой жизни". Таким образом, его мысли совпадали с заветами мудрецов и святых. Жаль только, как впоследствии оказалось, что он не смог себя сдержать. "Женщина... Женщина... -- думал он. -- Монах трогал... Женщина..." Нам неизвестно, когда в этот вечер захрапел А-Кей. Но, в общем, после этого случая он все еще ощущал на пальцах упругость, в упоении мечтая о женщине. Из данного примера видно, что женщины -- существа вредные. В Китае добрая половина мужчин могла бы стать святыми если бы их не портили женщины. Династия Шан погибла из-за Да-цзи, династия Чжоу рухнула благодаря Бао-сы, династия Цинь... хотя в истории нет бесспорных но если мы предположим, что и она погибла из-за женщины, то это вряд ли будет совершенно неверны. Во всяком случае, Дун-чжо был убит по милости Дяо-Чань. А-Кей был весьма нравственным человеком, и хотя нам неизвестно, у какого просвещенного наставника он учился, но в отношении принципа "разделения полов" он всегда был необычайно строг и всегда обладал твердостью в осуждении разных не нормальностей, вроде маленькой монашки или "фальшивого заморского черта". Его теория была такова: всякая монахиня состоит, конечно, в связи с монахом, всякая женщина, вышедшая из дома, конечно, мечтает о разврате с любовником, и, если где бы то ни было женщина разговаривает с мужчиной, то, разумеется, между ними дело не чисто. Чтобы выразить свое осуждение, он бросал на женщин гневные взгляды, или громко произносил несколько едких замечаний, или же из укромного места швырял им в спину камешки. И кто бы мог подумать, что в (возрасте 30 лет, когда человек "устанавливается", [В классической книге "Изречения Конфуция" великий китайский философ, говоря о развитии своей личности в связи с возрастом, сказал: "Мне минуло 30, и я установился". Впоследствии, в ответ на вопрос о возрасте, начитанные люди отвечали словами Конфуция без указания цифры, т. е. тридцатилетний человек на вопрос, сколько ему лет, говорит: "Я установился", что означает, что ему 30 лет.] как говорил Конфуций, он из-за маленькой монашки потеряет свое душевное равновесие? С точки зрения приличного тона, этот дух похотливости не должен был бы существовать, и, конечно, женщин за это поистине следует ненавидеть. Ведь если бы лицо монашки не лоснилось, А-Кей, разумеется, не впал бы в грех, а если бы лицо ее было прикрыто материей, то тем более он был бы далек от искушения. "Женщина!" -- мечтал А-Кей. И вот он стал внимательно присматриваться к тем, о которых он полагал, что они "конечно, мечтают о разврате с любовником", но те даже не улыбались ему в ответ. Он стал внимательно прислушиваться к тем, которые разговаривали с мужчинами, но в их разговорах не было ничего распутного. О! Вот еще одна вещь, которую следует ненавидеть в женщинах: все они маскируются "ложной добродетелью". В тот день А-Кей толок рис в доме почтенного Чжао и, кончив ужинать, сидел, покуривая трубку на кухне. Если бы это происходило в каком-нибудь другом доме, то после ужина, собственно говоря, можно было бы и уйти, но в семье Чжао ужинали рано, и, хотя по установленному правилу не позволялось зажигать лампы (поужинал -- и спать!), но бывали все же исключения для некоторых случаев: во-первых, когда сын почтенного Чжао еще не получил степени кандидата, ему позволялось зажигать лампу и учиться; во-вторых, когда приходил А-Кей на поденную работу, ему позволяли зажигать лампу, чтобы толочь рис. В соответствии с таким исключением, перед тем как начать работу, А-Кей сидел на кухне и курил трубку. У-Ма была единственной служанкой в доме почтенного Чжао. Вымыв посуду, она тоже уселась на скамейку поболтать с А-Кеем. -- Хозяйка два дня ничего не ела, потому что наш господин хочет купить молодую... "Женщина... У-Ма... эта маленькая вдовушка", -- думал А-Кей. -- ... а наша молодая госпожа на восьмом месяце и собирается родить... А-Кей выпустил чубук и поднялся. -- Наша молодая госпожа. , . -- продолжала трещать У-Ма. -- Давай спать вместе! -- вдруг бросился к ней А-Кей и стал на колени. На мгновение стало совсем тихо. Ай-я!--"В изумлении задохнулась У-Ма и, вскочив, с криком выбежала вон... Бежала, кричала, а потом как будто даже заплакала. А-Кей тоже изумленно стоял на коленях перед стеной, руками обнимая пустую скамейку, потом медленно встал, сообразив, что тут что-то неладно. Сердце его сильно билось. В смущении он сунул трубку за пояс и уже подумывал начать толочь рис, как вдруг на голову его опустился грубый удар. Он быстро обернулся. Перед ним стоял с бамбуковой палкой кандидат. -- Ты посмел?.. Ах, ты! Длинный бамбук снова опустился на его голову. А-Кей схватился за нее руками, и удар пришелся по пальцам. Это было очень больно. Когда он выскакивал за дверь, ему как будто попало еще и по спине. -- Ах ты, забывшее восемь правил яйцо! [По-китайски: "ван-ба-дянь", что означает, собственно, "черепашье яйцо" и служит ругательством, равноценным выражению "незаконнорожденный". Оставляя тот же смысл конфуцианцы подставляли под эти же слова другие иероглифы, так же произносимые, но значившие "забывшее восемь правил яйцо", т. е. человек без конфуцианской морали.] -- выругался вслед ему на классическом языке кандидат. А-Кей вбежал в амбар и остановился, все еще чувствуя боль в пальцах и вспоминая "забывшее восемь правил яйцо". Таким языком крестьяне из Вей-чжуана никогда не говорили, в ходу же он был только у важных лиц, знакомых с чиновниками. Поэтому А-Кей был совсем перепуган, -- впечатление он испытал необычайное. В этот момент все его мечты о женщине исчезли. После ругани и побоев, с этим вопросом было покончено. А-Кей почувствовал себя опять беззаботным и вернулся толочь рис. Поработав некоторое время, он вспотел, остановился и стал снимать рубашку. Снимая ее, он услышал снаружи сильный шум и, будучи всю жизнь любителем всяких скандалов, поспешил во внутренний двор дома Чжао. Хотя были сумерки, он различил там много народу: была там два дня не евшая хозяйка, была также соседка, тетушка Цу-Седьмая, и близкие родственники-- Чжао: Бай-янь и Чжао Сы-чень. Хозяйка как раз уговаривала У-Ma выйти из людской, повторяя: -- Ну, выйди! Нечего прятаться у себя в комнате... -- Кто ж не знает, что ты честная... А самоубийство уж никак не годится! -- говорила и тетушка Цу-Седьмая, со стороны. У-Ma только плакала и что-то бормотала, но было плохо слышно. "Гм, -- подумал А-Кей, -- интересно, чего это ради вдовушка подняла шум?" Он решил разузнать и направился к Чжао Сы-ченю. В этот момент он вдруг заметил сына почтенного Чжао, который бежал к нему, держа в руке длинную бамбуковую палку. Увидав ее, А-Кей моментально сообразил, что недавние побои со всем этим шумом имеют какую-то связь и, повернувшись, побежал, думая удрать в амбар, но бамбуковая палка преградила ему путь. Тогда он повернул в другую сторону, выбежал через задние ворота и спустя некоторое время очутился уже в храме. Посидев немного, он почувствовал холод, и по коже у него пробежали мурашки, так как, несмотря на начало весны, ночи были еще холодные и нельзя было ходить раздетым. Он вспомнил, что рубашка его осталась в доме Чжао, хотел было пойти и взять ее, но побоялся палки кандидата. Тут появился старшина. -- А-Кей, такой-сякой... Ты даже к прислуге у Чжао стал приставать? Это безобразие, это бунт! Ты и мне вредишь, спать не даешь по вечерам, такой-сякой... В таком же духе старшина продолжал свое наставление, на которое А-Кей, конечно, не возражал. В конце концов, в виду позднего времени, пришлось посулить старшине на вино вдвое больше обыкновенного, т. е. целых четыреста чохов; а так как у А-Кея денег не оказалось, то в залог попала его войлочная шапка. Кроме того, А-Кей должен был согласиться на следующие пять условий: во-первых, завтра же пойти в дом Чжао с извинениями, с парой красных свечей в один цзин весом каждая й с пачкой курений; во-вторых, семейство Чжао приглашает за счет А-Кея даоса для изгнания демона несчастия; в-третьих, отныне А-Кею запрещается приближаться к воротам дома Чжао; в четвертых, если впредь с У-Ma случится что-нибудь неожиданное, отвечать за это будет А-Кей, и в-пятых, А-Кею не разрешается требовать денег за работу или свою рубашку. А-Кей, конечно, согласился на эти условия. Жаль только, что не было денег. К счастью, наступила весна, и можно было обойтись без ватного одеяла, которое он продал за две тысячи чохов, чтобы выполнить свои обязательства. После всех этих расходов у него еще осталось несколько монеток, но выкупить войлочную шапку он и не подумал, а деньги пропил. Семейство же Чжао не сожгло ни свечей, ни курений, оставив их про запас, потому что их можно было употреблять, когда хозяйка ходила на богомолье. Что же касается рубашки А-Кея, то из большей половины были сделаны пеленки для ребенка, родившегося у молодой госпожи на восьмой месяц, а из меньшей, рваной половины сделали подошвы к туфлям У-Ма.V. ВОПРОС ПРОПИТАНИЯ
Окончив положенный обряд, А-Кей по-прежнему возвратился в храм. Солнце уже начало заходить, когда он ощутил, что в мире происходит что-то странное, и, подумав серьезнее, в конце концов, пришел к убеждению, что причина лежит в его голом теле. Вспомнив, что у него еще остался халат, он накинул его на себя и улегся, а когда открыл глаза, то оказалось, что солнце уже озаряет край западной стены. Поднявшись, он по-прежнему отправился шататься по улицам и, хотя уже не с такой силой, как физическую боль обнаженного тела, он все же постепенно опять стал ощущать, что в мире происходит что-то странное. Казалось, будто с этого дня все женщины в Вей-чжуане сделались боязливыми: завидев А-Кея, они сейчас же уходили и одна за другой прятались за ворота. Дошло до того, что даже тетушка Цу-Седьмая, которой было под пятьдесят, тоже вслед за другими спешила укрыться, да еще прихватив с собою свою одиннадцатилетнюю дочь. А-Кей чрезвычайно изумлялся и думал: "С чего это все эти твари вдруг научились манерам воспитанных девиц?.. Потаскухи этакие!" Но он еще более ощутил, что в мире все стало странным, после событий, случившихся несколько дней спустя. Во-первых, в харчевне перестали отпускать ему в кредит, во-вторых, старик, заведовавший храмом Земледелия, сделал несколько намеков, как будто предлагая ему уйти из храма, а в-третьих, -- хотя он и не помнил, сколько именно дней, но во всяком случае не мало! -- никто не звал его на работу. Что харчевня закрыла кредит -- это еще можно было терпеть; что старик торопил его уйти -- пускай себе говорит, но сидеть без работы и голодать? Нет, -- это в самом деле было бы возмутительно! А-Кей не вытерпел и решил отправиться на разведку к старым работодателям, так как он не смел показываться только в доме Чжао. Но странное дело! К нему выходили одни мужчины и с раздраженным видом, словно отказывая нищему, махали рукой: -- Нет! Нет! Уходи! А-Кей удивлялся все больше и больше. "Прежде все наперебой требовали помощи, а теперь вдруг ни у кого нет работы. Тут что-нибудь да не так", -- размышляя он. Расспросив хорошенько, он узнал, что на всякую работу приглашают теперь маленького Дена. Этот маленький Ден был сыном бедняка, худым и слабым, и в глазах А-Кея стоял даже ниже Вана Бородатого. Кто бы мог подумать, что этот негодник будет перебивать у него, А-Кея, кусок хлеба? А-Кей обозлился на этот раз куда сильнее обычного; в ярости шагая по дороге, он вдруг взмахнул рукой и запел: "В руке держу стальную плеть, сразить тебя хочу..." Через несколько дней он, наконец, встретил маленького Дена у "стены от злых духов". [Специальная стена перед входом в ворота дома, воздвигаемая суеверным китайским населением в защиту от проникновения злых духов, которые, по поверию, умеют летать только по прямой линии и не в состоянии, обогнув эту стену, залетать в ворота сбоку.] сверкают их глаза". И вот А-Кей устремился вперед, а маленький Ден остановился. -- Скотина! -- буркнул А-Кей, окинув его гневным взглядом и сплюнув из угла рта. -- Я же мошка... Верно? -- ответил маленький Ден. Это смирение, наоборот, распалило гнев А-Кея, но так как в руке у него не оказалось стальной плети, то он просто ринулся вперед и схватил Дена за косу. Маленький Ден, одной рукой защищая основание собственной косы, другой, в свою очередь, ухватил косу А-Кея, и последнему пришлось свободной рукой защищать ее основание. Прежде, с точки зрения А-Кея, маленький Ден не годился бы ему в противники, но теперь, когда из-за голодовки он сам исхудал и ослаб, ему было не справиться с ним, и оказалось, что Ден превратился в соперника, равного ему по силе. Четырьмя руками ухватив две косы, они стояли так с полчаса, согнувшись и отражая на белой глинобитной стене дома Цянь синюю радугу. -- Так, так! -- говорили жители, словно уговаривая их разойтись. -- Здорово! Здорово! -- говорили другие, не то уговаривая их, не то порицая, не то подзадоривая. Но противники не слушали. То А-Кей наступал шага три, а маленький Ден отступал и потом оба останавливались, то наоборот -- наступал Ден и отступал А-Кей, и опять оба застывали на месте. От волос их подымался пар, по лбам катился пот... Руки А-Кея разжались, и в ту же секунду разжались руки маленького Дена. Они одновременно выпрямились, -- одновременно отступили и выбрались из толпы зрителей. -- Запомнишь, такой-сякой... -- повернув голову, сказал А-Кей. -- Такой-сякой..., запомнишь! -- тоже повернув голову, сказал маленький Ден. В этой "битве тигра с драконом" как будто не было ни победы, ни поражения; неизвестно также, остались ли довольны зрители (они не высказали своего мнения на этот счет!) но, во всяком случае, по-прежнему никто не звал А-Кея на работу. Однажды, в теплый тихий день, когда в веянии легкого ветерка сказывалось уже лето, А-Кей почувствовал озноб... Это еще можно было терпеть, но вот -- в животе был голод. Ватного одеяла, войлочной шапки и кофты давно уже не стало. Во вторую очередь был продан ватный халат. Оставались только штаны, которые уж никак нельзя было снять, да рваная рубаха, которую можно было только кому-нибудь подарить на подошвы для туфель, но за которую ничего нельзя было получить. Он давно уже мечтал найти на дороге пригоршню денег, но до сих пор найти не мог. Он мечтал также внезапно обнаружить деньги в своей убогой комнате, озирался по сторонам, но в комнате было пусто... Тогда он решил выйти и поискать еды. Идя по дороге в поисках пищи, он видел знакомую харчевню, видел знакомые лепешки, но проходил мимо, и не только не останавливался, но даже и не помышлял о них. То, что он искал, было в другом роде, но что это были за вещи, он и сам еще не знал. Вей-чжуан было небольшим селом и вскоре кончилось... За ним начинались рисовые поля; глаз отдыхал на зелени свежих колосьев, среди которой виднелось несколько круглых двигающихся точек -- то были работавшие в поле крестьяне. Но А-Кей, не разделявший этих земледельческих радостей, продолжал свой путь, так как отчетливо сознавал, что все это не похоже на его способ добывания пищи. Наконец, он приблизился к ограде монастыря Спокойствия и Очищения. Вокруг были те же рисовые поля, и белая ограда четко выделялась среди свежей зелени. Сзади, за глинобитной стенкой, был огород. А-Кей, поколебавшись, оглянулся по сторонам -- никого не было! -- и стал карабкаться через стенку, хватаясь за какое-то ползучее растение; но глина осыпалась под ногами, и он соскальзывал вниз, пока, наконец, не ухватился за сук тутового дерева и не спрыгнул в огород. Там было зеленым-зелено, но не оказалось ни вина, ни лепешек, ни других съедобных вещей. К западной стене примыкала бамбуковая рощица, в которой было много побегов, но, увы, не вареных. Было гам много разных овощей -- горчица расцвела, капуста закруглилась... А-Кей в унынии, словно провалившийся на экзамене, медленно побрел обратно к воротам и вдруг радостно вскрикнул. Ну да, конечно: перед ним репа! Он уже нагнулся за ней, но в ворота внезапно просунулась круглая голова и тотчас же скрылась. Это была маленькая монашка. На монашек А-Кей смотрел, как на сорную траву. Но ведь в мире требуется осмотрительность, и поэтому он, как можно быстрее, вырвал четыре репы, открутил им листья и сунул за пазуху. В этот момент вышла старая монахиня. -- О, боги! А-Кей, ты зачем залез в огород воровать репу? Ай-я! Стыд! Ай-я! О, боги! -- Когда это я залез в твой сад воровать? -- пятясь к выходу, спросил А-Кей. -- А сейчас... разве нет? -- старуха показала на его рубаху. -- Это твои? Ты спроси их, ответят ли они тебе? Эх, ты... А-Кей, не кончив, побежал большими прыжками. На него набросился большой, жирный черный пес. Он, собственно, всегда находился на переднем дворе, но тут неизвестно каким образом очутился в огороде. Пес, лая, гнался за ним и уже готовился схватить его за ногу, но к счастью из-за пазухи выпала одна из реп. Собака в испуге приостановилась... А-Кей в это время успел взобраться на тутовое дерево, прыгнул на ограду, а затем и человек, и репы скатились вниз... Остался только черный пес, лаявший на дерево, да старая монахиня, бормотавшая А-Кей, боясь, как бы старуха опять не напустила на него собаку, собрал репы и двинулся в путь, подняв с земли несколько камней. Но собака не показывалась. Тогда А-Кей выбросил камни и пошел, поедаяна ходу репу и размышляя, что здесь ему нечего делать и что лучше перебраться в город. Когда была съедена третья репа, он окончательно остановился на этом решении.VI . ОТ ВЕЛИЧИЯ К ПАДЕНИЮ
Вейчжуанцы вновь увидели А-Кея лишь в конце средней осени того же года. Все были изумлены, когда узнали о его возвращении, и стали припоминать, когда же он ушел. Раньше, когда А-Кей бывал в городе, он заранее радостно и оживленно всем об этом сообщал, но на этот раз было не так, и поэтому никто в свое время не обратил внимания на его уход. Может быть, он и говорил об этом старику, заведовавшему храмом, но в деревне Вей-чжуан по старому обычаю, событием считались поездки в город только таких лиц, как почтенный Чжао, почтенный Цянь или господин кандидат. "Фальшивый заморский черт" уже не входил в их число, -- что же тогда говорить об А-Кее? Разумеется, старик не стал распространять эту новость. Это последнее возвращение А-Кея было совсем не похоже на предыдущие и поистине заслуживало внимания. Небо уже начинало темнеть, когда он с небрежным видом показался перед дверьми харчевни, подошел к прилавку и, вытащив из-за пояса пригоршню серебра и меди, бросил деньги на прилавок со словами: -- Вот деньги! Подай вина! Одет он был в новую кофту, и видно было, что на поясе у него висел большой кошель, тяжестью своей оттянувший пояс так, что получался очень глубокий изгиб. По обычаю Вей-чжуна, к необычайному гостю всегда относились скорее с почтением, чем с подозрением. Хотя теперь все знали, что это А-Кей, но так как он был не похож на А-Кея в рваной рубахе, а древние мудрецы говорили: "Когда ученый отлучится из родной деревни хотя бы на три дня, встречать его надо с особым почетом", то и слуги, и хозяин, и посетители, и прохожие выказывали ему все знаки почтения -- правда, смешанного с сомнением. Хозяин первый кивнул головой и вслед за этим заговорил: -- А, ты вернулся, А-Кей? -- Вернулся. -- Разбогател, разбогател! [Форма приветствия, равная по смыслу: Поздравляю с удачей"] Ты... -- Был в городе. Новость на другой же день обошла всю деревню, и все хотели узнать историю удачи А-Кея с его деньгами и с его новой кофтой. И вот в харчевне, в чайной и в храме стали собираться слухи. По словам А-Кея, он работал в доме господина ученого. Эта часть рассказа повергла услышавших в благоговение. Фамилия этого господина ученого была Бай; но так как во всем городе был только один ученый, то не к чему было прибавлять фамилию, ибо сказать "ученый" значило назвать именно его. И это было справедливо не только для Вей-чжуана, но и на сто ли в окружности. Многие даже считали, что "Господин Ученый" -- это и есть его фамилия и имя. Служить в семье такого человека! За это А-Кея действительно можно было уважать. Однако, по словам того же А-Кея, ему не захотелось служить дольше, потому что этот господин ученый был уж чересчур большим негодяем. При подобного рода заявлении слушатели и вздохнули, и обрадовались, потому что, с одной стороны, А-Кей, конечно, не годился для работы в доме почтенного господина ученого, с другой же -- об этом стоило пожалеть. А-Кей рассказал также, что вернулся он еще и по причине своего недовольства городскими жителями. Кроме старых их недостатков, вроде того, что "скамью" они называли "лавкой", а к жареной рыбе не прибавляли луковых перьев, он обнаружил также, что женщины не умеют достаточно грациозно ковылять на улице. [Речь идет о походке женщин на искалеченных ногах.] Однако, вместе с тем, у горожан есть много достоинств. Взять, например, хотя бы то, что вейчжуанцы умеют играть только тридцатью двумя бамбуковыми картами и лишь "фальшивый заморский черт" играет в "ма-цзян". А вот в городе так даже мальчишки -- специалисты по этому делу. Куда уж там "фальшивому черту"! Попадись он только в руки таких десятилетних мальчишек, как в одну секунду станет "ничтожным грешником перед лицом князя ада"! От этого рассказа все даже покраснели. -- А видели вы, как рубят головы? -- спросил А-Кей. -- Эх, красиво! Казнили революционеров... Замечательно! Он потряс головой и сплюнул прямо в лицо стоявшему перед ним Чжао Сы-ченю. Слушатели при этих словах задрожали. А-Кей оглянулся по сторонам и вдруг, взмахнув правой рукой, стукнул по затылку Вана Бородатого, слушавшего с вытянутой вперед шеей. -- Р-раз!.. Вот так! Ван Бородатый в испуге отскочил, втянув голову, а все были прямо потрясены. После этого у Бородатого Вана много дней болела голова, и он уже не смел больше приближаться к А-Кею. Другие -- тоже. В это время положение А-Кея в глазах вейчжуанцев не то чтобы превосходило положение почтенного Чжао, но сказать, что оно было одинаковым, не будет, пожалуй, преувеличением. В дальнейшем, великая слава А-Кея быстро проникла в женские покои [Женская половина -- гарем, где, помимо основной жены, у богатых китайцев живут наложницы.] Вей-чжуана. Хотя, собственно, в деревне Вей-чжуан только у двоих, у Чжао и Цяня, были большие покои, а у девяти десятых остальных жителей они были весьма скромные, все-таки женские покои остаются женскими покоями, и случай этот можно считать удивительным. Встречаясь, женщины рассказывали, что тетушка Цу-Седьмая купила у А-Кея синюю шелковую юбку, конечно, подержанную, но заплатила за нее всего лишь девяносто чохов. Кроме того, мать Чжао Байяня (по словам других -- мать Чжао Сы-ченя, но это нуждается в проверке!) купила детскую рубашку из красного заморского шелка, на семь десятых новую, всего за триста чохов. Поэтому все они мечтали увидеться с А-Кеем, и те, которым недоставало шелковой юбки, рассчитывали купить у него эту вещь, а те, которые хотели кофточку из заморского шелка, мечтали купить такую кофточку. Теперь они не только не убегали, завидев его, но бывало даже, что А-Кей пройдет мимо, а они бегут вслед и спрашивают: -- А-Кей, есть у тебя еще шелковые юбки? Нет? А шелковые кофточки есть? Из скромных покоев новость перекинулась и в богатые, потому что тетушка Цу-Седьмая, оставшаяся довольной своей покупкой, попросила жену почтенного Чжао оценить шелковую юбку, а та сообщила об этом своему супругу и очень ее расхвалила. Почтенный Чжао за ужином, в беседе с кандидатом, решил, что с А-Кеем дело неладно и что следует обратить внимание на собственные двери и окна. Что же касается его товаров, то, пожалуй, кое-что можно будет купить, если у него товар хороший. Кроме того, жена почтенного Чжао пожелала приобрести дешевую, но хорошую душегрейку. Тогда на семейном совете решили поручить тетушке Цу-Седьмой немедленно разыскать А-Кея, и по такому случаю в третий раз нарушили традицию, разрешив себе в этот вечер зажечь лампу. Масла выгорело уже не мало, но А-Кей не являлся. Все члены семейства Чжао были в нетерпении, зевали, ругали А-Кея за его ветреность и бранили тетушку Цу за обман. Жена почтенного Чжао опасалась, что А-Кей не посмеет прийти из-за весенней истории, но ее супруг не видел для этого оснований, потому что он ведь сам позвал его. Действительно, почтенный Чжао, в конце концов, оказался прав, и А-Кей явился в сопровождении тетушки Цу-Седьмой. Он все говорил, что нет да нет, а я сказала: "Ты должен сам пойти и сказать", а он еще хотел сказать, а я сказала... -- затараторила тетушка Цу, едва, появившись в дверях. -- Господин! -- произнес А-Кей, не то улыбаясь, не то нет и остановившись у входа. -- А-Кей, слыхать, ты где-то разбогател, -- сказал почтенный Чжао, подходя к нему и меряя его взглядом. --Ну что ж, это хорошо... Это очень хорошо... Да... Слыхать, у тебя есть кое-что из старых вещей... Можешь все принести показать... Не по чему другому, а просто я хотел бы... -- Я уже говорил тетушке Цу. Все кончилось... -- Кончилось? -- проговорил почтенный Чжао с невольным разочарованием. -- Откуда оно могло так скоро кончиться? -- Да все это было моего приятеля. Немного было... раскупили... -- А, может, кое-что осталось? -- Сейчас есть только дверная занавеска. -- Неси дверную занавеску... Посмотрим... -- огорченно сказала жена почтенного Чжао. -- Ладно, принесешь завтра, -- не очень настойчиво заметил почтенный Чжао. -- А-Кей, когда у тебя будут вещи, сначала приноси их к нам. -- Цену мы дадим не меньше, чем другие, -- прибавил кандидат. Жена кандидата бросила взгляд на А-Кея, чтобы увидеть, подействовало ли на него это заявление или нет. -- Мне нужна меховая душегрейка, -- сказала жена почтенного Чжао. А-Кей, хотя и обещал, но вышел так лениво и равнодушно, что нельзя было решить, серьезно ли он говорил или нет. При виде этого, жена почтенного Чжао потеряла всякую надежду и так огорчилась и рассердилась, что даже перестала зевать. Кандидат, тоже раздосадованный поведением А-Кея, заявил, что следует остерегаться этого "забывшего восемь правил яйца", а еще лучше попросить старшину запретить ему жить в Вей-чжуане. Однако, почтенный Чжао был другого мнения и сказал, что такая мера, пожалуй, вызовет нарекания, а, кроме того, о людях подобной профессии известно, что они -- как "старый орел, который не ищет пищи подле своего гнезда", и что деревне нечего опасаться, -- надо только самим иногда просыпаться по ночам. Выслушав это "домашнее поучение", кандидат вполне с ним согласился и, моментально оставив свой план преследования А-Кея, попросил тетушку Цу ни в коем случае не передавать этого разговора посторонним. Но на следующий же день тетушка Цу-Седьмая перекрасила свою синюю юбку и передала о подозрениях относительно А-Кея, правда, не упомянув о том, что кандидат хотел его изгнать. Но и это уже было несчастьем для А-Кея. Первым к нему явился старшина и забрал дверную занавеску, и хотя А-Кей заявил, что ее хотела посмотреть жена почтенного Чжао, старшина все-таки не возвратил ее, потребовав ежемесячный взнос еще в знак уважения к его собственной персоне. Затем последовала внезапная перемена в почтительном отношении к нему жителей: хотя они и не решались выказывать ему явное пренебрежение, но все же старались держаться от него подальше. Были однако и такие в Вей-чжуане, которые хотели разузнать об А-Кее все подробно, а так как сам он не умел держать язык за зубами, а любил похвастаться, то скоро узнали, что он -- мелкий вор, не осмеливавшийся сам лазить через стены или залезать в пролом, а лишь стоявший на стреме и принимавший вещи. Однажды ночью он только что принял мешок, а его товарищ полез за вторым, как вдруг он услыхал шум и поспешил удрать. В ту же ночь он выбрался из города и вернулся в Вей-чжуа:н. История эта еще больше повредила А-Кею. Ведь отношение жителей к А-Кею, построенное на принципе "уважай, но держись подальше", основывалось на страхе перед возможностью вражды с его стороны. Но кто бы мог подумать, что он всего-навсего воришка, не отважившийся украсть вторично! Поистине, как говорится в древних книгах, "оного для страха недостаточно"!VII . РЕВОЛЮЦИЯ
В четвертый день девятого месяца, в третий год правления Сюань-туна, [Сюань-тун -- название годов правления последнего императора Пу-И, в 1911 году.] -- в тот самый день, когда А-Кей продал свой кошель Чжао Бай-яню, -- лодка под черным навесом причалила в третью стражу к пристани у дома Чжао. Эта лодка появилась из черного мрака, когда в деревне все крепко спали, и никто не знал об этом. Ушла же она перед рассветом, и тут кое-кто ее заметил. В результате долгих разведок оказалось, что это -- лодка господина ученого. Она причинила много беспокойств деревне, и уже к полудню сердца всех оказались встревоженными. Цель прихода лодки тщательно скрывалась семьей Чжао, но:в чайной и в харчевне заговорили о том, что революционеры уже подступают к городу и будто господин ученый приехал спасаться в нашу деревню. Одна только тетушка Цу так не думала, а говорила, что дело всего лишь в нескольких старых сундуках с платьем, которые господин ученый решил послать на хранение и которые уже отосланы обратно почтенным Чжао. Действительно/ господин ученый и господин кандидат раньше не были между собою в ладах и по существу не могли питать друг к другу сочувствие в беде. Притом ведь тетушка Цу была соседкой Чжао и видела и слышала больше других, -- так что, вероятно, она была права. Однако, слухи все ширились. Поговаривали, будто господин ученый, хотя лично сам и не приехал, но прислал длинное письмо с целью завязать дружеские отношения, и что почтенный Чжао, хорошенько поразмыслив и решив, что ничего плохого из этого не выйдет, оставил у себя корзины и поместил их под кроватью своей супруги. Что же касается революционеров, то утверждали, что они уже этой ночью сошли в город и что на каждом был белый панцирь и белый шлем в знак траура по императору Чун-чжену. [Последний император династии; Мингов, свергнутый в 1644 году.] В ушах А-Кея давно уже звучала эта фраза о прибытии революционеров, тем более, что еще в прошлом году он собственными глазами видел их казнь. Неизвестно почему, он считал, что революционеры -- это то же самое, что мятежники, а мятежники были ему не по нутру. Вот почему он чувствовал к ним глубокое отвращение. Но он никак не ожидал, что известный кандидат так испугается их, а паника, охватившая всех жителей Вей-чжуана, доставила ему даже удовольствие. "Сделать революцию, все перевернуть это хорошо! -- думал он. -- Перевернуть бы всех этих проклятых.., ненавистных... Я присоединяюсь к революционерам!" Положение А-Кея за последние дни пошатнулось, и в общем он был недоволен. А тут еще две чашки вина, выпитые на пустой желудок в полдень... И вот, размышляя над этим, он пришел в странное возбуждение. Неизвестно, как это случилось, но сам он словно превратился в революционера, а деревня Вей-чжуан в его пленника. И, довольный сверх меры, он не удержался от громкого крика: -- Мятеж! Мятеж! Жители испуганными глазами смотрели на него. Такого жалкого взгляда А-Кей никогда еще не видел. В каком-то исступлении он шел и кричал: -- Ладно... Что хочу, то и будет! Кого полюблю, так и будет! -- Потом запел: Трра-та-та! В руке держу стальную плеть: хочу тебя сразить!.. Оба мужчины из семейства Чжао, с двумя своими родственниками, тоже стояли в воротах, рассуждая о революции. А-Кей, не заметив их, прошел, распевая во все горло: -- Тра-та-та... -- Почтенный А-Кей! -- тихо и нервно окликнул его господин Чжао. -- Тра-та... -- Почтенный А-Кей! -- Тра-там-там... А-Кей не ожидал, что его имя может быть соединено со словом "почтенный", и решил, что эти слова относились не к нему. -- Там... трам... тара-рам, там!... -- распевал он. -- О, почтенный! Мне жаль... -- А-Кей, -- обратился к нему кандидат прямо по имени. А-Кей тотчас же остановился и, наклонив голову, спросил: -- Что? -- Почтенный Кей, теперь... -- у господина Чжао не хватало слов, -- теперь как? Все хорошо? -- Хорошо? Конечно. Что хочу, то и будет... -- А... братец Кей... таким, как мы, бедным друзьям, ведь не важно, если... -- сказал Чжао-Байянь, словно стараясь разведать о планах революционной партии. -- Бедные друзья? Ты, пожалуй, побогаче меня, -- ответил А-Кей, уходя. Все в замешательстве не находили слов. Почтенный Чжао-отец и его сын, ушли в дом и совещались весь вечер. Чжао Бай-янь, вернувшись домой, вынул из-за пазухи кошель и велел жене спрятать его в сундук. А-Кей, пролетав на крыльях возбуждения, в конце концов вернулся в свой храм, уже отрезвившись. В этот вечер старик, заведовавший храмом, был необычайно приветлив и пригласил его выпить чаю. Тогда А-Кей попросил у него две лепешки и, съев их, потребовал обгоревшую свечу в четыре ляна весом и в подсвечнике, зажег ее и улегся в своей каморке. Новизна положения внушала ему невыразимую радость. Огонь свечи, словно в новогоднюю ночь, прыгал мерцая, и его мысли так же скакали... Мятеж? Интересно... Придут революционеры в белых шлемах и панцирях, у всех в руках ножи, плети, бомбы, заморские пушки, трехконечные, двухлезвийные мечи и пики с крючком. Они пройдут мимо храма и позовут: "А-Кей, идем вместе!.. Идем вместе!" И он пойдет вместе с ними. Тогда-то он посмеется над всеми мужчинами и женщинами Вейчжуана... Стоя на коленях, они будут кричать "А-Кей, пощади!" Но кто их станет слушать? Первым заслуживает смерти маленький Ден вместе с почтенным Чжао, затем кандидат, а еще "фальшивый заморский черт"... Может быть, оставить кого-нибудь? Пожалуй, Бородатого Вана можно не трогать. А впрочем, и его нечего жалеть! Вещи?.. Прямо пойти и открыть сундуки!.. Драгоценности, деньги, заморские ткани... Сначала перетащить в храм кровать Нинпосского образца от жены кандидата, потом столы и стулья от семейства Цянь... А можно и от того же Чжао!.. Самому не двинуть пальцем, а крикнуть Дену, чтобы перетаскивал проворнее и, если не станет работать как следует, дать ему пощечину... Сестра Чжао Сы-ченя безобразна... Дочка тетушки Цу-Седьмой, когда подрастет... Тогда и поговорим! Жена "фальшивого заморского черта" может спать с бескосым мужчиной" .. Тьфу, дрянь! Жена кандидата -- с бельмом... У-Ma давно не показывалась, неизвестно, где она... Жаль, что ноги слишком большие. Не успев все как следует обдумать, А-Кей захрапел. Свеча в четыре ляна обгорела лишь на полвершка, и красный, мигающий свет озарял открытый рот А-Кея. -- Хо-хо! -- внезапно вскрикнул А-Кей, поднял голову, озираясь с недоумением по сторонам, но, заметив свечу, снова уронил голову и заснул. На другой день он встал очень поздно и, выйдя на улицу, увидел, что все кругом по-старому, и по-прежнему голодно в желудке... Он думал, но ничего не мог придумать. Наконец, как будто что-то решив, он медленно зашагал, и не то с умыслом, не то без умысла добрался до монастыря Спокойствия и Очищения. Монастырь, со своими белыми ставнями и черными лакированными воротами, покоился в тишине, как и весенний день. Поразмыслив, А-Кей подошел и стукнул в ворота. Изнутри отозвалась собака. Он торопливо подобрал несколько обломков кирпича и снова начал стучать ими, все с большей силой, пока на черной двери не появилось множество меток. Только тогда кто-то подошел открыть. А-Кей поспешно схватил целый кирпич и, расставив ноги, приготовился к сражению с собакой. Однако, ворота монастыря приоткрыли лишь щель, никакого черного пса оттуда не выскочило, и он увидел только старую монахиню. -- Ты зачем опять пришел? -- спросила она испуганно. -- Революция... переворот... ты знаешь? -- невнятно пробормотал А-Кей. Переворот, переворот! Тут вот наперевертывали... Вам переворот, а нам как быть? -- спросила старая монахиня с покрасневшими глазами. -- Что? -- поразился А-Кей. Ты разве не знаешь, что уже приходили и перевернули? -- Кто? -- еще более поразился А-Кей. -- Да кандидат с "фальшивым чертом"! Это было совсем неожиданно, и А-Кей совершенно опешил. Старая монахиня, увидав, что он утратил боевой дух, быстро захлопнула ворота. А-Кей толкнул их, но не мог открыть, и стал опять стучать. Никто не отзывался. Все это случилось до полудня. Кандидат Чжао, который был искусен в добывании всяких новостей, как только узнал, что революционеры еще ночью вошли в город, сейчас же закрутил косу на затылке и спозаранку отправился с визитом к Цяню, "фальшивому черту", которого он до сих пор не признавал. Но так как настало время всяких обновлений, то они моментально договорились, стали закадычными друзьями и, решив действовать, примкнули к революции. Долго думали они и, наконец, придумали. В храме Спокойствия и Очищения хранилась императорская таблица с надписью: "Десять тысяч лет императору!" Ее нужно было немедленно снять... И вот, они оба моментально отправились в монастырь производить переворот. Так как старая монахиня вздумала сопротивляться и возражать, они немедленно "превратили ее в манчжурское правительство" и порядком поколотили палкой и молотком по голове. Когда же они ушли и она несколько опомнилась, то оказалось, что императорская таблица лежала на полу, а кроме того, исчезла бронзовая курильница времен Сюань-дэ, стоявшая перед алтарем богини Гуань-инь. [Сюан-дэ -- название годов правления при национальной династии Мингов, 1426-35 гг. Гуань-инь -- буддийская богиня милосердия.] Обо всем этом А-Кей узнал впоследствии. Он очень подосадовал, что проспал, и в то же время сильно удивился, что они не позвали его. Отступив на шаг, он подумал: "Неужели они еще не знают, что я уже перешел на сторону революционеров?"V III. НЕ ПОЗВОЛИЛИ СТАТЬ РЕВОЛЮЦИОНЕРОМ
Сердца жителей Вей-чжуана с каждым днем успокаивались. Из полученных сведений, они знали, что хотя революционеры и вошли в город, но никаких особых изменений не произошло. Уездным начальником остался все тот же чиновник, изменив только свой титул. Господин ученый тоже получил какое-то назначение, -- никаких этих названий жители Вей-чжуана не понимали! -- а солдатами командовал прежний начальник. И была только одна неприятность. Дело в том, что несколько плохих революционеров начали безобразничать и на другой же день насильно резать косы. По слухам, лодочник Ци-цзин из соседней деревни попался им в руки и лишился человеческого образа. В общем, это была не такая уж большая опасность, потому что жители Вей-чжуана редко ездили в город, а если и собирались ехать, то моментально изменили решение, дабы не рисковать понапрасну. Нельзя сказать, что Вей-чжуан не изменился. Несколько дней спустя, число закрутивших волосы на макушке постепенно возросло, причем поговаривали, что самым первым оказался блестящий кандидат, следующими были Чжао Сы-чень, Чжао Байянь, а затем А-Кей. В летнее время, когда все закручивали на затылках свои косы или связывали их узлом, это не Считалось зазорным. Но ведь теперь был конец осени. Вот почему подобное несвоевременное выполнение летнего правила нельзя не оценить как великий подвиг, и нельзя скрыть, чтобы для Вей-чжуана это не было связано с революцией. И когда Чжао Сычень шествовал в таком виде, зрители громко говорили: -- Хей! Революционер идет!.. А-Кей, услышав это, почувствовал зависть. Хотя он давно уже знал новость о закрученной косе кандидата, но даже и не предполагал, что он тоже может последовать его примеру. Теперь же, увидав Чжао Сы-ченя в таком виде, он немедленно решил во всем подражать ему. С помощью бамбуковой палочки для еды, он закрутил свою косу на макушке и, поколебавшись, собрался с духом и вышел из дому. Пока он шел по улице, люди смотрели на него, но ничего не говорили. Кей сначала был очень недоволен, а потом рассердился. За последнее время он легко расстраивался, хотя в действительности жизнь его была не так тяжела, как до переворота. Люди, при виде его, проявляли вежливость, в лавках не требовали наличного расчета, но А-Кей в общем чувствовал себя разочарованным. Раз произошла революция, все должно было быть как-то иначе... Кроме того, однажды он увидел маленько Дена, и это еще больше вызвало в нем негодование. Маленький Ден тоже закрутил свою косу на затылке и тоже с помощью бамбуковой палочки для еды. А-Кей никак не предполагал, что тот осмелится сделать это, и решил ни за что не допускать этого. Маленький Ден? Что за птица такая? А-Кей сильно подумывал немедленно схватить его, сломать его бамбуковую палочку, распустить косу и надавать пощечин в наказание за то, что он забыл о ничтожестве своего рождения и посмел сделаться революционером. Но, в конце концов, он так и не тронул его, а только смерил гневным взглядом, плюнул и произнес: - Тьфу! За эти несколько дней в город ездил один только "фальшивый заморский черт". Кандидат Чжао тоже хотел было, помня об оставленных на хранение сундуках, лично поехать с визитом к господину ученому, но из опасения потерять косу не решился. Он написал официальное письмо ученому и поручил "фальшивому черту" отвезти его в город, а кроме того просил похлопотать и поручиться за него, чтобы записаться в революционеры. Когда "фальшивый черт" вернулся, он взял с кандидата четыре да-яна, а кандидат получил взамен серебряный значок в виде персика и нацепил его на верхнее платье. Все вейчжуанцы прониклись трепетом и говорили, что это не иначе, как знак ученой степени, не ниже, пожалуй, чем академика. Поэтому почтенный Чжао удостоился уважения гораздо большего, чем в то время, когда его сын получил степень кандидата. В его собственных глазах все окружающие превратились в ничто, а когда он встречал А-Кея, то последний даже не входил в поле его зрения. А-Кей остался очень недоволен и все время ощущал одиночество. Когда же он услыхал историю с "серебряным персиком", он моментально понял причину своего одиночества. Ведь, чтобы быть революционером, недостаточно только заявить о своем присоединении, и закрутить косу тоже недостаточно. Самым важным является знакомство с революционерами. За всю свою жизнь он встречался только с двумя: с тем, которому в городе -- р-раз! -- срубили голову, да вот теперь еще один. Это -- "фальшивый заморский черт". У него не оставалось другого пути, как немедленно пойти и посоветоваться с "фальшивым портом". Ворота в доме Цянь были раскрыты, и А-Кей осторожно вошел в них. Едва он попал во внутрь, как тут же испугался, увидев "фальшивого черта", который стоял посреди двора, весь в черном, вероятно, заморском платье. На нем был прицеплен серебряный персик, а в руке была палка, которую А-Кей когда-то испробовал. Успевшая отрасти коса была распущена по спине и плечам, и со своей растрепанной, лохматой головой он походил на святого Лю-Хая. [Лю-хай -- народное божество из свиты бога Богатства.] Против него стоял Чжао-Бай-янь с тремя посторонними, почтительно и со вниманием слушая его. А-Кей потихоньку приблизился и остановился за спиной Чжао Бай-яня, думая окликнуть хозяина, но не знал, как лучше сказать. Назвать его "фальшивым чертом", конечно, не годится, "иностранец" -- тоже не подходит, "революционер" тоже. А может быть, следует назвать его "господин иностранец?" Между тем "господин иностранец" не замечал его вовсе и, закатив глаза, с вдохновением продолжал говорить: -- ... Я -- человек нетерпеливый. Поэтому, когда мы встретились, я прямо сказал: "Брат Хун! Мы должны начать!" Но он все время отвечал: "No!" (это -- иностранное слово, вам не понять!), и если бы не оно, мы давно бы победили... А кроме того, он был слишком осторожен в работе. . Он раза три-четыре просил меня поехать в Ху-Бей, [Провинция центрального Китая, в которой началась революция 1911 года.] но я не желал. Кому хочется работать в маленьком уездном городишке? -- Гм! Это... -- с решимостью начал было А-Кей, выждав, когда тот остановился. Четверо слушавших испуганно повернулись к нему. "Господин иностранец" тут только заметил его. -- Чего тебе? -- Я... -- Пошел вон! -- Я хочу сделаться... -- Убирайся!.. -- И "господин иностранец" замахнулся на него своим похоронным посохом. Чжао Бай-янь и другие закричали: -- Господин приказывает тебе убираться, а ты не слушаешься! А-Кей, прикрыв голову руками, со всех ног бросился за ворота. "Господин иностранец" не преследовал его Только пробежав шагов шестьдесят, он, наконец, пошел медленнее. В сердце поднялась тоска. "Господин иностранец" не позволил ему стать революционером, другого же пути не было. Не придется отныне надеяться на то, что люди в белых шлемах и панцырях позовут его, и все горделивые чаяния, стремления, надежды, планы будущего -- все в один момент исчезло. То, что бездельники разнесут это известие и дадут возможность таким людям, как маленький Ден или Ван Бородатый, насмехаться над ним, было, в конце концов, делом второстепенным. Казалось, он никогда еще не испытывал такой безнадежности. К собственной, закрученной на затылке, косе он словно потерял интерес, почувствовал даже презрение и из желания мести решил немедленно ее распустить; но все же этого не сделал. Пробродив до ночи, он выпил в долг две чашки вина постепенно пришел в хорошее настроение и в мыслях у него снова появились смутные образы белых лат и шлемов. Однажды, по обыкновению проболтав до ночи, пока не стала закрываться харчевня, он побрел домой в храм Земледелия. Трах-тарарах!-- услыхал он вдруг странные звуки, непохожие на треск хлопушек. А-Кей, который был любителем шума и происшествий, тотчас устремился в темноту. Впереди как будто послышались звуки шагов, и, наконец, он ясно услыхал, как кто-то бежал мимо него. Как только А-кей его заметил, тот моментально повернулся и бросился вдогонку. Человек тот завернул в сторону, А-Кей -- тоже. Человек остановился, А-Кей -- тоже. Когда же человек оглянулся, то оказалось, что это не кто другой, как маленький Ден. -- В чем дело? -- с тревогой спросил А-Кей. -- Чжао... Дом Чжао грабят!.. -- задыхаясь ответил Ден. Сердце А-Кея сильно забилось. Сказав это, маленький Ден удалился. Несколько раз А-Кей порывался бежать, но тут же останавливался. Однако, как человек необычайной смелости, он добрался до угла улицы и, внимательно прислушавшись, уловил какой-то шум, а столь же внимательно приглядевшись, заметил толпу людей, уносивших сундуки, утварь и кровать Нинпосского образца, -- и все это были люди в белых шлемах и латах. Впрочем, все в точности рассмотреть он не мог. Он подумал было подойти поближе, но ноги не повиновались... В эту ночь не было луны, и в деревне Вей-Чжуан во мраке было так тихо, что эта тишина напоминала великий покой стародавних времен при мудреце Фу-си. [Легендарный император древности, при котором царил покой в государстве.] А-Кей стоял, пока хватило сил, а там, впереди, все входили и выходили люди, таскали сундуки, утварь, рухлядь.... Он с трудом верил собственным глазам. Однако, решил не вмешиваться в дело и, наконец, вернулся в храм Земледелия. В храме была совершенная темнота, как тушь... А-Кей тщательно запер ворота и ощупью пробрался в свою каморку. Немного полежав, он успокоился, и тогда появились мысли о самом себе. Итак, люди в белых шлемах и латах пришли, но не позвали его с собою, повытаскали много хороших вещей, но его доли в этом не было... -- Это все проклятый "фальшивый черт" не позволил мне стать революционером, а то бы на этот раз так не случилось, что нет моей доли в этом деле, -- воскликнул А-Кей. Чем больше А-Кей думал, тем больше сердился, и под конец вся душа его переполнилась горечью. Со злости мотнув головой, он сказал: -- Вот как! Мне вы не позволили быть революционером, а вам можно? Ладно, "фальшивый черт"! Ты -- революционер, а им за это рубят головы... Вот Я и донесу... Посмотрим тогда, как тебя заберут да отрубят тебе голову... Всем твоим отрубят... Р-раз!.. р-раз!..I Х . ВЕЛИКОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ
После нападения на дом Чжао все жители Вей-чжуана почувствовали одновременно и удовлетворение и страх. А-Кей -- тоже. А через четыре дня, в полночь, он был внезапно схвачен и отправлен в город. В ту темную ночь отряд солдат, милиция и пять сыщиков незаметно подошли к Вей-чжуану и, пользуясь темнотой, окружили храм, прямо против ворот выставив пулемет. А-Кей не показывался. Довольно долгое время незаметно было никакого движения... Тогда начальник отряда, потеряв терпение, назначил награду в двадцать да-янов, и только тогда двое милиционеров, пренебрегая опасностью, перелезли через стену. Соединенными усилиями изнутри и снаружи отряд всей массой проник в храм и арестовал А-Кея, который окончательно проснулся только тогда, когда его уже вытащили из храма. В город привезли А-Кея в полдень. В полуразрушенном "ямыне", солдаты, покружив по тесным проходам, втолкнули его в какую-то каморку. Едва успел он в нее пролезть, как деревянная дверь захлопнулась за ним, прищемив ему пятку. С трех других сторон были сплошные стены, а когда он осмотрелся внимательней, оказалось, что в углу находятся еще два человека. Хотя сердце у А-Кея и билось тревожно, он не унывал, потому что его каморка там, в храме Земледелия, не была так просторна и светла, как эта. Двое других людей были похожи на крестьян, и понемногу он разговорился с ними. Один из них заявил, что господин ученый ищет с него оброк, который задолжал его дедушка, другой же не знал, почему он сюда попал. Когда они, в свою очередь, спросили А-Кея, он немедленно заявил: -- Потому что я захотел быть революционером! В тот же день, попозже, его отвели в большой зал, в конце которого восседал старик с начисто выбритой блестящей головой. А-Кей подумал было, что это монах, но тут же заметил стоявший перед ним ряд солдат. По сторонам находилось человек десять людей в длинных халатах, частью с бритыми головами, как и старик, частью же с длинными волосами, распущенными сзади, как у "фальшивого заморского черта". Все они, со злыми лицами, строго смотрели на него. Он сейчас же сообразил, что сидевший перед ним человек -- птица важная. Ноги у него сами собой подогнулись, и он опустился на колени. -- Говори стоя! Не надо становиться на колени! -- закричали на него люди в длинных халатах. А-Кей как будто понял, но чувствовал, что стоять не может. Тело клонилось непроизвольно, и, в конце концов, он опустился снова. -- Рабская душа! -- с презрением сказали люди в халатах, но больше не заставляли его встать. -- Говори всю правду, как было! Этим ты облегчишь свою участь. Я все уже знаю. Признаешься -- отпустим тебя! -- тихо и отчетливо произнес старик с блестящей головой, уставившись в лицо А-Кея. -- Сознавайся! -- громко, в один голос, крикнули люди в халатах. -- Я, собственно, хотел... пойти присоединиться... -- запинаясь, ответил сбитый с толку А-Кей. -- Ну, так почему же ты не присоединился? -- ласково спросил старик. -- "Фальшивый черт" не позволил... -- Врешь! Теперь поздно выкручиваться... Где твои сообщники? -- Чего? -- Те, которые в тот вечер ограбили дом Чжао? -- Они не пришли за мной. Они сами все унесли, -- заявил сердито А-Кей. -- А куда они ушли? Скажи, и мы тебя отпустим, -- сказал старик еще ласковее. -- Не знаю... Они не пришли за мной... Тут старик дал сигнал глазами, и А-Кей снова очутился в своей каморке. Когда его во второй раз оттуда вывели, был полдень другого дня. Большой зал был в том же виде, что и накануне. Сидел на возвышении все тот же старик с блестящей головой. А-Кей по-прежнему стал на колени. -- Можешь ты еще сказать что-нибудь? -- ласково спросил старик. А-Кей подумал, но говорить было нечего, и он ответил: -- Нет. Тут человек в длинном халате принес бумагу и хотел всунуть ему в руку кисть. А-Кей так перепугался, что у него "душа вылетела вон": ведь это случилось впервые, что его рука и кисть пришли в соприкосновение. Он просто не знал, как ее держать. Тогда человек показал ему место и приказал нарисовать круг. [Неграмотные ставят в Китае круг, так же как у нас крест.] -- Я... я... не умею писать, -- сказал испуганный и сконфуженный А-Кей, сжимая кисть. -- И не надо... Рисуй круг, и ладно! А-Кей постарался это сделать, но рука его с кистью задрожала, и тогда человек разложил бумагу на земле, А-Кей пригнулся и напряг все свои силы, чтобы изобразить круг, как следует. Боясь, что его засмеют, он старался нарисовать его круглым, но эта проклятая кисть оказалась не только тяжелой, но и непослушной. Напрягаясь и дрожа, он почти уже заканчивал круг, но тут кисть ткнулась в сторону, и круг вышел вроде дыни... А-Кей почувствовал стыд за свое неуменье, но человек, не обращая внимания, сразу же забрал бумагу и кисть, а потом его опять втолкнули в каморку. В третий раз попав за перегородку, он не очень обеспокоился. Он считал естественным, что человека, рожденного в этом мире, постоянно то куда-то вталкивают, то откуда-то выталкивают, то от него требуют рисовать на бумаге какие-то круги... Но вот что круг не вышел круглым -- это, пожалуй, ляжет пятном на всю его жизнь. Однако, скоро он успокоился, подумав: "Зато мои внуки будут рисовать совсем круглые..." С этим он заснул. Наоборот, в эту же ночь господин ученый никак не мог заснуть: он повздорил с начальником отряда. Господин ученый считал самым важным найти похищенное, а начальник отряда самым главным считал наказание, чтобы другим было неповадно, причем он совершенно ни во что не ставил господина ученого, стучал кулаком по столу и скамье и, наконец, заявил: -- Расправиться с одним, это значит -- устрашить сотню! Вот смотри, -- я только дней двадцать, как стал революционером, а уже случилось больше десяти ограблений, и ни одно из них не раскрыто!.. Где же репутация моя? ., Мы тут дело делаем, а ты приходишь и мешаешь. Отстань! Господин ученый попал в затруднительное положение, но все же держался твердо и заявил, что, если не будет найдено похищенное, он немедленно откажется от своей должности по гражданскому управлению, на что начальник отряда ответил: "Сделай одолжение!" Благодаря этому господин ученый и не мог заснуть в ту ночь. К счастью, на другой день он не отказался от своей должности. А-Кея в третий раз вытащили из его каморки, на следующее утро после бессонной ночи господина ученого. Опять он очутился в большом зале, на возвышении сидел все тот же старик с блестящей головой, и А-Кей опять опустился на колени. -- Есть у тебя еще что-нибудь сказать? -- очень ласково спросил старик. А-Кей подумал, говорить было нечего, и он ответил: -- Нет. Какие-то люди, кто в длинном, кто в коротком платье, вдруг надели на него белый жилет из заграничной материи, с черными знаками на нем. А-Кей очень огорчился, потому что это сильно смахивало на траур, а траур -- дурная примета. Тут же ему скрутили руки на спине, сразу же вывели его из "ямыня", усадили на телегу без верха, и несколько человек в коротком платье уселись с ним вместе. Телега тотчас же тронулась. Впереди шел отряд солдат с заморскими ружьями на плечах и милиция, по обеим сторонам стояли зрители с раскрытыми ртами, а что было сзади, того А-Кей не видел. И вдруг он понял: уж не хотят ли отрубить ему голову? Мгновенно в глазах потемнело, зазвенело в ушах, и он как будто потерял сознание, но не совсем. А когда временами оно прояснялось, он думал, что для человека, рожденного в этом мире, бывают и такие минуты, когда ему не избежать казни... Хотя он узнавал дорогу, но в то же время ему казалось странным, почему они не направляются к месту казни. Он не знал, что его возят по улицам на показ, для устрашения других. Но если бы он и знал, все равно он подумал бы, что для человека, рожденного в этом мире, бывают моменты, когда не избежать и этого... Он уже знал теперь, что этот извилистый путь ведет на площадь, где происходят казни, и что это означает -- р-раз!.. -- и голова долой. Он безучастно взглянул направо, налево. Всюду, как муравьи, суетились люди, и неожиданно, в толпе их, на краю дороги, он заметил У-Ma. Давно они не встречались... Значит, она работала в городе? И вдруг А-Кею стало стыдно, что в нем нет доблести: ведь он не спел еще ни одной песни. [По традиции, идущие на казнь доказывают спою твердость пением героических песен.] Мысли, словно вихрь, закружились, в его мозгу. "Молодая вдова на могиле" -- не хватает величественности, "Мне жаль" -- из "Битвы тигра с драконом", тоже слабо, пожалуй) "В руке держу стальную плеть" годится... Он уже хотел взмахнуть рукой, но.вспомнил, что руки связаны, и не запел... -- Через двадцать лет придет другой, такой же, как я... В возбуждении выкрикнул А-Кей неоконченную фразу, которую он никогда еще не произносил и которая родилась сама собой, без чьей-либо помощи. -- Верно!!! -- донеслось из толпы, как волчий вой... Телега, не останавливаясь, подвигалась вперед, и под гром рукоплесканий А-Кей искал глазами У-Ма; но она его не замечала, с увлечением глазея на заморские ружья на плечах у солдат. Тогда А-Кей опять взглянул на рукоплещущих людей. И в то же мгновение мысли снова завертелись в его голове. Четыре года тому назад, у подножия гор, он встретил голодного волка, который все время, не отставая, следовал за ним, собираясь пожрать его. Тогда он был перепуган на-смерть, но, к счастью, в руке у него был нож, и это придало ему храбрости добраться до деревни. Но навсегда запомнились ему волчьи глаза, жестокие и злые, сверкавшие точно два дьявольских огонька и как бы впивавшиеся в его тело... И на этот раз он увидел никогда не виданные, страшные глаза, пронизывающие... сверлящие... Они не только пожирали его слова, они хотели пожрать и то, что лежало вне его тела, и все время неотступно следовали за ним. Эти глаза словно соединились в один и пожирали его душу. -- Спасите! Но А-Кей не крикнул этого слова. В глазах его потемнело, в ушах прозвенел удар, и он почувствовал, будто все его тело разлетелось мелкой пылью.., Что касается последствий этого события, то наибольшая неприятность выпала на долю господина ученого, так как похищенное осталось необнаруженным, и все семейство пребывало в горести и печали. Следующим было семейство Чжао, не только потому, что во время поездки кандидата в город, чтобы пожаловаться властям, безбожные революционеры срезали у него косу, но и потому, что пришлось уплатить им еще двадцать да-янов штрафу, так что весь дом тоже пребывал в горести и печали. Начиная с этого дня, потерпевшие стали постепенно проявлять влечение к консерватизму. Что же касается общественного мнения, то в Вей-чжуане не было двух мнений, и, конечно, все говорили, что А-Кей был плох, доказательством чему и служит его казнь. Не будь он плохим, разве его расстреляли бы? Общественное же мнение в городе тоже было не на стороне А-Кея. Большинство осталось недовольно, считая, что расстрел не так интересен, как обезглавливанье. И потом, что это за смешной преступник! Так долго ездил по улицам и не спел ни одной песни! Напрасно за ним ходили, время теряли...