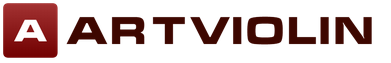Чарльз Диккенс
Скряга Скрудж
Святочная песня в прозе
(перевел Лев Мей)
Первая строфа. Призрак Мэрлея
Начнем сначала: Мэрлей умер. В этом не может быть и тени сомнения. Метрическая книга подписана приходским священником, причетником и гробовщиком. Расписался в ней и Скрудж, а имя Скруджа было громко на бирже, где бы и под чем бы ему ни благоугодно было подписаться.
Дело в том, что старик Мэрлей вбит был в могилу, как осиновый кол.
Позвольте! Не подумайте, чтобы я самолично убедился в мертвенности осинового кола: я думаю, напротив, что ничего нет мертвеннее в торговле гвоздя, вколоченного в крышку гроба…
Но… разум наших предков сложился на подобиях и пословицах, и не моей нечестивой руке подобает коснуться священного кивота веков - иначе погибнет моя отчизна…
Итак, вы позволите мне повторить с достодолжною выразительностию, что Мэрлей был вбит в могилу, как осиновый кол…
Спрашивается: знал ли Скрудж, что Мэрлей умер? Конечно знал, да и как же не знал-то бы? Он и Мэрлей олицетворяли собою торговую фирму.
Бог весть сколько уж лет Скрудж был душеприказчиком, единственным поверенным, единственными другом и единственным провожатым мерлевского гроба. По правде, смерть друга не настолько его огорчила, чтобы он, в самый день похорон, не оказался деловым человеком и бережливым распорядителем печальной процессии.
Вот это-то слово и наводит меня на первую мою мысль, а именно, что Мэрлей без сомнения умер, и что, следовательно, если бы не умер он, в моем рассказе не было бы ничего удивительного.
Если бы мы не были убеждены, что отец Гамлета умер до начала пьесы, никто из нас не обратил бы даже и внимания на то, что господин почтенных лет прогуливается некстати, в потемках и на свежем ветерке, по городскому валу, между могил, с единственной целию - окончательно расстроить поврежденные умственные способности своего возлюбленного сына. Что касается собственно Скруджа, ему и в голову не приходило вычеркнуть из счетных книг имя своего товарища по торговле: много лет после смерти Мэрлея, над входом в их общий магазин красовалась еще вывеска с надписью: «Скрудж и Мэрлей». Фирма торгового дома была всё та же: «Скрудж и Мэрлей». Случалось иногда, что некоторые господа, плохо знакомые с торговыми оборотами, называли этот дом: Скрудж-Скрудж , а иногда и просто: Мерлей; но фирма всегда готова была откликнуться одинаково на то, или на другое имя.
О! Скрудж вполне изучил свой ручной жернов и крепко держал его в кулаке, милейший человек - и старый грешник: скупец напоказ, он умел и нажать, и прижать, и поскоблить, а главное - не выпустить из рук. Неподатлив он был и крепок, как ружейный кремень, - из него же даром и искры не выбьешь без огнива; молчалив был, скрытен и отшельнически замкнут, что устрица. Душевный холод заморозил ему лицо, нащипал ему заостренный нос, наморщил щеки, сковал походку и окислил голос. Постоянный иней убелил ему голову, брови и судорожно-лукавый подбородок. Всегда и повсюду вносил он с собою собственную свою температуру - ниже нуля, леденил свою контору даже в каникулы и, ради самых святок, не возвышал сердечного термометра ни на один градус.
Внешний жар и холод не имели на Скруджа ни малейшего влияния: не согревал его летний зной, не зяб он в самую жестокую зиму; а между тем резче его никогда не бывало осеннего ветра; никогда и никому не падали на голову, так беспощадно, как он, ни снег, ни дождик; не допускал он ни ливня, ни гололедицы, ни изморози - во всём их изобилии: этого слова Скрудж не понимал.
Никто, и не разу не встречал его на улице приветливой улыбкой и словами: «Как вы поживаете, почтеннейший мистер Скрудж? Когда же вы навестите нас?» Ни один нищий не решился протянуть к нему руки за полушкой; ни один мальчишка не спросил у него: «который час?» Никто, ни мужчина, ни женщина, в течение всей жизни Скруджа, не спросили у него: «как пройти туда-то?» Даже собака - вожатый уличного слепца, кажется, - и та знала Скруджа: как только его увидит, так и заведет своего хозяина либо под ворота, либо в какой-нибудь закоулок, и начнет помахивать хвостом, словно выговаривает: «Бедняжка мой хозяин! Знаешь ли, что лучше уж ослепнуть, чем сглазить добрых людей?»
Да Скруджу-то что за дело? Именно этого он и жаждал. Жаждал он пройти жизненным путем одиноко, помимо толпы, с вывеской на лбу: «па-ади-берегись!» А затем - «и пряником его не корми!» как говорят лакомки - дети.
Однажды, в лучший день в году, в сочельник, старик Скрудж сидел в своей конторе и был очень занят. Морозило; падал туман; Скруджу было слышно, как прохожие по переулку свистят себе в кулаки, отдуваются, хлопают в ладоши и отплясывают на панели трепака, чтобы согреться.
На башне Сити пробило только - еще три часа пополудни, а на дворе было уж совсем темно. Впрочем и с утра не светало, и огни в соседних окнах контор краснели масляными пятнами на черноватом фоне густого, почти осязательного воздуха. Туман проникал в дома во все щели и замочные скважины; на открытом воздухе он до того сплотился, что, несмотря на узкость переулка, противоположные дома казались какими-то призраками. Глядя на мрачные тучи, можно было подумать, что они опускаются ближе и ближе к земле с намерением - задымить огромную пивоварню.
Дверь в контору Скруджа была отворена, так что он мог постоянно следить за своим приказчиком, занятым списыванием нескольких бумаг в темной каморке - нечто вроде колодца. У Скруджа еле-еле тлел в камельке огонь, а у приказчика еще меньше: просто один уголек. Прибавить к нему он ничего не мог, потому, что корзинка с угольями стояла в комнате Скруджа, и всякий раз, когда приказчик робко входил с лопаткой, Скрудж предварял его, что будет вынужден с ним расстаться. Вследствие сего, приказчик обматывал себе шею белым «носопрятом» и пытался отогреться у свечки; но, при таком видимом отсутствии изобретательности, конечно не достигал своей цели.
С праздником, дядюшка, и да хранит вас Бог! - раздался веселый голос.
Это еще что за пустяки? - спросил Скрудж. Племянник так скоро шел к нему и так разгорелся на морозном тумане, что щеки его пылали полымем, лицо раскраснелось, как вишня, глаза заискрились и изо рту валил пар столбом.
Как дядюшка: святки-то пустяки? - заметил племянник Скруджа. - То ли вы говорите?
А что же? - ответил Скрудж. - Веселые святки. Да какое у тебя право - веселиться? Разоряться-то на веселье какое право?.. Ведь и так уж беден…
Полно же, полно! - возразил племянник. - Лучше скажите мне: какое у вас право хмуриться и коптеть над цифирью?.. Ведь и так уж богаты.
Ба! - продолжал Скрудж, не приготовившись к ответу, и к своему «Ба!» прибавил: - Всё это - глупости!
Перестаньте же, дядюшка, хандрить.
Поневоле захандришь с такими сумасшедшими. Веселые святки! Ну его, ваше веселье!.. И что такое ваши святки? Срочное время - платить по векселям; а у вас пожалуй, и денег-то нет… Да ведь с каждыми святками вы стареете на целый год и припоминаете, что прожили еще двенадцать месяцев без прибыли. Нет! Будь моя воля, я каждого такого шального, за поздравительные побегушки, приказал бы сварить в котле, - с его же пудингом, похоронить, да уж, заодно, чтобы из могилы не убежал, проткнуть ему грудь сучком остролистника… Это - вот так!
Дядюшка! - заговорил было племянник, - в качестве адвоката святок.
Что, племянничек? - строго перебил его дядюшка. - Празднуй себе святки, как хочешь, а уж я-то отпраздную их по-своему.
Отпразднуете? - повторил за ним племянник.
Да разве так празднуют?
Ну, и не надо!.. Тебе я желаю на новый год нового счастья, если старого мало.
Правда: мне кой-чего не достает… Да нужды нет, что новый год ни разу еще не набил мне кармана, а всё-таки святки для меня святки.
Приказчик Скруджа невольно зарукоплескал этой речи из известного нам колодца; но, поняв всё неприличие своего поступка, бросился поправлять огонь в камельке и затушил последнюю искру.
Если вы еще затушите, - сказал ему Скрудж, - вам придется праздновать святки на другом месте. А вам, сэр, - прибавил он, обратившись к племяннику, - я должен отдать полную справедливость: вы - превосходный вития и напрасно не вступаете в парламент.
Не сердитесь, дядюшка: будет! Приходите к нам завтра обедать.
Скрудж ему ответил, чтобы он пошёл к… Право: так и сказал, всё слово выговорил, - так-таки и сказал: пошёл… (Читатель, может, если заблагорассудит, договорить слово).
Да почему же, - вскрикнул племянник. - Почему?
А почему ты женился?
Потому, - что влюбился.
Начать с того, что Марли был мертв. Сомневаться в этом не приходилось. Свидетельство о его погребении было подписано священником, причетником, хозяином похоронного бюро и старшим могильщиком. Оно было подписано Скруджем. А уже если Скрудж прикладывал к какому-либо документу руку, эта бумага имела на бирже вес.
Итак, старик Марли был мертв, как гвоздь в притолоке.
Учтите: я вовсе не утверждаю, будто на собственном опыте убедился, что гвоздь, вбитый в притолоку, как-то особенно мертв, более мертв, чем все другие гвозди. Нет, я лично скорее отдал бы предпочтение гвоздю, вбитому в крышку гроба, как наиболее мертвому предмету изо всех скобяных изделий. Но в этой поговорке сказалась мудрость наших предков, и если бы мой нечестивый язык посмел переиначить ее, вы были бы вправе сказать, что страна наша катится в пропасть. А посему да позволено мне будет повторить еще и еще раз: Марли был мертв, как гвоздь в притолоке.
Знал ли об этом Скрудж? Разумеется. Как могло быть иначе? Скрудж и Марли были компаньонами с незапамятных времен. Скрудж был единственным доверенным лицом Марли, его единственным уполномоченным во всех делах, его единственным душеприказчиком, его единственным законным наследником, его единственным другом и единственным человеком, который проводил его на кладбище. И все же Скрудж был не настолько подавлен этим печальным событием, чтобы его деловая хватка могла ему изменить, и день похорон своего друга он отметил заключением весьма выгодной сделки.
Вот я упомянул о похоронах Марли, и это возвращает меня к тому, с чего я начал. Не могло быть ни малейшего сомнения в том, что Марли мертв. Это нужно отчетливо уяснить себе, иначе не будет ничего необычайного в той истории, которую я намерен вам рассказать. Ведь если бы нам не было доподлинно известно, что отец Гамлета скончался еще задолго до начала представления, то его прогулка ветреной ночью по крепостному валу вокруг своего замка едва ли показалась бы нам чем-то сверхъестественным. Во всяком случае, не более сверхъестественным, чем поведение любого пожилого джентльмена, которому пришла блажь прогуляться в полночь в каком-либо не защищенном от ветра месте, ну, скажем, по кладбищу св. Павла, преследуя при этом единственную цель - поразить и без того расстроенное воображение сына.
Скрудж не вымарал имени Марли на вывеске. Оно красовалось там, над дверью конторы, еще годы спустя: СКРУДЖ и МАРЛИ. Фирма была хорошо известна под этим названием. И какой-нибудь новичок в делах, обращаясь к Скруджу, иногда называл его Скруджем, а иногда - Марли. Скрудж отзывался, как бы его ни окликнули. Ему было безразлично.
Ну и сквалыга же он был, этот Скрудж! Вот уж кто умел выжимать соки, вытягивать жилы, вколачивать в гроб, загребать, захватывать, заграбастывать, вымогать… Умел, умел старый греховодник! Это был не человек, а кремень. Да, он был холоден и тверд, как кремень, и еще никому ни разу в жизни не удалось высечь из его каменного сердца хоть искру сострадания. Скрытный, замкнутый, одинокий - он прятался как устрица в свою раковину. Душевный холод заморозил изнутри старческие черты его лица, заострил крючковатый нос, сморщил кожу на щеках, сковал походку, заставил посинеть губы и покраснеть глаза, сделал ледяным его скрипучий голос. И даже его щетинистый подбородок, редкие волосы и брови, казалось, заиндевели от мороза. Он всюду вносил с собой эту леденящую атмосферу. Присутствие Скруджа замораживало его контору в летний зной, и он не позволял ей оттаять ни на полградуса даже на веселых святках.
Жара или стужа на дворе - Скруджа это беспокоило мало. Никакое тепло не могло его обогреть, и никакой мороз его не пробирал. Самый яростный ветер не мог быть злее Скруджа, самая лютая метель не могла быть столь жестока, как он, самый проливной дождь не был так беспощаден. Непогода ничем не могла его пронять. Ливень, град, снег могли похвалиться только одним преимуществом перед Скруджем - они нередко сходили на землю в щедром изобилии, а Скруджу щедрость была неведома.
Никто никогда не останавливал его на улице радостным возгласом: "Милейший Скрудж! Как поживаете? Когда зайдете меня проведать?" Ни один нищий не осмеливался протянуть к нему руку за подаянием, ни один ребенок не решался спросить у него, который час, и ни разу в жизни ни единая душа не попросила его указать дорогу. Казалось, даже собаки, поводыри слепцов, понимали, что он за человек, и, завидев его, спешили утащить хозяина в первый попавшийся подъезд или в подворотню, а потом долго виляли хвостом, как бы говоря: "Да по мне, человек без глаз, как ты, хозяин, куда лучше, чем с дурным глазом".
А вы думаете, это огорчало Скруджа? Да нисколько. Он совершал свой жизненный путь, сторонясь всех, и те, кто его хорошо знал, считали, что отпугивать малейшее проявление симпатии ему даже как-то сладко.
И вот однажды - и притом не когда-нибудь, а в самый сочельник, - старик Скрудж корпел у себя в конторе над счетными книгами. Была холодная, унылая погода, да к тому же еще туман, и Скрудж слышал, как за окном прохожие сновали взад и вперед, громко топая по тротуару, отдуваясь и колотя себя по бокам, чтобы согреться. Городские часы на колокольне только что пробили три, но становилось уже темно, да в тот день и с утра все, и огоньки свечей, затеплившихся в окнах контор, ложились багровыми мазками на темную завесу тумана - такую плотную, что, казалось, ее можно пощупать рукой. Туман заползал в каждую щель, просачивался в каждую замочную скважину, и даже в этом тесном дворе дома напротив, едва различимые за густой грязно-серой пеленой, были похожи на призраки. Глядя на клубы тумана, спускавшиеся все ниже и ниже, скрывая от глаз все предметы, можно было подумать, что сама Природа открыла где-то по соседству пивоварню и варит себе пиво к празднику.
Скрудж держал дверь конторы приотворенной, дабы иметь возможность приглядывать за своим клерком, который в темной маленькой каморке, вернее сказать чуланчике, переписывал бумаги. Если у Скруджа в камине угля было маловато, то у клерка и того меньше, - казалось, там тлеет один-единственный уголек. Но клерк не мог подбросить угля, так как Скрудж держал ящик с углем у себя в комнате, и стоило клерку появиться там с каминным совком, как хозяин начинал выражать опасение, что придется ему расстаться со своим помощником. Поэтому клерк обмотал шею потуже белым шерстяным шарфом и попытался обогреться у свечки, однако, не обладая особенно пылким воображением, и тут потерпел неудачу.
С наступающим праздником, дядюшка! Желаю вам хорошенько повеселиться на святках! - раздался жизнерадостный возглас. Это был голос племянника Скруджа. Молодой человек столь стремительно ворвался в контору, что Скрудж не успел поднять голову от бумаг, как племянник уже стоял возле его стола.
Вздор! - проворчал Скрудж. - Чепуха!
Племянник Скруджа так разогрелся, бодро шагая по морозцу, что казалось, от него пышет жаром, как от печки. Щеки у него рдели - прямо любо-дорого смотреть, глаза сверкали, а изо рта валил пар.
Это святки - чепуха, дядюшка? - переспросил племянник. - Верно, я вас не понял!
Слыхали! - сказал Скрудж. - Повеселиться на святках! А ты-то по какому праву хочешь веселиться? Какие у тебя основания для веселья? Или тебе кажется, что ты еще недостаточно беден?
В таком случае, - весело отозвался племянник, - по какому праву вы так мрачно настроены, дядюшка? Какие у вас основания быть угрюмым? Или вам кажется, что вы еще недостаточно богаты?
На это Скрудж, не успев приготовить более вразумительного ответа, повторил свое «вздор» и присовокупил еще "чепуха!".
Чарльз Диккенс - это писатель, которого сейчас знают все и не знает никто. Имя на слуху, а книг - не читали. Зато смотрели диснеевские мультики про дядюшку Скруджа, не подозревая, что Диккенс писал вовсе не об утках.
Считается, что Диккенс - христианский моралист, но почему и отчего, мало кому известно. Возможно, современность заново откроет для нас этого некогда всемирно популярного писателя. Пустое кресло, отодвинутое от стола с листами бумаги и пером, - вот что увидел английский художник Льюк Филдс в день смерти Чарльза Диккенса, войдя в его кабинет*. Так родился знаменитый рисунок «Опустевшее кресло».
Вокруг стола, за которым работал великий писатель, собрались герои его книг: мистер Пиквик со своим верным слугой и другом Сэмом Уэллером, Оливер Твист, Флоренс Домби, Дэвид Копперфильд, маленькая Нелл со своим дедом и многие-многие другие, рожденные его воображением, но такие живые и достоверные. Увы, Диккенса сейчас почти не читают. С Оливером Твистом большинство знакомы в легкомысленном формате мюзикла; имя одного из самых трагических персонажей Диккенса, Скруджа, прочно срослось с недалеким героем диснеевских «Утиных историй», а про Дэвида Копперфильда скажут, что это известный фокусник.
Детство, отрочество, юность
Родился Чарльз Диккенс 7 февраля 1812 года в британском городе Портсмуте. По отцовской линии он происходил из «низкого» сословия: дедушка его был дворецким, бабушка - горничной. Отец, чиновник морского ведомства, очень тяготился своим происхождением - в отличие от сына, который был полностью чужд сословных предрассудков. В детстве у Чарльза было две страсти: театр и чтение. В дружной и веселой семье Диккенсов постоянно устраивались домашние спектакли, и будущий писатель был на первых ролях. Любовь же к художественному слову началась со сказок няни - сказок, которые мы бы сейчас назвали «ужастиками».

Став постарше, Чарльз зачитывался сборниками английских и арабских сказок - но терпеть не мог назидательных детских книжек. А больше всего любил Шекспира и Новый Завет, который потом часто цитировал в своих романах. Семья Диккенсов принадлежала к господствующей англиканской Церкви, однако юный Чарльз получил довольно причудливое религиозное воспитание. Няня на ночь пела ему церковные гимны, от которых впечатлительный мальчик плакал в подушку. В бытность семьи Диккенсов в Чатеме рядом с их домом была баптистская часовня. Родители Чарльза водили знакомство с ее настоятелем, хотя особой религиозностью не отличались. Диккенсу хватило и кратковременного общения с восторженными пастырями, чтобы навсегда проникнуться отвращением к напыщенным проповедям. Впрочем, вскоре у Чарльза Диккенса возникли куда большие неприятности, чем необходимость посещать нудные собрания. Отец, человек широкой души, однако беспечный и расточительный, не смог расплатиться с кредиторами и попал в долговую тюрьму, а вместе с ним и мать Диккенса с младшими детьми. Чарльз часто навещал родню в тюрьме Маршалси, и эти впечатления легли в основу сцен пребывания мистера Пиквика в долговой тюрьме и эпизодов из других его романов. Диккенсу тогда было 12 лет, он жил в пансионе с такими же никому не нужными детьми и работал на фабрике по производству ваксы. Это время унижений, ощущение полной заброшенности писатель с горечью вспоминал в романе «Дэвид Копперфильд». Зрелище социальной несправедливости, бездушное отношение к детям-работникам навсегда определили основной пафос его творчества: защиту бедняков, особенно детей. Он много бродил по Лондону, видел его контрасты: богатые особняки и страшные трущобы Сэвен-Дайелса.

«Какие чудовищные воспоминания вынес я оттуда! - говорил позднее Диккенс. - Какие видения! Порок, унижения, нищета!». Потом, благодаря наследству бабушки экономки, отец освободился из долговой тюрьмы и определил Чарльза в частную школу с громким названием «Академия Веллингтон-Хаус». Окончив ее, молодой Диккенс служил в адвокатских конторах кем-то вроде курьера. Был стенографом в суде Докторс-Коммонс, где писал отчеты о судебных заседаниях и приобрел отличное знание людей, законов и тонкостей судебных разбирательств - все это затем найдет отражение в его книгах.
И милость к падшим призывал
В 1833 году вышел первый рассказ Диккенса «Обед на Поплар-Уок», опубликованный под псевдонимом Боз. Под этим же псевдонимом вышла в 1836 году и его первая книга очерков. Их героями стали мелкие чиновники и буржуа, клерки, владельцы бедных магазинчиков, хозяйки пансионов, ростовщики, кучера, актеры -бедный люд, вынужденный ежедневно сражаться за кусок хлеба, но не теряющий человеческого достоинства и умения радоваться жизни.

Книга сыграла свою роль - Диккенс становится популярным автором, его начинают активно печатать, и более того - появляются заказы. В феврале 1836 года известные издатели Чэпмен и Холл предложили ему написать текст к спортивным рисункам художника Роберта Сеймура. На этих рисунках члены некоего «Клуба Нимрода» занимаются охотой, рыбной ловлей, спортивными упражнениями и постоянно попадают в какие-то трагикомические ситуации. Требовалось написать шутливый рассказ о приключениях горе-спортсменов по этим картинкам. Но Диккенсу было тесно в заданных художником рамках, и он сообщил издателям, что ему «хотелось бы идти своим собственным путем, с большей свободой выбирать людей и сцены из английской жизни». Так и получилось. Теперь не писатель шел за художником, а гравюры рождались как иллюстрации к тексту. Именно так появились «Посмертные записки Пиквикского клуба», после публикации которых к Диккенсу пришла слава.

Нет нужды пересказывать эту уморительно смешную и трогательную книгу. Достаточно сказать, что в наше неласковое время она может послужить хорошим лекарством от уныния, отчаяния и раздражения. Мистер Пиквик, состоятельный и респектабельный пожилой господин, удалившийся от дел и решивший путешествовать с тем, чтобы записывать свои наблюдения о людях, поначалу вызывает у читателя ироничную ухмылку. Тем более что и автор резвится вовсю, изящно и в то же время хлестко вышучивая своего героя, то и дело попадающего в нелепое положение из-за своего незнания жизни и людей. Но, как отметил современный английский писатель Энгус Уилсон, автор книги о Диккенсе,«постепенно мистер Пиквик завоевывает нашу привязанность своим постоянным оптимизмом, своей предупредительностью, своей неисчерпаемой учтивостью и галантностью, своей готовностью попасть впросак, лишь бы только помочь человеку в нужде, своей решимостью идти против того, что ему кажется несправедливым, а главное - своим романтичным складом души и полным нежеланием подчиняться властям. Из пожилого, дородного, благоприличного рантье он почти сумел превратиться в странствующего рыцаря с детским и благородным сердцем». Ф. М. Достоевский заметил, что Пиквик очень похож на Дон Кихота. Добавим, что слуга мистера Пиквика, Сэм Уэллер, в таком случае - Санчо Панса.
Именно этот пристальный интерес к людям «не от мира сего» роднит Диккенса с его современником Достоевским. Князь Мышкин, конечно, несравнимо более трагичен, но в нем много общего с мистером Пиквиком. Возможно, это и некое избранничество, как говорит Э. Уилсон. На них изливается Божия благодать, хотя в земной жизни им приходится несладко… Надо сказать, что читатели «Пиквикского клуба» восторженно встречали не только юмо- ристические эпизоды романа, который печатался с продолжением - в так называемых «выпусках» (Диккенс предпочитал эту форму подачи своих романов). Когда повествование приняло драматический оборот (мистер Пиквик угодил в тюрьму из-за происков Додсона и Фогга, бесчестных и циничных адвокатов), когда оно приобрело острое социальное звучание и речь в нем зашла о несправедливости английских законов, бесчестности суда и коррупции, о беспощадной правде о «дне жизни» - тиражи выросли в десять раз!

В «Пиквикском клубе» нет явных христианских отсылок, но все в этом романе пронизано христианским светом сострадания к людям. И не только к людям, но и к птице в клетке, цветам, задыхающимся без воды в букете, - ко всему живому. После «Пиквикского клуба» были написаны «Оливер Твист» и «Жизнь и приключения Николаса Никльби», а затем - «Лавка древностей», которая начиналась как история для детей, но постепенно становилась все более глубокой и печальной. Потом из под его пера вышли исторический роман «Барнеби Радж», «Мартин Чезлвит», «Домби и сын», «Дэвид Копперфильд»…
«Дэвид Копперфильд» - самый автобиографичный роман Диккенса. Эта книга оказала большое влияние на Достоевского, который, будучи в ссылке и получив наконец разрешение читать, первым делом взялся за эту книгу. «Мы на русском языке понимаем Диккенса, я уверен, почти так же, как и англичане, даже, может быть, со всеми оттенками», - писал он впоследствии.
Рождественские повести
Наиболее выразительно христианские взгляды Диккенса воплощены им в знаменитых «Рождественских повестях». Для рождественских номеров журнала «Домашнее чтение» Диккенс каждый год писал новый рассказ, хотя и не обязательно на «рождественскую» тему. Так появились повести «Рождественская песнь в прозе», «Колокола», «Сверчок за очагом», «Битва жизни», «Одержимый». Самая лучшая из «Рождественских повестей» - это, конечно, «Рождественская песнь в прозе», которая будет интересна всем поколениям в семье, от дедушек-бабушек до внуков всех возрастов. История Эбинизера Скруджа, преуспевающего дельца из лондонского Сити, который ради карьеры пожертвовал семьей, друзьями, простым человеческим счастьем, - это и притча, и фантастика, и до боли реалистичный рассказ о том, как хороший в общем человек превращается в алчного и бессердечного мизантропа, этакую «прореху на человечестве», английского двойника гоголевского Плюшкина.
В Сочельник весь Лондон празднично оживлен: все от бедняка до лорда-мэра готовятся к Рождеству. Но для угрюмого, заледеневшего внутри Скруджа великий праздник - досадный простой в рабочих буднях, день, когда он не может приумножить свои капиталы. И потому он ненавидит Святки и все это праздничное ликование вокруг. Но вот в его одинокой, холодной, огромной и угрюмой квартире незадолго до полуночи появляется призрак его компаньона Марли и, изрядно напугав, повествует о наказании, которое он, Марли, несет после смерти.

Он должен видеть людские радости, которые не может разделить, - а при жизни не хотел! - и людские горести, которым не может помочь, хотя при жизни мог. Теперь он вынужден скитаться по свету и влачить за собой цепь, которую сам сковал себе при жизни, - цепь «из ключей, висячих замков, копилок, документов, гроссбухов и тяжелых кошельков…» Марли упросил высшие силы дать Скруджу шанс искупить все содеянное им зло, чтобы он не повторил участи своего компаньона. И вот потрясенному Скруджу, из которого быстро испаряется материализм, а с ним и высокомерие, и презрение ко всему, что не связано с наживой, являются три духа.
Первый - святочный дух прошлых лет - показывает ему его собственное детство и юность, когда он еще верил в чудо, и имел друзей, и любил свою маленькую сестренку, умершую совсем нестарой (ее сына, своего племянника, который без всякой корысти пришел поздравить дядюшку в начале повествования, Скрудж грубо прогоняет). Он видит себя, разрывающего отношения с девушкой, которая его любила, потому что для него главной целью стала карьера, и эту же девушку, уже вышедшую замуж за другого, и ее мужа, окруженного оравой ребятишек, и красавицу старшую дочь, похожую на мать в молодости, всю эту счастливую и дружную семью, в которой царит любовь.
«Скрудж невольно подумал о том, что такое же грациозное, полное жизни создание могло бы и его называть отцом и обогревать дыханием своей весны суровую зиму его преклонных лет!»

Второй дух, являющийся Скруджу , - это дух нынешних Святок. Он показывает старику семью его клерка, которого Скрудж презирает и нещадно эксплуатирует. Многодетная эта семья хоть и влачит полунищенское существование, но зато как любят они друг друга, как умеют радоваться праздничным нехитрым мелочам! И, может быть, впервые в очерствевшем сердце Скруджа просыпается сострадание к чужому человеку - кроткому Малютке Тиму,терпеливому калеке. «Дух, - сказал Скрудж, охваченный сочувствием, которого никогда прежде не испытывал. - Скажи мне, Малютка Тим будет жить? - Я вижу пустую скамеечку возле этого нищего очага, - отвечал дух. - И костыль, оставшийся без хозяина, но хранимый с любовью. Если будущее не внесет в это изменений, ребенок умрет. - Нет, нет! - вскричал Скрудж. - О нет! Добрый дух, скажи, что судьба пощадит его! - Если будущее не внесет в это изменений, - повторил дух, - дитя не доживет до следующих Святок. Но что за беда? Если ему суждено умереть, пускай себе умирает, и тем сократит излишек населения! Услыхав, как дух повторяет его собственные слова, Скрудж повесил голову, терзаемый раскаянием и печалью». А дух продолжает: «Тебе ли решать, кто из людей должен жить и кто - умереть? Быть может, ты сам в глазах небесного судии куда менее достоин жизни, нежели миллионы таких, как ребенок этого бедняка. О Боже! Какая-то букашка, пристроившись на былинке, выносит приговор своим голодным собратьям за то, что их так много расплодилось и копошится в пыли!» (Почти сто лет спустя практически такие же слова скажет Гэндальф в великой эпопее Толкиена). Присутствуя невидимо в доме своего подчиненного, а потом в доме племянника, Скрудж слышит о себе нелицеприятные отзывы, и обидой и болью отзываются эти суровые, хотя и справедливые, слова в его сердце.

Третий дух - дух будущих Святок - показывает Скруджу день его смерти и его самого на смертном ложе - всеми забытого, обокраденного. И нет ни одного человека, который бы помянул его добрым словом, потому что он сам при жизни не сделал ни одного доброго дела бескорыстно и искренне. Но Диккенс не был бы Диккенсом, если бы оставил читателя вместе с главным героем в отчаянии и безнадежности.
Человек обладает свободной волей. Эта великая истина, дающая надежду и силу человеческому сердцу, в «Рождественской песни» обрела великолепную художественную форму. Будущее в наших руках. И в «Песни», и в «Колоколах» в снах героев им показано страшное будущее - их и их близких. Но то, как сложится наша жизнь, во многом зависит от нас. Диккенс - не фаталист. «Жизненный путь человека, если неуклонно ему следовать, ведет к предопределенному концу… Но если человек сойдет с этого пути, то и конец будет другим». Что в итоге и делает Скрудж, и финал повести такой светлый, такой счастливый, что читатель невольно ликует вместе с героями, и это счастье, которым нас дарит Диккенс.
Христианский дух произведений Диккенса
Христианство Диккенса не в том, что слова «благословит нас всех Господь!» часто звучат в его книгах. И даже не в том, что великие евангельские строки цитируются там и тут. Сам дух его произведений - глубоко христианский.Только человек, просветленный евангельскими истинами, мог написать: «В тюрьмах, больницах и богадельнях, в убогих приютах нищеты - всюду, где суетность и жалкая земная гордыня не закрывают сердца человека перед благодатным духом праздника, - всюду давал он людям свое благословение и учил Скруджа заповедям милосердия».
«Спешите делать добро» - эти слова современника Диккенса, доктора Гааза, прямо соотносятся со строками из все той же «Рождественской песни» о том, что возможностей для добра так много, а времени в действительности так мало. «Каждая христианская душа, творя добро, пусть на самом скромном поприще, найдет свою земную жизнь слишком быстротечной для безграничных возможностей добра!.. Даже веками раскаяния нельзя возместить упущенную на земле возможность сотворить доброе дело».

Диккенс был невероятно популярен при жизни. Но к концу XIX века «вышел из моды». Гражданский пафос его произведений, его пронзительная искренность, щемящая «детскость» на фоне набиравших силу модернистов во главе с Оскаром Уайльдом, а затем и Вирджинии Вулф стали выглядеть старомодными и наивными. Его творчество перешло в разряд «детской литературы», а сам образ писателя окрасился в слащаво-добродетельные тона. Однако в 1950-е годы Диккенс оказался вновь востребованным, а его роль в развитии английской литературы признана не менее значительной, чем роль Шекспира. Особенно востребованными оказались романы Диккенса в студенческой среде, молодыми интеллектуальными людьми, ищущими смысл жизни.
Не верьте тем, кто говорит, что Диккенс устарел, что, дескать, книги его затянуты и занудны, - это говорят лентяи с атрофированным от просмотра сериалов и записей в «Одноклассниках» сознанием. Диккенс современен. Диккенс остроумен. Диккенс нужен нам. Нужны его книги, полные невероятного обаяния и могучей силы доброты. И закончим финальными словами «Рождественской песни»: «Да осенит нас всех Господь Бог своею милостью!».
В качестве иллюстраций были использованы кадры из мультфильма Роберта Земекиса «Рождественская история», студия Walt Disney, 2009Жанр рождественской повести предполагает, что речь будет идти о чем-то необычном, что могло произойти только накануне великого Праздника или на Святках, когда в мире людей появляются волшебники и сказочные духи, которые свободно действуют, помогая или, наоборот, вредя человеку.
Создание этого жанра часто приписывается английскому писателю Чарльзу Диккенсу. Хотя его «Рождественская песнь» была опубликована в 1843 году, а «Вечера на хуторе близ Диканьки», куда вошла повесть «Ночь перед Рождеством» Н.В. Гоголя, – в 1832 году. Но выяснение того, кто был первым, а кто вторым, нам не так уж интересно. Гораздо важнее другое – в каждой рождественской истории присутствует обязательный, свойственный жанру, «набор» – он встретится и у Диккенса, и у Гоголя, и у Янсон, и у современного шведского писателя Свена Нурдквиста, и в сказке «Щелкунчик», и в рождественских приключениях муми-троллей. Давайте вспомним рождественские истории разных авторов из разных стран и посмотрим, что их объединяет.
Скряга Скрудж и духи
Из пяти рождественских повестей Диккенса, которые появлялись в течение пяти лет в декабре, наиболее известна первая, собственно, она и является по-настоящему «рождественской», так как действие ее разворачивается непосредственно в Сочельник и первые дни Святок.
Скряга Скрудж, которого раздражает приближение праздников, когда никто не будет работать и зарабатывать, а будет лишь веселиться и бездельничать, встречает по дороге домой дух своего компаньона Джейкоба Марли, умершего в Сочельник семь лет тому назад. Дух Марли рассказывает Скруджу о том, что был наказан за то, что при жизни не стремился творить добро и помогать нуждающимся, и теперь он хочет, чтобы Скрудж изменился, поэтому к нему будут посланы три духа, которые помогут ему исправиться.
И вот духи Рождества по очереди приходят к жадному старику. Первый, Дух прошлого, переносит его к тем картинам детства, которые Скрудж давно забыл, но сейчас, глядя на себя маленького со стороны, он немного смягчается. Второй, Дух нынешних Святок, ведет Скруджа к дому его работника Боба Крэтчита, у которого тяжело болен сын. И показывает ему ту жизнь, которую Скрудж давно уже отверг, в которой есть место невзгодам, радостям, испытаниям и надеждам. Старый скряга давно не испытывал таких эмоций, он жил в мире, в котором была лишь жажда наживы и злоба.
Третий дух переносит старика в будущее: на улицах все говорят о чьей-то смерти, и этого человека никому не жаль. Трое воров обокрали дом умершего и продали вещи скупщику в трущобах, рассуждая о том, что «наверное, он специально всех нас отваживал при жизни, чтобы мы могли нажиться на нём после его смерти». Скрудж понимает, что видит собственный конец и ему становится страшно. Он решает измениться, идет в дом своего племянника, помогает сыну Боба, жертвует деньги на благотворительные цели. Он полностью меняется.
В повести Диккенса элементы сказки, народного фольклора и реальной действительности переплетаются удивительным образом. Писатель дает герою возможность увидеть себя со стороны, увидеть то, к чему приводит корысть и страсть наживы. Скрудж страшен, но ведь даже самый великий грешник может исправиться. Еще один важный мотив, свойственный всем без исключения произведениям этого жанра – мотив семьи. Он звучит сначала как будто издалека. Скрудж одинок и чужое стремление быть вместе с любимым человеком, с детьми, приводит его в раздражение. Когда дух переносит его в прошлое, он вспоминает свою возлюбленную и то, почему она не стала его женой, увидев в нем все сжигающую алчность. В финале повести тема семьи звучит уже в полный голос, именно к племяннику Скрудж идет праздновать Рождество.
«Ночь перед Рождеством»
Эти мотивы звучат и в гоголевской повести, входящей в цикл «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Тут тебе и волшебные существа – и ведьма, которая крадет с неба звезды, и черт на метле, и месть нечистой силы кузнецу Вакуле за то, что тот посмел нарисовать картину Страшного Суда, и любовь Вакулы к гордой красавице Оксане, и грозный отец – казак Чуб. Именно в связи с Вакулой, Оксаной и Чубом возникает семейная тема в повести, которая собственно и является главной сюжетной линией: если кузнец сможет достать царские черевички, то Оксана согласиться стать его женой.

Впрочем, имеет ли смысл пересказывать историю, которую столько раз каждый из нас читал. Начало повести всегда переносят нас в другой мир, где сказка становится обычным явлением, и никого не удивляет, когда галушки сами прыгают в рот, только успевай его открывать:
«Последний день перед Рождеством прошел. Зимняя, ясная ночь поступила. Глянули звезды. Месяц величаво поднялся на небо посветить добрым людям и всему миру, чтобы всем было весело колядовать и славить Христа. Морозило сильнее, чем с утра; но зато так было тихо, что скрып мороза под сапогом слышался за полверсты. Еще ни одна толпа парубков не показывалась под окнами хат; месяц один только заглядывал в них украдкою, как бы вызывая принаряживавшихся девушек выбежать скорее на скрыпучий снег…»
Когда читаешь об этом снеге, и скрыпе, и луне, о том, как красавица Оксана поняла, что зря дала невыполнимое поручение кузнецу, о том, как дивился он дорогому убранству петербуржского дворца и черевичкам, что были надеты на ножках царицы, о том, как разукрасил церковь и в углу написал черта в огне – «такого гадкого, что все плевали, когда проходили мимо», понимаешь, что это гораздо ближе к настоящей жизни, и настоящему Рождеству, чем кажется на первый взгляд. Потому что главное в этом Празднике – чудо, а у Гоголя его более, чем достаточно.
Рождество по-скандинавски
Мотивы, о которых речь шла выше, – переплетение сказки и реальности, волшебных существ – с вполне реальными и, конечно, тема семьи, теплого дома, в котором тебя всегда примут и поймут, близка рождественским повестям и Туве Янсон, и Свена Нурдквиста.
Есть две «рождествеские» истории в серии книг про Финдуса и Петсона, это – «Рождество в домике Петсона» и «Механический Дед Мороз». Для тех, кто не знаком с этими героями, кратко опишу их. Петсон – это пожилой мужчина, который живет в небольшой шведской деревушке, где-то далеко-далеко, он занимается своим домом, рыбалкой, курами, огородом и всевозможными механическими усовершенствованиями. Финдус – маленький, взбалмошный котенок, благодаря которому оба героя постоянно попадают в какие-то истории.

Детям школьного возраста будет интересна книга «Механический Дед Мороз» – там находится место и удивительным изобретениям чудака Петсона и настоящему волшебству. Дошкольникам будет ближе повесть «Рождество в домике Петсона» (эта рекомендация условна): «Наконец-то потеплело! Уже несколько дней Петсон собирается сходить в магазин, но было очень холодно, и он не решался выйти на улицу. И вот скоро уже рождественский сочельник, а в доме почти не осталось еды. Надо обязательно купить продукты, ведь завтра магазины будут закрыты. А еще надо срубить елку, испечь печенье с корицей, навести порядок в доме…».
Петсон отправляется в лес за елкой, но вот незадача – он повреждает ногу, теперь не будет никаких магазинов, праздничных украшений, подарков и вкусной еды. Но ведь Рождество – это время когда чудеса случаются сплошь и рядом. К несчастному Петсону приходят на помощь соседи. Мотив близости друг к другу, тема дружбы и взаимовыручки и обязательно счастливый конец – непременные атрибуты этого праздничного жанра.
Если вы еще не знакомы с книгами Свена Нурдквиста, отмечу удивительные иллюстрации, сделанные самим автором текста – оригинальные, занимательные, яркие, они не просто дополняют текст, но являются как бы отдельным сюжетом. Нурдквист – замечательный иллюстратор, собственно, с самого начала это и было его специальностью, писать книги он стал позже. Истории про Петсона и Финдуса популярны и на родине автора, и в Европе, по ним сняты мультфильмы. Кстати, любая из книг про этих героев –красочный и оригинальный подарок на праздник.

По-настоящему «рождественскую» историю можно прочитать и у Туве Янсон, знаменитой писательницы, создавшей серию книг о муми-троллях. «Ель» обычно не входит в самые популярные издания Янсон, тем не менее, и эта короткая повесть, и другие из сборника «Дитя-неведимка» удивительны по своей тонкости и поэтичности.
Раздраженный Хемуль залез на крышу дома муми-троллей и принялся счищать с нее снег, ему поручили разбудить муми-троллей к Рождеству:
«– Мама, проснись, – испуганно зашептал Муми-тролль. – Случилось что-то ужасное. Они называют это Рождеством.
– Что ты имеешь в виду? – высунувшись из-под одеяла, спросила мама.
– Я точно не знаю, – ответил ее сын. – Но ничего не готово, и что-то пропало, и все носятся, как угорелые. Может, опять наводнение.
Он осторожно потряс фрекен Снорк и прошептал:
– Ты не пугайся, но говорят, произошло что-то страшное.
– Спокойствие, – сказал папа. – Только спокойствие».
Итак, что же такое Рождество? Зачем нужна елка – чтобы Рождество задобрить или чтобы спрятаться от него под ней? А рождественский ужин, о котором все столько говорят? Зачем зажигать свечи, дарить подарки? И кому? Наверное тем, у кого еще ни разу не было такого праздника, и вкусной еды, и подарков. А когда ты что-то сделаешь для другого, то непонятное Рождество уже совсем не страшно.

«Щелкунчик и мышиный король»
И все таки самой «рождественской» из всех известных мне сказок я бы назвала книгу Э. Т. А. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король», которая была написана в 1816 году.
Наверное потому, что эта сказка уже давно неотделима для нас от чудесной, праздничной музыки П.И. Чайковского. Именно постановка в декабре 1892 года в Мариинском театре дала сказке новую жизнь. Интересно, что либретто для балета писал Мариус Петипа, пользуясь не текстом Гофмана, а пересказом, который сделал в середине XIX века Александр Дюма-отец.
Невозможно не вспоминать в декабре эти красивейшие сказочные сцены – праздник в доме Штальбаумов, загадочный Дроссельмейер, встреча Мари и Щелкунчика, нападение мышей и битва, а потом путешествие героев по кукольному королевству: таинственный рождественский лес, леденцовый луг, лимонадная река и озеро миндального молока. А в балете Чайковского еще и танцы, которые исполняют куклы: испанская, индийская, китайская и русская, каждая кукла по-своему благодарит Мари за то, что она спасла им жизнь и победила страшного мышиного короля.

А столица царства – город Конфетенбург с Марципановым замком – это ли не чудо, о котором по-настоящему хочется читать еще и еще именно сейчас, в декабре, когда вечера такие длинные, за окном падает снег, в доме пахнет елкой, которая стоит уже наряженная к празднику и, как в детстве, на мгновение может показаться, что куклы оживут, и сказка окажется реальностью, потому что и Мари стала невестой Дроссельмейера: «Рассказывают, что через год он увез ее в золотой карете, запряженной серебряными лошадьми, что на свадьбе у них плясали двадцать две тысячи нарядных кукол, сверкающих бриллиантами и жемчугом, а Мари, как говорят, еще и поныне королева в стране, где, если только у тебя есть глаза, ты всюду увидишь сверкающие цукатные рощи, прозрачные марципановые замки, всякие чудеса и диковинки».
СТРОФА ПЕРВАЯ Начать с того, что Марли был мертв. Сомневаться в этом не приходилось. Свидетельство о его погребении было подписано священником, причетником, хозяином похоронного бюро и старшим могильщиком. Оно было подписано Скруджем. А уже если Скрудж прикладывал к какому-либо документу руку, эта бумага имела на бирже вес. Итак, старик Марли был мертв, как гвоздь в притолоке. Учтите: я вовсе не утверждаю, будто на собственном опыте убедился, что гвоздь, вбитый в притолоку, как-то особенно мертв, более мертв, чем все другие гвозди. Нет, я лично скорее отдал бы предпочтение гвоздю, вбитому в крышку гроба, как наиболее мертвому предмету изо всех скобяных изделий. Но в этой поговорке сказалась мудрость наших предков, и если бы мой нечестивый язык посмел переиначить ее, вы были бы вправе сказать, что страна наша катится в пропасть. А посему да позволено мне будет повторить еще и еще раз: Марли был мертв, как гвоздь в притолоке. Знал ли об этом Скрудж? Разумеется. Как могло быть иначе? Скрудж и Марли были компаньонами с незапамятных времен. Скрудж был единственным доверенным лицом Марли, его единственным уполномоченным во всех делах, его единственным душеприказчиком, его единственным законным наследником, его единственным другом и единственным человеком, который проводил его на кладбище. И все же Скрудж был не настолько подавлен этим печальным событием, чтобы его деловая хватка могла ему изменить, и день похорон своего друга он отметил заключением весьма выгодной сделки. Вот я упомянул о похоронах Марли, и это возвращает меня к тому, с чего я начал. Не могло быть ни малейшего сомнения в том, что Марли мертв. Это нужно отчетливо уяснить себе, иначе не будет ничего необычайного в той истории, которую я намерен вам рассказать. Ведь если бы нам не было доподлинно известно, что отец Гамлета скончался еще задолго до начала представления, то его прогулка ветреной ночью по крепостному валу вокруг своего замка едва ли показалась бы нам чем-то сверхъестественным. Во всяком случае, не более сверхъестественным, чем поведение любого пожилого джентльмена, которому пришла блажь прогуляться в полночь в каком-либо не защищенном от ветра месте, ну, скажем, по кладбищу св. Павла, преследуя при этом единственную цель - поразить и без того расстроенное воображение сына. Скрудж не вымарал имени Марли на вывеске. Оно красовалось там, над дверью конторы, еще годы спустя: СКРУДЖ и МАРЛИ. Фирма была хорошо известна под этим названием. И какой-нибудь новичок в делах, обращаясь к Скруджу, иногда называл его Скруджем, а иногда - Марли. Скрудж отзывался, как бы его ни окликнули. Ему было безразлично. Ну и сквалыга же он был, этот Скрудж! Вот уж кто умел выжимать соки, вытягивать жилы, вколачивать в гроб, загребать, захватывать, заграбастывать, вымогать... Умел, умел старый греховодник! Это был не человек, а кремень. Да, он был холоден и тверд, как кремень, и еще никому ни разу в жизни не удалось высечь из его каменного сердца хоть искру сострадания. Скрытный, замкнутый, одинокий - он прятался как устрица в свою раковину. Душевный холод заморозил изнутри старческие черты его лица, заострил крючковатый нос, сморщил кожу на щеках, сковал походку, заставил посинеть губы и покраснеть глаза, сделал ледяным его скрипучий голос. И даже его щетинистый подбородок, редкие волосы и брови, казалось, заиндевели от мороза. Он всюду вносил с собой эту леденящую атмосферу. Присутствие Скруджа замораживало его контору в летний зной, и он не позволял ей оттаять ни на полградуса даже на веселых святках. Жара или стужа на дворе - Скруджа это беспокоило мало. Никакое тепло не могло его обогреть, и никакой мороз его не пробирал. Самый яростный ветер не мог быть злее Скруджа, самая лютая метель не могла быть столь жестока, как он, самый проливной дождь не был так беспощаден. Непогода ничем не могла его пронять. Ливень, град, снег могли похвалиться только одним преимуществом перед Скруджем - они нередко сходили на землю в щедром изобилии, а Скруджу щедрость была неведома. Никто никогда не останавливал его на улице радостным возгласом: "Милейший Скрудж! Как поживаете? Когда зайдете меня проведать?" Ни один нищий не осмеливался протянуть к нему руку за подаянием, ни один ребенок не решался спросить у него, который час, и ни разу в жизни ни единая душа не попросила его указать дорогу. Казалось, даже собаки, поводыри слепцов, понимали, что он за человек, и, завидев его, спешили утащить хозяина в первый попавшийся подъезд или в подворотню, а потом долго виляли хвостом, как бы говоря: "Да по мне, человек без глаз, как ты, хозяин, куда лучше, чем с дурным глазом". А вы думаете, это огорчало Скруджа? Да нисколько. Он совершал свой жизненный путь, сторонясь всех, и те, кто его хорошо знал, считали, что отпугивать малейшее проявление симпатии ему даже как-то сладко. И вот однажды - и притом не когда-нибудь, а в самый сочельник, - старик Скрудж корпел у себя в конторе над счетными книгами. Была холодная, унылая погода, да к тому же еще туман, и Скрудж слышал, как за окном прохожие сновали взад и вперед, громко топая по тротуару, отдуваясь и колотя себя по бокам, чтобы согреться. Городские часы на колокольне только что пробили три, но становилось уже темно, да в тот день и с утра все, и огоньки свечей, затеплившихся в окнах контор, ложились багровыми мазками на темную завесу тумана - такую плотную, что, казалось, ее можно пощупать рукой. Туман заползал в каждую щель, просачивался в каждую замочную скважину, и даже в этом тесном дворе дома напротив, едва различимые за густой грязно-серой пеленой, были похожи на призраки. Глядя на клубы тумана, спускавшиеся все ниже и ниже, скрывая от глаз все предметы, можно было подумать, что сама Природа открыла где-то по соседству пивоварню и варит себе пиво к празднику. Скрудж держал дверь конторы приотворенной, дабы иметь возможность приглядывать за своим клерком, который в темной маленькой каморке, вернее сказать чуланчике, переписывал бумаги. Если у Скруджа в камине угля было маловато, то у клерка и того меньше, - казалось, там тлеет один-единственный уголек. Но клерк не мог подбросить угля, так как Скрудж держал ящик с углем у себя в комнате, и стоило клерку появиться там с каминным совком, как хозяин начинал выражать опасение, что придется ему расстаться со своим помощником. Поэтому клерк обмотал шею потуже белым шерстяным шарфом и попытался обогреться у свечки, однако, не обладая особенно пылким воображением, и тут потерпел неудачу. - С наступающим праздником, дядюшка! Желаю вам хорошенько повеселиться на святках! - раздался жизнерадостный возглас. Это был голос племянника Скруджа. Молодой человек столь стремительно ворвался в контору, что Скрудж - не успел поднять голову от бумаг, как племянник уже стоял возле его стола. - Вздор! - проворчал Скрудж. - Чепуха! Племянник Скруджа так разогрелся, бодро шагая по морозцу, что казалось, от него пышет жаром, как от печки. Щеки у него рдели - прямо любо-дорого смотреть, глаза сверкали, а изо рта валил пар. - Это святки - чепуха, дядюшка? - переспросил племянник. - Верно, я вас не понял! - Слыхали! - сказал Скрудж. - Повеселиться на святках! А ты-то по какому праву хочешь веселиться? Какие у тебя основания для веселья? Или тебе кажется, что ты еще недостаточно беден? - В таком случае, - весело отозвался племянник, - по какому праву вы так мрачно настроены, дядюшка? Какие у вас основания быть угрюмым? Или вам кажется, что вы еще недостаточно богаты? На это Скрудж, не успев приготовить более вразумительного ответа, повторил свое "вздор" и присовокупил еще "чепуха!". - Не ворчите, дядюшка, - сказал племянник. - А что мне прикажешь делать. - возразил Скрудж, - ежели я живу среди таких остолопов, как ты? Веселые святки! Веселые святки! Да провались ты со своими святками! Что такое святки для таких, как ты? Это значит, что пора платить по счетам, а денег хоть шаром покати. Пора подводить годовой баланс, а у тебя из месяца в месяц никаких прибылей, одни убытки, и хотя к твоему возрасту прибавилась единица, к капиталу не прибавилось ни единого пенни. Да будь моя воля, - негодующе продолжал Скрудж, - я бы такого олуха, который бегает и кричит: "Веселые святки! Веселые святки!" - сварил бы живьем вместе с начинкой для святочного пудинга, а в могилу ему вогнал кол из остролиста *. - Дядюшка! - взмолился племянник. - Племянник! - отрезал дядюшка. - Справляй свои святки как знаешь, а мне предоставь справлять их по-своему. - Справлять! - воскликнул племянник. - Так вы же их никак не справляете! - Тогда не мешай мне о них забыть. Много проку тебе было от этих святок! Много проку тебе от них будет! - Мало ли есть на свете хороших вещей, от которых мне не было проку, - отвечал племянник. - Вот хотя бы и рождественские праздники. Но все равно, помимо благоговения, которое испытываешь перед этим священным словом, и благочестивых воспоминаний, которые неотделимы от него, я всегда ждал этих дней как самых хороших в году. Это радостные дни - дни милосердия, доброты, всепрощения. Это единственные дни во всем календаре, когда люди, словно по молчаливому согласию, свободно раскрывают друг другу сердца и видят в своих ближних, - даже в неимущих и обездоленных, - таких же людей, как они сами, бредущих одной с ними дорогой к могиле, а не каких-то существ иной породы, которым подобает идти другим путем. А посему, дядюшка, хотя это верно, что на святках у меня еще ни разу не прибавилось ни одной монетки в кармане, я верю, что рождество приносит мне добро и будет приносить добро, и да здравствует рождество! Клерк в своем закутке невольно захлопал в ладоши, но тут же, осознав все неприличие такого поведения, бросился мешать кочергой угли и погасил последнюю худосочную искру... - Эй, вы! - сказал Скрудж. - Еще один звук, и вы отпразднуете ваши святки где-нибудь в другом месте. А вы, сэр, - обратился он к племяннику, - вы, я вижу, краснобай. Удивляюсь, почему вы не в парламенте. - Будет вам гневаться, дядюшка! Наведайтесь к нам завтра и отобедайте у нас. Скрудж отвечал, что скорее он наведается к... Да, так и сказал, без всякого стеснения, и в заключение добавил еще несколько крепких словечек. - Да почему же? - вскричал племянник. - Почему? - А почему ты женился? - спросил Скрудж. - Влюбился, вот почему. - Влюбился! - проворчал Скрудж таким тоном, словно услышал еще одну отчаянную нелепость вроде "веселых святок". - Ну, честь имею! - Но послушайте, дядюшка, вы же и раньше не жаловали меня своими посещениями, зачем же теперь сваливать все на мою женитьбу? - Честь имею! - повторил Скрудж. - Да я же ничего у вас не прошу, мне ничего от вас не надобно. Почему нам не быть друзьями? - Честь имею! - сказал Скрудж. - Очень жаль, что вы так непреклонны. Я ведь никогда не ссорился с вами, и никак не пойму, за что вы на меня сердитесь. И все-таки я сделал эту попытку к сближению ради праздника. Ну что ж, я своему праздничному настроению не изменю. Итак, желаю вам веселого рождества, дядюшка. - Честь имею! - сказал Скрудж. - И счастливого Нового года! - Честь имею! - повторил Скрудж. И все же племянник, покидая контору, ничем не выразил своей досады. В дверях он задержался, чтобы принести свои поздравления клерку, который хотя и окоченел от холода, тем не менее оказался теплее Скруджа и сердечно отвечал на приветствие. - Вот еще один умалишенный! - пробормотал Скрудж, подслушавший ответ клерка. - Какой-то жалкий писец, с жалованием в пятнадцать шиллингов, обремененный женой и детьми, а туда же - толкует о веселых святках! От таких впору хоть в Бедлам сбежать! А бедный умалишенный тем временем, выпустив племянника Скруджа, впустил новых посетителей. Это были два дородных джентльмена приятной наружности, в руках они держали какие-то папки и бумаги. Сняв шляпы, они вступили в контору и поклонились Скруджу. - Скрудж и Марли, если не ошибаюсь? - спросил один из них, сверившись с каким-то списком. - Имею я удовольствие разговаривать с мистером Скруджем или мистером Марли? - Мистер Марли уже семь лет как покоится на кладбище, - отвечал Скрудж. - Он умер в сочельник, ровно семь лет назад. - В таком случае, мы не сомневаемся, что щедрость и широта натуры покойного в равной мере свойственна и пережившему его компаньону, - произнес один из джентльменов, предъявляя свои документы. И он не ошибся, ибо они стоили друг друга, эти достойные компаньоны, эти родственные души. Услыхав зловещее слово "щедрость", Скрудж нахмурился, покачал головой и возвратил посетителю его бумаги. - В эти праздничные дни, мистер Скрудж, - продолжал посетитель, беря с конторки перо, - более чем когда-либо подобает нам по мере сил проявлять заботу о сирых и обездоленных, кои особенно страждут в такую суровую пору года. Тысячи бедняков терпят нужду в самом необходимом. Сотни тысяч не имеют крыши над головой. - Разве у нас нет острогов? - спросил Скрудж. - Острогов? Сколько угодно, - отвечал посетитель, кладя обратно перо. - А работные дома? - продолжал Скрудж. - Они действуют по-прежнему? - К сожалению, по-прежнему. Хотя, - заметил посетитель, - я был бы рад сообщить, что их прикрыли. - Значит, и принудительные работы существуют и закон о бедных остается в силе? - Ни то, ни другое не отменено. - А вы было напугали меня, господа. Из ваших слов я готов был заключить, что вся эта благая деятельность по каким-то причинам свелась на нет. Рад слышать, что я ошибся. - Будучи убежден в том, что все эти законы и учреждения ничего не дают ни душе, ни телу, - возразил посетитель, - мы решили провести сбор пожертвований в пользу бедняков, чтобы купить им некую толику еды, питья и теплой одежды. Мы избрали для этой цели сочельник именно потому, что в эти дни нужда ощущается особенно остро, а изобилие дает особенно много радости. Какую сумму позволите записать от вашего имени? - Никакой. - Вы хотите жертвовать, не открывая своего имени? - Я хочу, чтобы меня оставили в покое, - отрезал Скрудж. - Поскольку вы, джентльмены, пожелали узнать, чего я хочу, - вот вам мой ответ. Я не балую себя на праздниках и не имею средств баловать бездельников. Я поддерживаю упомянутые учреждения, и это обходится мне недешево. Нуждающиеся могут обращаться туда. - Не все это могут, а иные и не хотят - скорее умрут. - Если они предпочитают умирать, тем лучше, - сказал Скрудж. - Это сократит излишек населения. А кроме того, извините, меня это не интересует. - Это должно бы вас интересовать. - Меня все это совершенно не касается, - сказал Скрудж. - Пусть каждый занимается своим делом. У меня, во всяком случае, своих дел по горло. До свидания, джентльмены! Видя, что настаивать бесполезно, джентльмены удалились, а Скрудж, очень довольный собой, вернулся к своим прерванным занятиям в необычно веселом для него настроении. Меж тем за окном туман и мрак настолько сгустились, что на улицах появились факельщики, предлагавшие свои услуги - бежать впереди экипажей и освещать дорогу. Старинная церковная колокольня, чей древний осипший колокол целыми днями иронически косился на Скруджа из стрельчатого оконца, совсем скрылась из глаз, и колокол отзванивал часы и четверти где-то в облаках, сопровождая каждый удар таким жалобным дребезжащим тремоло, словно у него зуб на зуб не попадал от холода. А мороз все крепчал. В углу двора, примыкавшем к главной улице, рабочие чинили газовые трубы и развели большой огонь в жаровне, вокруг которой собралась толпа оборванцев и мальчишек. Они грели руки над жаровней и не сводили с пылающих углей зачарованного взора. Из водопроводного крана на улице сочилась вода, и он, позабытый всеми, понемногу обрастал льдом в тоскливом одиночестве, пока не превратился в унылую скользкую глыбу. Газовые лампы ярко горели в витринах магазинов, бросая красноватый отблеск на бледные лица прохожих, а веточки и ягоды остролиста, украшавшие витрины, потрескивали от жары. Зеленные и курятные лавки были украшены так нарядно и пышно, что превратились в нечто диковинное, сказочное, и невозможно было поверить, будто они имеют какое-то касательство к таким обыденным вещам, как купля-продажа. Лорд-мэр в своей величественной резиденции уже наказывал пяти десяткам поваров и дворецких не ударить в грязь лицом, дабы он мог встретить праздник как подобает, и даже маленький портняжка, которого он обложил накануне штрафом за появление на улице в нетрезвом виде и кровожадные намерения, уже размешивал у себя на чердаке свой праздничный пудинг, в то время как его тощая жена с тощим сынишкой побежала покупать говядину. Все гуще туман, все крепче мороз! Лютый, пронизывающий холод! Если бы святой Дунстан * вместо раскаленных щипцов хватил сатану за нос этаким морозцем, вот бы тот взвыл от столь основательного щипка! Некий юный обладатель довольно ничтожного носа, к тому же порядком уже искусанного прожорливым морозом, который вцепился в него, как голодная собака в кость, прильнул к замочной скважине конторы Скруджа, желая прославить рождество, но при первых же звуках святочного гимна: Да пошлет вам радость бог. Пусть ничто вас не печалит... Скрудж так решительно схватил линейку, что певец в страхе бежал, оставив замочную скважину во власти любезного Скруджу тумана и еще более близкого ему по духу мороза. Наконец пришло время закрывать контору. Скрудж с неохотой слез со своего высокого табурета, подавая этим безмолвный знак изнывавшему в чулане клерку, и тот мгновенно задул свечу и надел шляпу. - Вы небось завтра вовсе не намерены являться на работу? - спросил Скрудж. - Если только это вполне удобно, сэр. - Это совсем неудобно, - сказал Скрудж, - и недобросовестно. Но если я удержу с вас за это полкроны, вы ведь будете считать себя обиженным, не так ли? Клерк выдавил некоторое подобие улыбки. - Однако, - продолжал Скрудж, - вам не приходит в голову, что я могу считать себя обиженным, когда плачу вам жалование даром. Клерк заметил, что это бывает один раз в году. - Довольно слабое оправдание для того, чтобы каждый год, двадцать пятого декабря, запускать руку в мой карман, - произнес Скрудж, застегивая пальто на все пуговицы. - Но, как видно, вы во что бы то ни стало хотите прогулять завтра целый день. Так извольте послезавтра явиться как можно раньше. Клерк пообещал явиться как можно раньше, и Скрудж, продолжая ворчать, шагнул за порог. Во мгновение ока контора была заперта, а клерк, скатившись раз двадцать - дабы воздать дань сочельнику - по ледяному склону Корнхилла вместе с оравой мальчишек (концы его белого шарфа так и развевались у него за спиной, ведь он не мог позволить себе роскошь иметь пальто), припустился со всех ног домой в Кемден-Таун - играть со своими ребятишками в жмурки. Скрудж съел свой унылый обед в унылом трактире, где он имел обыкновение обедать, просмотрел все имевшиеся там газеты и, скоротав остаток вечера над приходно-расходной книгой, отправился домой спать. Он проживал в квартире, принадлежавшей когда-то его покойному компаньону. Это была мрачная анфилада комнат, занимавшая часть невысокого угрюмого здания в глубине двора. Дом этот был построен явно не на месте, и невольно приходило на ум, что когда-то на заре своей юности он случайно забежал сюда, играя с другими домами в прятки, да так и застрял, не найдя пути обратно. Теперь уж это был весьма старый дом и весьма мрачный, и, кроме Скруджа, в нем никто не жил, а все остальные помещения сдавались внаем под конторы. Во дворе была такая темень, что даже Скрудж, знавший там каждый булыжник, принужден был пробираться ощупью, а в черной подворотне дома клубился такой густой туман и лежал такой толстый слой инея, словно сам злой дух непогоды сидел там, погруженный в тяжелое раздумье. И вот. Достоверно известно, что в дверном молотке, висевшем у входных дверей, не было ничего примечательного, если не считать его непомерно больших размеров. Неоспоримым остается и тот факт, что Скрудж видел этот молоток ежеутренне и ежевечерне с того самого дня, как поселился в этом доме. Не подлежит сомнению и то, что Скрудж отнюдь не мог похвалиться особенно живой фантазией. Она у него работала не лучше, а пожалуй, даже и хуже, чем у любого лондонца, не исключая даже (а это сильно сказано!) городских советников, олдерменов и членов гильдии. Необходимо заметить еще, что Скрудж, упомянув днем о своем компаньоне, скончавшемся семь лет назад, больше ни разу не вспомнил о покойном. А теперь пусть мне кто-нибудь объяснит, как могло случиться, что Скрудж, вставив ключ в замочную скважину, внезапно увидел перед собой не колотушку, которая, кстати сказать, не подверглась за это время решительно никаким изменениям, а лицо Марли. Лицо Марли, оно не утопало в непроницаемом мраке, как все остальные предметы во дворе, а напротив того - излучало призрачный свет, совсем как гнилой омар в темном погребе. Оно не выражало ни ярости, ни гнева, а взирало на Скруджа совершенно так же, как смотрел на него покойный Марли при жизни, сдвинув свои бесцветные очки на бледный, как у мертвеца, лоб. Только волосы как-то странно шевелились, словно на них веяло жаром из горячей печи, а широко раскрытые глаза смотрели совершенно неподвижно, и это в сочетании с трупным цветом лица внушало ужас. И все же не столько самый вид или выражение этого лица было ужасно, сколько что-то другое, что было как бы вне его. Скрудж во все глаза уставился на это диво, и лицо Марли тут же превратилось в дверной молоток. Мы бы покривили душой, сказав, что Скрудж не был поражен и по жилам у него не пробежал тот холодок, которого он не ощущал с малолетства. Но после минутного колебания он снова решительно взялся за ключ, повернул его в замке, вошел в дом и зажег свечу. Правда, он помедлил немного, прежде чем захлопнуть за собой дверь, и даже с опаской заглянул за нее, словно боясь увидеть косицу Марли, торчащую сквозь дверь на лестницу. Но на двери не было ничего, кроме винтов и гаек, на которых держался молоток, и, пробормотав: "Тьфу ты, пропасть!", Скрудж с треском захлопнул дверь. Стук двери прокатился по дому, подобно раскату грома, и каждая комната верхнего этажа и каждая бочка внизу, в погребе виноторговца, отозвалась на него разноголосым эхом. Но Скрудж был не из тех, кого это может запугать. Он запер дверь на задвижку и начал не спеша подниматься по лестнице, оправляя по дороге свечу. Вам знакомы эти просторные старые лестницы? Так и кажется, что по ним можно проехаться в карете шестерней и протащить что угодно. И разве в этом отношении они не напоминают слегка наш новый парламент? Ну, а по той лестнице могло бы пройти целое погребальное шествие, и если бы даже кому-то пришла охота поставить катафалк поперек, оглоблями - к стене, дверцами - к перилам, и тогда на лестнице осталось бы еще достаточно свободного места. Не это ли послужило причиной того, что Скруджу почудилось, будто впереди него по лестнице сами собой движутся в полумраке похоронные дроги? Чтобы как следует осветить такую лестницу, не хватило бы и полдюжины газовых фонарей, так что вам нетрудно себе представить, в какой мере одинокая свеча Скруджа могла рассеять мрак. Но Скрудж на это плевать хотел и двинулся дальше вверх по лестнице. За темноту денег не платят, и потому Скрудж ничего не имел против темноты. Все же, прежде чем захлопнуть за собой тяжелую дверь своей квартиры, Скрудж прошелся по комнатам, чтобы удостовериться, что все в порядке. И не удивительно - лицо покойного Марли все еще стояло у него перед глазами. Гостиная, спальня, кладовая. Везде все как следует быть. Под столом - никого, под диваном - никого, в камине тлеет скупой огонек, миска и ложка ждут на столе, кастрюлька с жидкой овсянкой (коей Скрудж пользовал себя на ночь от простуды) - на полочке в очаге. Под кроватью - никого, в шкафу - никого, в халате, висевшем на стене и имевшем какой-то подозрительный вид, - тоже никого. В кладовой все на месте: ржавые каминные решетки, пара старых башмаков, две корзины для рыбы, трехногий умывальник и кочерга. Удовлетворившись осмотром, Скрудж запер дверь в квартиру - запер, заметьте, на два оборота ключа, что вовсе не входило в его привычки. Оградив себя таким образом от всяких неожиданностей, он снял галстук, надел халат, ночной колпак и домашние туфли и сел у камина похлебать овсянки. Огонь в очаге еле теплился - мало проку было от него в такую холодную ночь. Скруджу пришлось придвинуться вплотную к решетке и низко нагнуться над огнем, чтобы ощутить слабое дыхание тепла от этой жалкой горстки углей. Камин был старый-престарый, сложенный в незапамятные времена каким-то голландским купцом и облицованный диковинными голландскими изразцами, изображавшими сцены из священного писания. Здесь были Каины и Авели, дочери фараона и царицы Савские, Авраамы и Валтасары, ангелы, сходящие на землю на облаках, похожих на перины, и апостолы, пускающиеся в морское плавание на посудинах, напоминающих соусники, - словом, сотни фигур, которые могли бы занять мысли Скруджа. Однако нет - лицо Марли, умершего семь лет назад, возникло вдруг перед ним, ожившее вновь, как некогда жезл пророка *, и заслонило все остальное. И на какой бы изразец Скрудж ни глянул, на каждом тотчас отчетливо выступала голова Марли - так, словно на гладкой поверхности изразцов не было вовсе никаких изображений, во зато она обладала способностью воссоздавать образы из обрывков мыслей, беспорядочно мелькавших в его мозгу. - Чепуха! - проворчал Скрудж и принялся шагать по комнате. Пройдясь несколько раз из угла в угол, он снова сел на стул и откинул голову на спинку. Тут взгляд его случайно упал на колокольчик. Этот старый, давным-давно ставший ненужным колокольчик был, с какой-то никому неведомой целью, повешен когда-то в комнате и соединен с одним из помещений верхнего этажа. С безграничным изумлением и чувством неизъяснимого страха Скрудж заметил вдруг, что колокольчик начинает раскачиваться. Сначала он раскачивался еде заметно, и звона почти не было слышно, но вскоре он зазвонил громко, и ему начали вторить все колокольчики в доме. Звон длился, вероятно, не больше минуты, но Скруджу эта минута показалась вечностью. Потом колокольчики смолкли так же внезапно, как и зазвонили, - все разом. И тотчас откуда-то снизу донеслось бряцание железа - словно в погребе кто-то волочил по бочкам тяжелую цепь. Невольно Скруджу припомнились рассказы о том, что, когда в домах появляются привидения, они обычно влачат за собой цепи. Тут дверь погреба распахнулась с таким грохотом, словно выстрелили из пушки, и звон цепей стал доноситься еще явственнее. Вот он послышался уже на лестнице и начал приближаться к квартире Скруджа. - Все равно вздор! - молвил Скрудж. - Не верю я в привидения. Однако он изменился в лице, когда увидел одно из них прямо перед собой. Без малейшей задержки привидение проникло в комнату через запертую дверь и остановилось перед Скруджем. И в ту же секунду пламя, совсем было угасшее в очаге, вдруг ярко вспыхнуло, словно хотело воскликнуть: "Я узнаю его! Это - Дух Марли!" - и снова померкло. Да, это было его лицо. Лицо Марли. Да, это был Марли, со своей косицей, в своей неизменной жилетке, панталонах в обтяжку и сапогах. Кисточки на сапогах торчали, волосы на голове торчали, косица торчала, полы сюртука оттопыривались. Длинная цепь опоясывала его и волочилась за ним по полу на манер хвоста. Она была составлена (Скрудж отлично ее рассмотрел) из ключей, висячих, замков, копилок, документов, гроссбухов и тяжелых кошельков с железными застежками. Тело призрака было совершенно прозрачно, и Скрудж, разглядывая его спереди, отчетливо видел сквозь жилетку две пуговицы сзади на сюртуке. Скруджу не раз приходилось слышать, что у Марли нет сердца, но до той минуты он никогда этому не верил. Да он и теперь не мог этому поверить, хотя снова и снова сверлил глазами призрак и ясно видел, что он стоит перед ним, и отчетливо ощущал на себе его мертвящий взгляд. Он разглядел даже, из какой ткани сшит платок, которым была окутана голова и шея призрака, и подумал, что такого платка он никогда не видал у покойного Марли. И все же он не хотел верить своим глазам. - Что это значит? - произнес Скрудж язвительно и холодно, как всегда. - Что вам от меня надобно? - Очень многое. - Не могло быть ни малейшего сомнения в том, что это голос Марли. - Кто вы такой? - Спроси лучше, кем я был? - Кем же вы были в таком случае? - спросил Скрудж, повысив голос. - Для привидения вы слишком приве... разборчивы. - Он хотел сказать привередливы, но побоялся, что это будет смахивать на каламбур. - При жизни я был твоим компаньоном, Джейкобом Марли. - Не хотите ли вы... Не можете ли вы присесть? - спросил Скрудж, с сомнением вглядываясь в духа. - Могу. - Так сядьте. Задавая свой вопрос, Скрудж не был уверен в том, что такое бестелесное существо в состоянии занимать кресло, и опасался, как бы не возникла необходимость в довольно щекотливых разъяснениях. Но призрак как ни в чем не бывало уселся в кресло по другую сторону камина. Казалось, это было самое привычное для него дело. - Ты не веришь в меня, - заметил призрак. - Нет, не верю, - сказал Скрудж. - Что же, помимо свидетельства твоих собственных чувств, могло бы убедить тебя в том, что я существую? - Не знаю. - Почему же ты не хочешь верить своим глазам и ушам? - Потому что любой пустяк воздействует на них, - сказал Скрудж. - Чуть что неладно с пищеварением, и им уже нельзя доверять. Может быть, вы вовсе не вы, а непереваренный кусок говядины, или лишняя капля горчицы, или ломтик сыра, или непрожаренная картофелина. Может быть, вы явились не из царства духов, а из духовки, почем я знаю! Скрудж был не очень-то большой остряк по природе, а сейчас ему и подавно было не до шуток, однако он пытался острить, чтобы хоть немного развеять страх и направить свои мысли на другое, так как, сказать по правде, от голоса призрака у него кровь стыла в жилах. Сидеть молча, уставясь в эти неподвижные, остекленелые глаза, - нет, черт побери, Скрудж чувствовал, что он этой пытки не вынесет! И кроме всего прочего, было что-то невыразимо жуткое в загробной атмосфере, окружавшей призрака. Не то, чтоб Скрудж сам не ощущал, но он ясно видел, что призрак принес ее с собой, ибо, хотя тот и сидел совершенно неподвижно, волосы, полы его сюртука и кисточки на сапогах все время шевелились, словно на них дышало жаром из какой-то адской огненной печи. - Видите вы эту зубочистку? - спросил Скрудж, переходя со страху в наступление и пытаясь хотя бы на миг отвратить от себя каменно-неподвижный взгляд призрака. - Вижу, - промолвило привидение. - Да вы же не смотрите на нее, - сказал Скрудж. - Не смотрю, но вижу, - был ответ. - Так вот, - молвил Скрудж. - Достаточно мне ее проглотить, чтобы до конца дней моих меня преследовали злые духи, созданные моим же воображением. Словом, все это вздор! Вздор и вздор! При этих словах призрак испустил вдруг такой страшный вопль и принялся так неистово и жутко греметь цепями, что Скрудж вцепился в стул, боясь свалиться без чувств. Но и это было еще ничто по сравнению с тем ужасом, который объял его, когда призрак вдруг размотал свой головной платок (можно было подумать, что ему стало жарко!) и у него отвалилась челюсть. Заломив руки, Скрудж упал на колени. - Пощади! - взмолился он. - Ужасное видение, зачем ты мучаешь меня! - Суетный ум! - отвечал призрак. - Веришь ты теперь в меня или нет? - Верю, - воскликнул Скрудж. - Как уж тут не верить! Но зачем вы, духи, блуждаете по земле, и зачем ты явился мне? - Душа, заключенная в каждом человеке, - возразил призрак, - должна общаться с людьми и, повсюду следуя за ними, соучаствовать в их судьбе. А тот, кто не исполнил этого при жизни, обречен мыкаться после смерти. Он осужден колесить по свету и - о, горе мне! - взирать на радости и горести людские, разделить которые он уже не властен, а когда-то мог бы - себе и другим на радость. И тут из груди призрака снова исторгся вопль, и он опять загремел цепями и стал ломать свои бестелесные руки. - Ты в цепях? - пролепетал Скрудж, дрожа. - Скажи мне - почему? - Я ношу цепь, которую сам сковал себе при жизни, - отвечал призрак. - Я ковал ее звено за звеном и ярд за ярдом. Я опоясался ею по доброй воле и по доброй воле ее ношу. Разве вид этой цепи не знаком тебе? Скруджа все сильнее пробирала дрожь. - Быть может, - продолжал призрак, - тебе хочется узнать вес и длину цепи, которую таскаешь ты сам? В некий сочельник семь лет назад она была ничуть не короче этой и весила не меньше. А ты ведь немало потрудился над нею с той поры. Теперь это надежная, увесистая цепь! Скрудж глянул себе под ноги, ожидая увидеть обвивавшую их железную цепь ярдов сто длиной, но ничего не увидел. - Джейкоб! - взмолился он. - Джейкоб Марли, старина! Поговорим о чем-нибудь другом! Утешь, успокой меня, Джейкоб! - Я не приношу утешения, Эбинизер Скрудж! - отвечал призрак. - Оно исходит из иных сфер. Другие вестники приносят его и людям другого сорта. И открыть тебе все то, что мне бы хотелось, я тоже не могу. Очень немногое дозволено мне. Я не смею отдыхать, не смею медлить, не смею останавливаться нигде. При жизни мой дух никогда не улетал за тесные пределы нашей конторы - слышишь ли ты меня! - никогда не блуждал за стенами этой норы - нашей меняльной лавки, - и годы долгих, изнурительных странствий ждут меня теперь. Скрудж, когда на него нападало раздумье, имел привычку засовывать руки в карманы панталон. Размышляя над словами призрака, он и сейчас машинально сунул руки в карманы, не вставая с колен и не подымая глаз. - Ты, должно быть, странствуешь не спеша, Джейкоб, - почтительно и смиренно, хотя и деловито заметил Скрудж. - Не спеша! - фыркнул призрак. - Семь лет как ты мертвец, - размышлял Скрудж. - И все время в пути! - Все время, - повторил призрак. - И ни минуты отдыха, ни минуты покоя. Непрестанные угрызения совести. - И быстро ты передвигаешься? - поинтересовался Скрудж. - На крыльях ветра, - отвечал призрак. - За семь лет ты должен был покрыть порядочное расстояние, - сказал Скрудж. Услыхав эти слова, призрак снова испустил ужасающий вопль и так неистово загремел цепями, тревожа мертвое безмолвие ночи, что постовой полисмен имел бы полное основание привлечь его к ответственности за нарушение общественной тишины и порядка. - О раб своих пороков и страстей! - вскричало привидение. - Не знать того, что столетия неустанного труда душ бессмертных должны кануть в вечность, прежде чем осуществится все добро, которому надлежит восторжествовать на земле! Не знать того, что каждая христианская душа, творя добро, пусть на самом скромном поприще, найдет свою земную жизнь слишком быстротечной для безграничных возможностей добра! Не знать того, что даже веками раскаяния нельзя возместить упущенную на земле возможность сотворить доброе дело. А я не знал! Не знал! - Но ты же всегда хорошо вел свои дела, Джейкоб, - пробормотал Скрудж, который уже начал применять его слова к себе. - Дела! - вскричал призрак, снова заламывая руки. - Забота о ближнем - вот что должно было стать моим делом. Общественное благо - вот к чему я должен был стремиться. Милосердие, сострадание, щедрость, вот на что должен был я направить свою деятельность. А занятия коммерцией - это лишь капля воды в безбрежном океане предначертанных нам дел. И призрак потряс цепью, словно в ней-то и крылась причина всех его бесплодных сожалений, а затем грохнул ею об пол. - В эти дни, когда год уже на исходе, я страдаю особенно сильно, - промолвило привидение. - О, почему, проходя в толпе ближних своих, я опускал глаза долу и ни разу не поднял их к той благословенной звезде, которая направила стопы волхвов к убогому крову. Ведь сияние ее могло бы указать и мне путь к хижине бедняка. У Скруджа уже зуб на зуб не попадал - он был чрезвычайно напуган тем, что призрак все больше и больше приходит в волнение. - Внемли мне! - вскричал призрак. - Мое время истекает. - Я внемлю, - сказал Скрудж, - но пожалей меня. Джейкоб, не изъясняйся так возвышенно. Прошу тебя, говори попроще! - Как случилось, что я предстал пред тобой, в облике, доступном твоему зрению, - я тебе не открою. Незримый, я сидел возле тебя день за днем. Открытие было не из приятных. Скруджа опять затрясло как в лихорадке, и он отер выступавший на лбу холодный пот. - И, поверь мне, это была не легкая часть моего искуса, - продолжал призрак. - И я прибыл сюда этой ночью, дабы возвестить тебе, что для тебя еще не все потеряно. Ты еще можешь избежать моей участи, Эбинизер, ибо я похлопотал за тебя. - Ты всегда был мне другом, - сказал- Скрудж. - Благодарю тебя. - Тебя посетят, - продолжал призрак, - еще три Духа. Теперь и у Скруджа отвисла челюсть. - Уж не об этом ли ты похлопотал, Джейкоб, не в этом ли моя надежда? - спросил он упавшим голосом. - В этом. - Тогда... тогда, может, лучше не надо, - сказал Скрудж. - Если эти Духи не явятся тебе, ты пойдешь по моим стопам, - сказал призрак. - Итак, ожидай первого Духа завтра, как только пробьет Час Пополуночи. - А не могут ли они прийти все сразу, Джейкоб? - робко спросил Скрудж. - Чтобы уж поскорее с этим покончить? - Ожидай второго на следующую ночь в тот же час. Ожидай третьего - на третьи сутки в полночь, с последнем ударом часов. А со мной тебе уже не суждено больше встретиться. Но смотри, для своего же блага запомни твердо все, что произошло с тобой сегодня. Промолвив это, дух Марли взял со стола свой платок и снова обмотал им голову. Скрудж догадался об этом, услыхав, как лязгнули зубы призрака, когда подтянутая платком челюсть стала на место. Тут он осмелился поднять глаза и увидел, что его потусторонний пришелец стоит перед ним, вытянувшись во весь рост и перекинув цепь через руку на манер шлейфа. Призрак начал пятиться к окну, и одновременно с этим рама окна стала потихоньку подыматься. С каждым его шагом она подымалась все выше и выше, и когда он достиг окна, оно уже было открыто. Призрак поманил Скруджа к себе, и тот повиновался. Когда между ними оставалось не более двух шагов, призрак предостерегающе поднял руку. Скрудж остановился. Он остановился не столько из покорности, сколько от изумления и страха. Ибо как только рука призрака поднялась вверх, до Скруджа донеслись какие-то неясные звуки: смутные и бессвязные, но невыразимо жалобные причитания и стоны, тяжкие вздохи раскаяния и горьких сожалений. Призрак прислушивался к ним с минуту, а затем присоединил свой голос к жалобному хору и, воспарив над землей, растаял во мраке морозной ночи за окном. Любопытство пересилило страх, и Скрудж тоже приблизился к окну и выглянул наружу. Он увидел сонмы привидений. С жалобными воплями и стенаниями они беспокойно носились по воздуху туда и сюда, и все, подобно духу Марли, были в цепях. Не было ни единого призрака, не отягощенного цепью, но некоторых (как видно, членов некоего дурного правительства) сковывала одна цепь. Многих Скрудж хорошо знал при жизни, а с одним пожилым призраком в белой жилетке был когда-то даже на короткой ноге. Этот призрак, к щиколотке которого был прикован несгораемый шкаф чудовищных размеров, жалобно сетовал на то, что лишен возможности помочь бедной женщине, сидевшей с младенцем на руках на ступеньках крыльца. Да и всем этим духам явно хотелось вмешаться в дела смертных и принести добро, но они уже утратили эту возможность навеки, и именно это и было причиной их терзаний. Туман ли поглотил призраки, или они сами превратились в туман - Скрудж так и не понял. Только они растаяли сразу, как и их призрачные голоса, и опять ночь была как ночь, и все стало совсем как прежде, когда он возвращался к себе домой. Скрудж затворил окно и обследовал дверь, через которую проник к нему призрак Марли. Она была по-прежнему заперта на два оборота ключа, - ведь он сам ее запер, - и все засовы были в порядке. Скрудж хотел было сказать "чепуха!", но осекся на первом же слоге. И то ли от усталости и пережитых волнений, то ли от разговора с призраком, который навеял на него тоску, а быть может и от соприкосновения с Потусторонним Миром или, наконец, просто от того, что час был поздний, но только Скрудж вдруг почувствовал, что его нестерпимо клонит ко сну. Не раздеваясь, он повалился на постель и тотчас заснул как убитый.