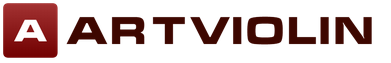Цели и задачи:
- сопоставить точки зрения А.И.Солженицына и В.Т.Шаламова в отношении личного опыта заключения в лагерях системы ГУЛАГ, обозначить черты сходства и различия жизненных позиций;
- познакомиться с лагерной прозой А.И.Солженицына и В.Т.Шаламова (“Один день Ивана Денисовича” и “Колымские рассказы”);
- проанализировать изменение отношения героев рассказов А.И.Солженицына и В.Т.Шаламова к наиболее важным аспектам человеческой жизни после пребывания в исправительно-трудовых лагерях;
- на основе полученных сведений оценить роль лагерной литературы как документа эпохи в социальном и историческом аспектах.
Ход урока
Вступительное слово учителя.
Лагерная проза - явление уникальное не только в русской, но и в мировой литературе. Она порождена напряженным духовным стремлением осмыслить итоги катастрофических для страны событий, свершившихся в ХХ столетии. Отсюда и тот нравственно-философский потенциал, который заключен в книгах бывших узников ГУЛАГа: И.Солоневича, Б.Ширяева, О.Волкова, А.Солженицына, В.Шаламова, А.Жигулина, Л.Бородина и др., чей личный творческий опыт позволил им не только запечатлеть ужасы гулаговских застенков, но и затронуть “вечные” проблемы человеческого существования. В лагерной прозе обнаружился не один русский мужик, а весь народ; всплыла на поверхность затонувшая в революции Атлантида.
Проза А.И.Солженицына и В.Т.Шаламова, одних из многочисленных мучеников не фашистских, а своих, советских лагерей, имеет одну принципиальную особенность – документальность, точность в описании действительности. Заявляя, что после двух мировых войн, революций, Колымы, Освенцима и Хиросимы читатель не может удовлетвориться старой русской прозой, В.Т.Шаламов ставит перед собой задачу создания “новой прозы”, более отвечающей духу времени. Эта “новая проза”, по его словам, должна сочетать документальную достоверность с эмоциональной убедительностью. В “новой прозе” нет места вымыслу, а приукрасить происходившее - значит обмануть, предать не только читателя, но и тех людей, чьи жизни были отняты несправедливым, жестоким государством. Писатели старались передать собственные ощущения с максимальной точностью. Как оказалось, сознание людей, безусловно, претерпевшее глобальные изменения, мировосприятие двух разных личностей, несмотря на прохождение во многом одинаковой “школы жизни”, не оставалось похожим даже в нечеловеческих условиях. Это доказывает многогранность человеческой личности, уникальность характера, индивидуальность восприятия окружающей действительности.
Каковы жизненные позиции А.И.Солженицына и В.Т.Шаламова в определении роли ГУЛАГа?
В произведениях А.И.Солженицына встречаются такого рода суждения:
“Страшно подумать, что б я стал за писатель (а стал бы), если б меня не посадили”.
“Был Божий указ, потому что лагерь направил меня наилучшим образом к моей главной теме”.
В автобиографичном романе “В круге первом” писатель объясняет благотворность тюрьмы, научившейся претворять зло через страдание в добро, избавившей сознание от сказок и мифов. “Откуда же лучше увидеть русскую революцию, чем сквозь решётки, вмурованные ею? Или где лучше узнать людей, чем здесь? И самого себя?”.
“Один день Ивана Денисовича” связан с одним из фактов биографии самого А.И.Солженицына - Экибастузским особым лагерем, где зимой 1950-51г.г. был создан этот рассказ.
Известно, что в книге “Архипелаг ГУЛАГ” А.И.Солженицын не стал писать о колымских лагерях, сказав, что о них всё поведал В.Т.Шаламов. Однако для В.Т.Шаламова это не собственно “колымская”, а тема судьбы народа и каждого человека, то есть гуманистическая и экзистенциальная. На этом пути и возможно понять, что исследовал, что открывал Варлам Шаламов, в результате собственного адского опыта добравшийся до “донных элементов человеческой души”.
В основу прозы В.Шаламова лег страшный опыт лагерей: многочисленные смерти, муки голода и холода, бесконечные унижения. В отличие от А.Солженицына, который полагал, что такой опыт может быть положительным, облагораживающим, В.Шаламов убежден в обратном: он утверждает, что лагерь превращает человека в животное, в забитое, презренное существо: “Лагерь – отрицательная школа жизни целиком и полностью. Ничего полезного, нужного никто оттуда не вынесет, ни сам заключённый, ни его начальник, ни его охрана, ни невольные свидетели – инженеры, геологи, врачи – ни начальники, ни подчинённые” (“Красный крест”).
Чем можно объяснить такой разный взгляд на лагерь?
По воспоминаниям Н.Я.Мандельштам, В.Шаламов, проведший в различных лагерях, в том числе на Колыме, 27 лет (с 1929г.), говорил, что “в таком лагере, как Иван Денисович, можно провести хоть всю жизнь. Это упорядоченный послевоенный лагерь, а совсем не ад Колымы”.
Правда В. Шаламова о человеке в лагере жестока: “Заключённый приучается там ненавидеть труд – ничему другому и не может он там научиться. Он обучается там лести, лганью, мелким и большим подлостям, становится эгоистом. Возвратившись на волю, он видит, что не только не вырос за время лагеря, но что интересы его сузились, стали бедными и грубыми. Моральные барьеры отодвинулись куда-то в сторону. Оказывается, можно делать подлости и всё же жить…, оказывается, человек, совершивший подлость, не умирает… Он чересчур высоко ценит свои страдания, забывая, что у каждого человека есть своё горе. К чужому горю он разучился относиться сочувственно – он просто его не понимает, не хочет понимать… Он приучается ненавидеть людей” (“Красный крест”). Смысл лагеря (как и любой организованной государственной преступности) в том и состоит, что он цинично меняет все социальные и моральные знаки на обратные. Другого смысла в лагере для политических нет, как бы они сами искренне ни заблуждались на этот счёт. Добро и зло – достаточно наивные категории, когда речь идёт о преступной, хорошо организованной системе.
Каково отношение героев рассказов А.И.Солженицына и В.Т.Шаламова к важным аспектам человеческой жизни?
1). Кто они – герои “новой прозы”?
В рассказе А.И.Солженицына “Один день Ивана Денисовича” описываются сутки из жизни заключённого Щ-854, Ивана Денисовича Шухова, крестьянина-колхозника, представителя трудового народа, рассудительного, расторопного, трудолюбивого, незлобивого человека.
Почему именно его сделал А.И.Солженицын героем рассказа? Происхождение Ивана Денисовича не играет решающей роли, ведь, в сущности, ГУЛАГ уравнивает в правах, а точнее в бесправии, всех заключённых. Шухов сохранил достоинство, он сумел в адских условиях, несмотря на обиду и несправедливость, остаться человеком, сохранив то, что на досмотре не отнимешь – ценности духовные. Шухов не просто главный герой рассказа, он ещё тот, чьими глазами автор показывает нам лагерь, автор как бы скрылся за Шуховым, предоставив ему право оценивать происходящее.
Герои “Колымских рассказов” В.Т.Шаламова – обычные в “прошлой”, долагерной жизни люди, вполне реальные, встреченные рассказчиком (а рассказчик – это сам Варлам Шаламов ) в местах заключения, где ему довелось побывать Они утратили собственное прошлое, забыли его. Они, подобно Марусе Крюковой, даже готовы добровольно расстаться с жизнью, которую просто перестали ценить. Они уже мертвецы, потому что лишены всяких нравственных принципов, памяти, воли.
2). Каково художественное пространство рассказов?
Художественное пространство рассказов – тесные камеры, нары, духота, холод на улице и в камерах. Для героев это стало привычным.
У А.И.Солженицына в “Одном дне Ивана Денисовича” главный герой, как и многие другие, сумел “приспособиться”, кое-как устроить свой быт, место на нарах. У В.Т.Шаламова нет места даже подобию уюта : “Внизу был ледяной погреб, и те, чьи места были внизу, половину ночи простаивали у печки, обнимая её по очереди руками, - печка была чуть тёплая. Все спали в том, в чём работали, - в шапках, телогрейках…” (рассказ “Плотники”).
Замкнутость пространства – постоянный и настойчивый мотив “Колымских рассказов”. Не то у А.И.Солженицына. Жизнь Шухова не ограничена лагерем, он вспоминает деревню, семью, войну. У Шаламова замкнутое пространство лагеря будто бездной отделено от всего мира: от материка, от семьи. Человек одинок, страшно одинок.
“Шухов поднял голову на небо и ахнул: небо чистое, а солнышко почти к обеду поднялось”, - стоит отметить, что солнце лишь в рассказе у А.И.Солженицына остаётся небесным светилом , помощником работающих героев в определении времени суток. Солнце “Колымских рассказов”, “бледное, малокровное”, каким бы ярким и горячим оно ни являлось по временам, - всегда солнце мёртвых. Оно присутствует здесь не как естественный источник света и жизни для всех, а как некая второстепенная деталь, если и не принадлежащая смерти, то уж и к жизни не имеющая никакого отношения. Оно никогда не светит всем.
3). Как человек в лагере, сталкиваясь с законами “блатного” мира, мог выжить и остаться человеком?
Законы “блатного” мира, его нечеловеческая мораль отравляют своим “зловонным” дыханием молодежь - в этом видит В.Т.Шаламов одну из грозных опасностей, которую несет с собой эта антисоциальная категория блатарей, не способная к “перековке”.
Шухов в “Одном дне Ивана Денисовича” существует как бы сам по себе, но он член 104-й бригады, о бригаде А.И.Солженицын пишет в рассказе неоднократно: “Вот это и есть бригада! Стрелял Павло из-под леса да на районы ночью налётывал – стал бы он тут горбить! А для бригадира – это дело другое!”. Образ бригады многослоен, он является примером сложной символики в рассказе.
У Ивана Денисовича сохранились понятия о гордости и чести, поэтому он никогда не скатится до уровня Фетюкова, одного из заключённых. Шухов не выпрашивает, не унижается, он неплохо приспособился к существующим условиям: знает, как получить дополнительную порцию еды в столовой, завязал полезные знакомства, понял, что тот, “кто знает лагерную жизнь, всегда может подработать”: “К Шухову деньги приходили только от частной работы: тапочки сошьёшь из тряпок давальца – два рубля, телогрейку вылатаешь – тоже по уговору”.
Вот мнение В.Т.Шаламова: “Именно блатной мир, его правила, этика и эстетика вносят растление в души всех людей лагеря – и заключённых, и начальников, и зрителей…”.
Выстраданная лагерная мудрость отливается под пером писателя в четкие, лаконичные парадоксальные формулы: “В лагере нельзя разделить ни радость, ни горе. Радость - потому что слишком опасно. Горе - потому что бесполезно. Канонический, классический “ближний” не облегчит твою душу, а 40 раз продаст тебя начальству: за окурок или по своей должности стукача и сексота, а то и просто ни за что - по-русски”. Даже лежащий рядом человек не может ни согреться сам, ни согреть другого. Его тело не содержит тепла, а душа уже не различает, где правда, где ложь. И это различие человека уже не интересует. Исчезает всякая потребность в простом человеческом общении. “Я не знаю людей, которые спали рядом со мной. Я никогда не задавал им вопросов, и не потому, что следовал арабской пословице: “Не спрашивай, и тебе не будут лгать”. Мне было все равно - будут мне лгать или не будут, я был вне правды, вне лжи”, - пишет В.Т.Шаламов в рассказе “Сентенция”.
В.Т.Шаламов ищет ответ на самый мучительный вопрос XX века – “как могли люди, воспитанные поколениями на гуманистической литературе, прийти… к Освенциму, к Колыме…
4) Каково представление заключённых о нравственных ценностях? Почему главной материальной ценностью стала еда?
Окружающий мир в повести А.И.Солженицына наполнен своими проблемами, которые люди решают так же, как на воле заботились бы о чём-то другом. Главное – человек продолжает жить, а не существовать.
Высокая степень приспособляемости героя (“Очень спешил Шухов, и всё же ответил прилично (помбригадир – тоже начальство, от него даже больше зависит, чем от начальника лагеря)”) не имеет ничего общего с приспособленчеством, униженностью, потерей человеческого достоинства. Это обычное, никем не осуждаемое явление, ведь Иван Денисович не делает это ради привилегий, не “стучит”, никого не предаёт, а потому совесть его чиста.
В.Т.Шаламов так описывает состояние героя рассказа “Одиночный замер” Дугаева: “Последнее время он плохо спал, голод не давал хорошо спать. Сны снились особенно мучительные – буханки хлеба, дымящиеся жирные супы”, - опыт ГУЛАГА подтвердил, что так называемая переоценка ценностей – не сложное психологическое явление, а неминуемая участь каждого зэка. На самом деле, человеку, чтобы не умереть физически, нужна пища и сон, а до смерти духовной никому нет дела. Заключённый понял, что ради еды он способен на многое. В рассказе “Ночью” зэки Глебов и Багрецов при свете луны выкапывают труп с целью снять с мертвеца одежду: “Багрецов улыбался. Завтра они продадут бельё, променяют на хлеб, может быть, даже достанут немного табаку…”. Так о какой высокой морали может идти речь, когда от голода мутнеет сознание? Писатель пытается показать, что нравственные и физические силы человека не безграничны. По его мнению, одна из главных характеристик лагеря - растление. Расчеловечение , говорит Шаламов, начинается именно с физических мук - красной нитью проходит через его рассказы эта мысль.
5) Что помогает героям не потерять желание продолжать жизнь?
В “Одном дне Ивана Денисовича” главный герой именно в работе находит смысл существования, она становится спасением от полного растления личности: “Шухов бойко управлялся. Работа – она как палка, конца в ней два: для людей делаешь – качество дай, для начальника делаешь – дай показуху”.
Символичен и образ ТЭЦ, которую строят зэки. Во время кладки Шухов словно вырывается из неволи, он становится свободным в своём труде.
Вот одно из писем В.Т.Шаламова А.И.Солженицыну по поводу рассказа “Один день Ивана Денисовича”: “Где этот чудный лагерь? Хоть бы годок там посидеть в своё время…” - это ироническое замечание В.Т.Шаламова – основа для рассмотрения других, совсем не “чудных” картин жизни.
В.Т.Шаламов писал: “Те, кто восхваляет лагерный труд, ставятся мною на одну доску с теми, кто повесил на лагерных воротах слова “Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства””. “Нет ничего циничнее этой надписи, - категорически возражал В.Шаламов.
“Лагерь был местом, где учили ненавидеть физический труд, ненавидеть труд вообще. Самой привилегированной группой лагерного населения были блатари – не для них ли труд был геройством и доблестью?”, “К честному труду в лагере призывают подлецы и те, которые нас бьют, калечат, съедают нашу пищу и заставляют работать живые скелеты – до самой смерти. Это выгодно им – этот “честный” труд. Они верят в его возможность ещё меньше, чем мы”, - утверждают герои рассказа Шаламова “Сухим пайком”, один из которых в конце повествования отрубает сам себе 4 пальца, чтобы лишить себя возможности работать, облегчить участь, спастись. На что только ни готов человек, помещенный в адские условия…
6) Как герои рассказов представляют себе будущее?
Рассказ А.И.Солженицына “Один день Ивана Денисовича” завершается следующими словами: “Засыпал Шухов вполне удоволенный. На дню у него выдалось сегодня много удач: в карцер не посадили, на Соцгородок бригаду не выгнали, в обед он закосил кашу, бригадир хорошо закрыл процентовку, стену Шухов клал весело, с ножёвкой на шмоне не попался, подработал вечером у Цезаря и табачку купил. И не заболел, перемогся.
Прошёл день, ничем не омрачённый, почти счастливый”. Главный герой подвёл итог ещё одного ничем от остальных не отличающихся дня.
У заключённого, лишённого практически всего, что могло бы приносить счастье, всё же есть маленький повод порадоваться. А.И.Солженицын смог убедить читателей в том, что как бы ни старалось государство с помощью ГУЛАГа уничтожить человека как личность, морально подавить его, он продолжает верить, надеяться на лучшее.
Что есть жизнь в рассказах В.Т.Шаламова? Что есть злоба? Что есть смерть? Что происходит? Когда сегодня человека меньше истязают, чем вчера, - ну хотя бы перестают ежедневно избивать и потому – только поэтому! – смерть отодвигается, и он переходит в иное существование, которому нет определения?
Человек в нечеловеческих условиях - так можно обозначить сквозную тему “Колымских рассказов” В.Т.Шаламова. Попадая в лагерь, человек как бы теряет все, что связывает его с нормальной человеческой средой обитания, с прежним опытом, который теперь неприменим. Так у В.Т.Шаламова появляются понятия “первая жизнь” (долагерная) и “вторая жизнь” - жизнь в лагере.
Вместо того, чтобы сразу указать читателю прямые ответы, счастливые выходы из бездны зла, Шаламов всё глубже и глубже помещает нас в замкнутый, потусторонний мир, в эту смерть.
Похоже, что обречены все – все в стране, а может быть, даже в мире. Человек уже не принадлежит своей эпохе, современности – но одной только смерти . Всякая временная перспектива утрачивается, и это ещё один важнейший, постоянно повторяющийся мотив рассказов Шаламова.
И еще одна, может быть, главная особенность ГУЛАГа: в лагере нет понятия вины, ибо здесь находятся жертвы беззакония. В колымском лагерном аду заключенные не знают своей вины, поэтому не ведают ни раскаяния, ни желания искупить свой грех.
Какова социальная и историческая роль лагерной литературы как документа эпохи?
Лагерная жизнь не знала логики, и никакими логическими формулами невозможно было бы объяснить происходившее.
В.Т.Шаламов говорил: “Я летописец собственной души. Не более”. Его рассказы – это лишь правда, правда встречи человека и мира, правда столкновения личности с государственной машиной, правда борьбы за себя, внутри себя и вне себя. Перед нашими глазами буквально вспыхивают ужасные картины советских лагерей, в которых процветали беззаконие, бесчеловечность, насилие над “своими”. Практически любой был бессилен, не мог ни юридически, ни физически защитить себя от государственной “машины”. Безвыходность положения и представление о масштабах пропасти, в которую летела огромная страна, легко делали пассивным любого, кто попал в лагерь. Да и о каком оптимизме и борьбе может идти речь, когда у человека отобрали всё, даже здоровье и желание этим самым человеком оставаться? Варлам Шаламов говорил: “Я не верю в литературу. Не верю в ее возможность по исправлению человека . Опыт гуманистической литературы привел к кровавым казням двадцатого столетия перед моими глазами. Я не верю в возможность что-нибудь предупредить, избавить от повторения. История повторяется. И любой расстрел 37-го года может быть повторен”.
Сложно даже представить, сколько мужества, твёрдости, душевных сил потребовалось А.И.Солженицыну и героям его рассказов, чтобы даже в невообразимых, нечеловеческих условиях лагеря найти цель для продолжения жизни, не растерять ориентиров, и, более того, принять происходящее как возможность самосовершенствоваться, измениться в лучшую сторону: “Благословляю тебя, тюрьма, что ты была в моей жизни!” . Рассказать следующим поколениям о сути такого уникального явления во всей истории человечества, как ГУЛАГ, о причинах появления этой машины - значит для автора не просто сохранить память о прошедших через неё, но и предостеречь потомков.
Обоим писателям судьба предоставила возможность побывать в самом настоящем аду. Одну и ту же цель преследовали оба автора, публикуя лагерную прозу, ибо не считали нужным молчать об этом страшном опыте.
Почему В.Т.Шаламов упорно писал и писал о жизни заключённых, хотя сам же неоднократно подчеркивал, что лагерь - отрицательная школа для личности: “...человек не должен даже слышать о нем”?
Почему так скрупулезно, детально пытался А.И.Солженицын изобразить жизнь заключённых в лагерной прозе, старался вспомнить каждую мелочь, вникнуть в причины происходившего в стране в 30–50-е годы и последствия этого ужасающего произвола?
Дело в том, что писатели ощущали нравственную ответственность. Оценка тоталитарного государства и порождённого им ГУЛАГа и есть отрицание того вселенского зла, и есть его разрушение. Поразительно мужество художников, которые в той нечеловеческой обстановке сохранили силу и мощь духа, которые и проявились потом в их произведениях.
Несмотря на наличие принципиальной разницы во мнениях Александра Солженицына и Варлама Шаламова, есть то единственное и, тем не менее, главное, что сближает лагерную прозу обоих писателей – желание сообщить миру правду. Что делать нам, следующим поколениям, с этой правдой? Конечно же, приложить все силы, чтобы исключить даже возможность появления узаконенного произвола, подобного тому, что испытали на себе миллионы репрессированных граждан считавшейся великой страны. Не принимать во внимание произведения лагерной прозы - значит закрыть глаза на один из ярчайших примеров вседозволенности государственного масштаба, мысленно допустить не просто существование подобного явления, но и теоретическую возможность его повторения.
Литература
- Ерёмина Т.Я. Мастерские по литературе. 11-й класс. Метод. Пособие. – СПб.: “Паритет”, 2004. – 256 с. (Серия “Педагогическая мастерская”.)
- Есипов В. Традиции русского сопротивления// Шаламовский сборник. – Вып. 1. – Вологда,1994. – 478 с.
- Жигалова М.П. Русская литература?? века в старших классах.– Мн.: “Аверсэв”, 2003. – 270 с.
- Коган М.М., Козловская Н.В. Искусство написания сочинений. – СПб.: САГА, Азбука-классика, 2004. – 384 с.
- Мандельштам Н.Я. Вторая книга: Воспоминания. М., 1990. – 639 с.
- Русские писатели: ?? век: Биобиблиографический словарь. Часть 2. – М., 1998.
- Солженицын А. Архипелаг ГУЛАГ, т. І, М: ИНКОМ НВ, 1991. – 432 с.
- Солженицын А. Рассказы. – М.: ИНКОМ НВ, 1991. – 288 с.
- Шаламов В. Т. Колымские рассказы. Левый берег: [сб.]/В.Шаламов. – М.: АСТ: Транзиткнига, 2005. – 444, с.
- Шаламовский сборник. – Вып. 1. – Вологда, 1994. – 478 с.
- Шнейберг Л.Я., Кондаков И.В. От Горького до Солженицына: Пособие для поступающих в вузы. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: Высш. Шк., 1995. – 559 с.
- Ячменёва Т. Лагерная проза в русской литературе//Литература. – 1996. – №32.
СОДЕРЖАНИЕ
Через полвека (вступительная статья П.Спиваковского
)
От составителей
Перед публикацией (1961–1962)
В.Радзишевский
. Из истории публикации «Одного дня Ивана Денисовича»
К.Чуковский.
Литературное чудо
С.Маршак.
Правдивая повесть
М.Лифшиц.
О повести А.И.Солженицына «Один день Ивана Денисовича»
Борьба за «Ивана Денисовича» (1962–1965)
К.Симонов.
О прошлом во имя будущего
Г.Бакланов
. Чтоб это никогда не повторилось
В.Ермилов.
Во имя правды, во имя жизни
П.Косолапов.
Имя новое в нашей литературе
А.Дымшиц.
Жив человек
И.Кашницкий.
«Один день Ивана Денисовича». Критика и библиография
В.Шаламов.
Письмо А.И.Солженицыну
Г.Скульский.
Вся правда
Е.Бройдо.
Такому больше никогда не бывать! Заметки о повести А.Солженицына «Один день Ивана Денисовича»
И.Чичеров.
Во имя будущего
А.Чувакин.
Суровая правда. О повести А.Солженицына «Один день Ивана Денисовича»
В.Литвинов.
Да будет полной правда
Л.Афонин.
«Чтоб вдаль глядеть наверняка»
А.Астафьев.
Солнцу не прикажешь
Н.Кружков.
Так было, так не будет. О повести А.Солженицына «Один день Ивана Денисовича» («Новый мир», № 11)
М.Нольман.
Счёт тяжких дней
В.Ильичёв.
Большая правда
Ф.Самарин
. Так не будет!
Л.Фоменко
. Большие ожидания. Заметки о художественной прозе 1962 года
Г.Ломидзе.
Несколько мыслей
Г.Минаев.
Ф.Кузнецов.
День, равный жизни
Ф.Чапчахов.
Номера и люди
Н.Сергованцев.
Трагедия одиночества и сплошной быт…
Литература социалистического реализма всегда шла рука об руку с революцией. Из интервью главного редактора журнала «Новый мир» А.Т.Твардовского корреспонденту Юнайтед Пресс Интернейшнл в Москве Г.Шапиро
К.Чуковский.
Вина или беда?
В.Иванов. Не приукрашен ли герой? Письмо в редакцию
С.Артамонов. О повести Солженицына
В.Паллон.
Здравствуйте, кавторанг
А.Ставицкий.
За малым - многое
В.Сурганов
. А надо помнить
В.Лакшин.
Иван Денисович, его друзья и недруги
Общий труд критики (Редакционный дневник)
Ответственность! К годовщине встречи руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства
Н.Сергеев.
Преддверье...
Высокая требовательность. Из редакционной почты
В.Лакшин.
В редакцию «Литературной газеты»
От редакции
Ю.Карякин.
Эпизод из современной борьбы идей
Д.Лукач.
Социалистический реализм сегодня
А.Захарова.
Главному редактору «Известий», гор. Москва
Е.Гнедин.
Выход из лабиринта
Т.Винокур.
О языке и стиле повести А.И.Солженицына «Один день Ивана Денисовича»
Из партийных и правительственных архивов (1963–1974)
Записка Министерства культуры СССР о нежелательности экранизации в США повести А.И.Солженицына «Один день Ивана Денисовича»
Справка Главной редакции политических публикаций АПН о зарубежных откликах на книгу А.И.Солженицына «Один день Ивана Денисовича»
Записка Идеологического отдела ЦК КПСС об отсутствии предложений со стороны Л.Коэна об экранизации повести А.И.Солженицына «Один день Ивана Денисовича»
Записка Идеологического отдела ЦК КПСС о результатах работы Комитета по Ленинским премиям в области литературы и искусства
Записка прокуратуры СССР и КГБ при СМ СССР о мерах в связи с распространением анонимного документа с анализом повести «Один день Ивана Денисовича»
Приказ Главного управления по охране государственных тайн в печати
«Один день Ивана Денисовича» глазами русской эмиграции (1962–1984)
Е.Гаранин.
«Повесть, после которой писать по-старому нельзя...». Об «Одном дне Ивана Денисовича» А.Солженицына
Д.Шагаров.
Писатель Некрасов о «радостной вести». От спец. корреспондента «Посева»
Р.Гуль.
А.Солженицын и соцреализм: «Один день Ивана Денисовича»
З.Шаховская.
О правде и свободе Солженицына
Епископ Александр (Семёнов Тян-Шанский).
«День Ивана Денисовича»
А.Оболенский.
Алёша Достоевского и Солженицына. Доклад, прочитанный 29 июня 1972 г. на симпозиуме о Солженицыне в Norvich University (США)
Р.Плетнёв.
Один день Ивана Денисовича
Д.Безруких
. Труд народа. «Парадокс Ивана Денисовича»
Г.Герлинг-Грудзинский.
Егор и Иван Денисович
М.Шнеерсон.
Великое противостояние душ
Преодолевая запреты (СССР, 1988–1989)
Л.Воскресенский.
Здравствуйте, Иван Денисович!
«Учиться терпимости к живущим». Отклики на статью Елены Чуковской
Больше сдержанности, меньше эмоций. Что занимает взбудораженные умы взрослых людей: диалоги в цифрах
А.Хийр.
Жить не по лжи! К 70-летию (11 декабря) А.И.Солженицына
П.Паламарчук.
Александр Солженицын: путеводитель
В.Бондаренко.
Стержневая словесность. О прозе Александра Солженицына
Свободное обсуждение (с 1990)
М.Чудакова.
Сквозь звёзды к терниям. Смена литературных циклов
А.Латынина.
Крушение идеократии. От «Одного дня Ивана Денисовича» к «Архипелагу ГУЛАГ»
А.Белинков.
Почему был напечатан «Один день Ивана Денисовича»
В.Акимов.
«...Но люди и здесь живут!»
Л.Токер.
Некоторые особенности повествовательного метода в «Одном дне Ивана Денисовича»
Ю.Андреев.
Размышления о повести А.Солженицына «Один день Ивана Денисовича» в контексте литературы начала 60-х годов
В.Лакшин.
Первое слово о советской каторге
А.Немзер.
Непредусмотренный голос
А.Молько.
Повесть А.И.Солженицына «Один день Ивана Денисовича» на уроках литературы
А.Климов.
Иван Денисович и крестьянская точка зрения
Р.Темпест.
Геометрия ада: поэтика пространства и времени в повести «Один день Ивана Денисовича»
А.Газизова.
Конфликт временного и вечного в повести А.Солженицына «Один день Ивана Денисовича»
В.Акаткин.
По ком звонит рельс...
О.Алейников.
Особенности подцензурного повествования: «Записки из Мёртвого дома» Ф.М.Достоевского и «Один день Ивана Денисовича» А.И.Солженицына
О.Павлов.
Русский человек в XX веке. Александр Солженицын в зазеркалье каратаевщины
С.Кормилов.
«Мы забыли, что такие люди бывают». Ахматова и Солженицын
Т.Вознесенская.
Лагерный мир Александра Солженицына: тема, жанр, смысл
П.Басинский.
Ничего, кроме правды
В.Мамонтов.
Перечитывая «Ивана Денисовича». 40 лет назад в журнале «Новый мир» вышла знаменитая повесть Александра Солженицына
Н.Солженицына.
40 лет как один день Ивана Денисовича. Именно с этой книги началось постепенное исчезновение архипелага ГУЛАГ
В.Чертков.
По рельсам, по приобской дороге… Александру Солженицыну - 85
В.Акимов.
Прозрение. К 40-летию публикации рассказа А.И.Солженицына «Один день Ивана Денисовича»
Герои времени. Иван Денисович (Радио Свобода)
М.Николсон.
Иван Денисович: мифы происхождения
А.Урманов.
«Один день Ивана Денисовича» как зеркало эпохи ГУЛАГа
С.Красовская.
«Один день Ивана Денисовича»: ирония в композиционно-повествовательной структуре произведения
Н.Рубинштейн.
Как мы читали «Один день Ивана Денисовича»
М.Барыкова.
Пословицы и поговорки в рассказе А.И.Солженицына «Один день Ивана Денисовича»
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ
Это произведение потрясло современников. Рассказ внезапно выявил совершенно новое, дотоле невиданное измерение бытия. Как будто окружающий мир раздвинулся, и стало возможно увидеть судьбу России в XX веке совсем иначе и намного глубже, чем раньше. Стройность и кажущаяся непротиворечивость советской тоталитарной мифологии оказались опровергнуты самым, казалось бы, элементарным образом - обращением к тому, чего, согласно этому мифу, не только не было, но и в принципе быть не могло... И совсем рядом, в опасной близости с уже почти построенным коммунистическим «раем», вдруг открылся рукотворный лагерный ад, вполне реальный и пугающе «обыкновенный». Он давно уже существовал, ещё с 1918 года, но всегда был окружён глухим молчанием, - и вот теперь, с появлением солженицынского рассказа, реальность этого ада стало невозможно отрицать. Разумеется, уже прогремели хрущёвские разоблачения «культа личности» Сталина на XX съезде КПСС, да и без того многие знали или слышали о концлагерях в СССР, но магия тоталитарного мифа продолжала действовать, и в «заколдованное сознание» советского человека эта пугающая действительность по-прежнему не вмещалась.И вдруг в ноябре 1962-го, когда вышел в свет 11-й номер журнала «Новый мир» с «Одним днём Ивана Денисовича», целостность советского мифа оказалась разрушена. Нет, он не рухнул, однако его «истинность» в одночасье была поставлена под сомнение...
<...>
ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
Настоящий сборник посвящён полувековой истории читательского восприятия «Одного дня Ивана Денисовича». Откликов на рассказ так много, что для их переиздания понадобилось бы несколько томов, поэтому при отборе статей составители ограничились лишь самыми характерными, позволяющими услышать голоса как сторонников этого произведения, так и его противников - тех, кто увидел в лагерной теме опаснейшую идеологическую крамолу.Статьи даются под оригинальными заглавиями, со ссылками на источники.
Отдельные статьи печатаются с сокращениями, либо уже имеющими место в цитируемых источниках, либо вызванными ограничением объёма сборника, а также тем, что сокращённые места не имеют непосредственного отношения к «Ивану Денисовичу». Купюры обозначаются в тексте знаком <…>. Цитируемый текст рассказа выверен по наиболее авторитетным изданиям. Значительные расхождения помечаются в примечаниях составителей. Некоторые из не вошедших в данный сборник по вышеназванным причинам материалы читатель может найти на официальном сайте А.И.Солженицына: http://solzhenitsyn.ru .
Сборник состоит из нескольких разделов.
В первый раздел - «Перед публикацией (1961–1962)» - входят первые рецензии на рукопись ещё не известного автора.
Раздел - «Борьба за “Ивана Денисовича” (1962–1965)» - документальная история того, как это произведение, восторженно принятое большинством чистателей, постепенно выдавливалось из советской официальной культуры, чему не помешало даже первоначальное заступничество Н.С.Хрущёва.
Документы раздела «Из партийных и правительственных архивов (1963–1974)» говорят об истинном отношении советской партийной верхушки к «Одному дню Ивана Денисовича» и к его автору.
Статьи, помещённые в разделе «“Один день Ивана Денисовича” глазами русской эмиграции (1962–1984)», дают представление о том, как воспринимала это произведение русская диаспора на Западе.
Раздел «Преодолевая запреты (СССР, 1988–1989)» связан с возвращением имени Солженицына в перестроечном СССР и с борьбой свободного слова против постепенно слабеющего натиска коммунистов-ортодоксов.
Завершает сборник раздел «Свободное обсуждение (с 1990)», представляющий статьи зарубежных и российских исследователей, а также личные воспоминания, не стеснённые запретами и умолчаниями.
РЕЦЕНЗИИ
Андрей МартыновАнтология споров
Между социалистическим реализмом и русской классикой
НГ-ExLibris от 21.02.2013 г.
Чтение хорошего произведения всегда доставляет удовольствие. Но не менее познавательно знакомиться со взглядами на него критиков. Интересно, как в разное время оценивался тот или иной артефакт. Как произведение, ставшее в дальнейшем классикой, в лучшем случае недооценивалось, а зачастую просто отрицалось. Так, Дмитрий Писарев воспринимал «Евгения Онегина» как «невинную и бесцельную штучку» и выражал искреннее недоумение, почему «Мицкевич и Пушкин попались в число великих поэтов». А попутно призывал читателей последнего «поставить на полку, подобно тому, как мы уже это сделали с Ломоносовым, Державиным, Карамзиным и Жуковским». Можно вспомнить и критику «Грозы» Александра Островского со стороны Аполлона Григорьева.
Антология критических статей и сборник писем Александру Солженицыну посвящены дебютному произведению нобелевского лауреата.
Из сборника «Ивану Денисовичу» полвека» выясняется, что кто-то оценивал повесть как вклад в официальную литературу. Так, Константин Симонов ставил прозу Солженицына в рамки партийной идеологии (XXII съезд КПСС): «Подлинный помощник партии в святом и необходимом деле борьбы с культом личности». Более трезвые оценки были в Русском зарубежье. Критики, как правило, рассматривали повесть в контексте истории отечественной литературы. Соотносили с чеховским «Островом Сахалин» (каторжник Егор), толстовской «Войной и миром» (Платон Каратаев). Александр Оболенский сравнил образ Алеши-баптиста с Алешей Карамазовым. А Роман Гуль выражал сомнения в правомочности отождествления повести с жанром соцреализма.
В книге также приводятся статьи об «Одном дне» периода перестройки и постсоветского времени. Интересны и материалы из партийных архивов, касающихся Александра Исаевича. В частности, по поводу выдвижения «Ивана Денисовича» на соискание Ленинской премии: «Споры вокруг повести А.Солженицына приняли ненужную остроту и затянулись, а обсуждение остальных кандидатур проходило поспешно, поверхностно».
Жаль, что раздел материалов Русского зарубежья ограничился в основном републикацией (иногда с сокращениями) известных источников. «Посев», «Новый журнал» или «Русская мысль», в которых печатались статьи и рецензии о Солженицыне, не являются библиографическими редкостями. Некоторые из приведенных текстов размещены в Сети. К сожалению, не вошла в сборник такая характеристика повести из мюнхенского журнала «Свобода»: «Хрущев показал пример храбрости, обрушившись на мертвого Сталина. Писатели следуют его примеру. Однако храбрость ли это? Нет ли другого, более правильного названия? Допустим, к примеру, что Солженицын верно изобразил один день каторжной жизни в сталинском концлагере. Но может ли этот автор показать правдиво хоть один час… сегодняшней действительности?» Ошибочная оценка, в чем-то сближающаяся с советской периодикой? Но это тоже документ эпохи.
Из сборника читательских писем, многие из которых публикуются впервые, следует выделить переписку Солженицына с однополчанами. В частности, со своим командиром, комбригом Захаром Травкиным, который, несмотря на арест Солженицына, дал на него отличную боевую характеристику. Письма существенно дополняют биографию автора «Ракового корпуса». Также интересно письмо Юрия Лотмана в поддержку присуждения Солженицыну Ленинской премии.
Разные взгляды, разные подходы. И сейчас кто-то, как Писарев Пушкина, готов Солженицына «поставить на полку», если не сбросить «с парохода современности». А кто-то видит в нем второго Льва Толстого... Так что можно ждать продолжения.
Рассказ «Один день Ивана Денисовича» Солженицын задумал, когда был зимой 1950-1951 гг. в Экибазстузском лагере. Он решил описать все годы заключения одним днём, «и это будет всё». Первоначальное название рассказа – лагерный номер писателя.
Рассказ, который назывался «Щ-854. Один день одного зэка», написан в 1951 г. в Рязани. Там Солженицын работал учителем физики и астрономии. Рассказ был напечатан в 1962 г. в журнале «Новый мир» № 11 по ходатайству самого Хрущёва, дважды выходил отдельными книжками. Это первое напечатанное произведение Солженицына, принесшее ему славу. С 1971 г. издания рассказа уничтожались по негласной инструкции ЦК партии.
Солженицын получил множество писем от бывших заключённых. На этом материале он писал «Архипелаг ГУЛАГ», назвав «Один день Ивана Денисовича» пьедесталом к нему.
Главный герой Иван Денисович не имеет прототипа. Его характер и повадки напоминают солдата Шухова, который воевал в Великую Отечественную войну в батарее Солженицына. Но Шухов никогда не сидел. Герой – собирательный образ множества виденных Солженицыным заключённых и воплощение опыта самого Солженицына. Остальные герои рассказа написаны «с натуры», их прототипы имеют такие же биографии. Образ капитана Буйновского также собирательный.
Ахматова считала, что это произведение должен прочитать и выучить наизусть каждый человек в СССР.
Литературное направление и жанр
Солженицын назвал «Один день...» рассказом, но при печати в «Новом мире» жанр определили как повесть. Действительно, по объёму произведение может считаться повестью, но ни время действия, ни количество героев не соответствуют этому жанру. С другой стороны, в бараках сидят представители всех национальностей и слоёв населения СССР. Так что страна представляется местом заключения, «тюрьмой народов». А это обобщение позволяет назвать произведение повестью.
Литературное направление рассказа – реализм, не считая упомянутого модернистского обобщения. Как ясно из названия, показан один день заключённого. Это типичный герой, обобщённый образ не только заключённого, но и вообще советского человека, выживающего, несвободного.
Рассказ Солженицына самим фактом своего существования уничтожил стройную концепцию социалистического реализма.
Проблематика
Для советских людей рассказ открыл запретную тему – жизнь миллионов людей, попавших в лагеря. Рассказ как будто разоблачал культ личности Сталина, но имя Сталина один раз Солженицын упомянул по настоянию редактора «Нового мира» Твардовского. Для Солженицына, когда-то преданного коммуниста, попавшего в заключение за то, что в письме к другу ругал «Пахана» (Сталина), это произведение – разоблачение всего советского строя и общества.
В рассказе поднимается множество философских и этических проблем: свобода и достоинство человека, справедливость наказания, проблема взаимоотношений между людьми.
Солженицын обращаетс к традиционной для русской литературы проблеме маленького человека. Цель многочисленных советских лагерей – всех людей сделать маленькими, винтиками большого механизма. Кто маленьким стать не может, должен погибнуть. Рассказ обобщённо изображает всю страну как большой лагерный барак. Сам Солженицын говорил: «Мне виделся советский режим, а не Сталин один». Так понимали произведение читатели. Это быстро поняли и власти и объявили рассказ вне закона.
Сюжет и композиция
Солженицын задался целью описать один день, с раннего утра и до позднего вечера, обычного человека, ничем не примечательного заключённого. Через рассуждения или воспоминания Ивана Денисовича читатель узнаёт мельчайшие подробности жизни зэков, некоторые факты биографии главного героя и его окружения и причины, по которым герои попали в лагерь.
Этот день Иван Денисович считает почти счастливым. Лакшин замечал, что это сильный художественный ход, потому что читатель сам домысливает, каким может быть самый несчастный день. Маршак отметил, что это повесть не о лагере, а о человеке.
Герои рассказа
Шухов – крестьянин, солдат. Он попал в лагерь по обычной причине. Он честно воевал на фронте, но оказался в плену, из которого бежал. Этого было достаточно для обвинения.
Шухов – носитель народной крестьянской психологии. Его черты характера типичны для русского простого человека. Он добрый, но не лишён лукавства, выносливый и жизнестойкий, способен к любой работе руками, прекрасный мастер. Шухову странно сидеть в чистой комнате и целых 5 минут ничего не делать. Чуковский назвал его родным братом Василия Тёркина.
Солженицын умышленно не сделал героя интеллигентом или несправедливо пострадавшим офицером, коммунистом. Это должен был быть «средний солдат ГУЛАГа, на которого всё сыплется».
Лагерь и советская власть в рассказе описываются глазами Шухова и приобретают черты творца и его творения, но творец этот – враг человека. Человек в лагере противостоит всему. Например, силам природы: 37 градусов Шухова противостоят 27 градусам мороза.
У лагеря своя история, мифология. Иван Денисович вспоминает, как у него отобрали ботинки, выдав валенки (чтобы не было двух пар обуви), как, чтобы мучить людей, велели собирать хлеб в чемоданы (и нужно было помечать свой кусок). Время в этом хронотопе тоже течёт по своим законам, потому что в этом лагере ни у кого не было конца срока. В этом контексте иронично звучит утверждение, что человек в лагере дороже золота, потому что вместо потерянного зэка надзиратель добавит свою голову. Таким образом, количество людей в этом мифологическом мире не уменьшается.
Время тоже не принадлежит заключённым, потому что лагерник живёт для себя только 20 минут в день:10 минут за завтраком, по 5 за обедом и ужином.
В лагере особые законы, по которым человек человеку волк (недаром фамилия начальника режима лейтенанта Волковой). Для этого сурового мира даны свои критерии жизни и справедливости. Им учит Шухова его первый бригадир. Он говорит, что в лагере «закон – тайга», и учит, что погибает тот, кто лижет миски, надеется на санчасть и стучит «куму» (чекисту) на других. Но, если вдуматься, это законы человеческого общежития: нельзя унижаться, притворяться и предавать ближнего.
Всем героям рассказа автор глазами Шухова уделяет равное внимание. И все они ведут себя достойно. Солженицын восхищается баптистом Алёшкой, который не оставляет молитву и так искусно прячет в щель в стене книжечку, в которой переписано пол-Евангелия, что её до сих пор не нашли при обыске. Симпатичны писателю западные украинцы, бандеровцы, которые тоже молятся перед едой. Иван Денисович сочувствует Гопчику, мальчишке, которого посадили за то, что носил бандеровцам в лес молоко.
Бригадир Тюрин описан почти с любовью. Он – «сын ГУЛАГа, сидящий второй срок. Он заботится о своих подопечных, а бригадир – это всё в лагере.
Не теряют достоинства в любых обстоятельствах бывший кинорежиссёр Цезарь Маркович, бывший капитан второго ранга Буйновский, бывший бандеровец Павел.
Солженицын вместе со своим героем осуждает Пантелеева, который остаётся в лагере, чтобы стучать на кого-то, утратившего человеческий облик Фетюкова, который лижет миски и выпрашивает окурки.
Художественное своеобразие рассказа
В рассказе сняты языковые табу. Страна познакомилась с жаргоном заключённых (зэк, шмон, шерстить, качать права). В конце рассказа прилагался словарик для тех, кто имел счастье таких слов не узнать.
Рассказ написан от третьего лица, читатель видит Ивана Денисовича со стороны, весь его длинный день проходит перед глазами. Но при этом всё происходящее Солженицын описывает словами и мыслями Ивана Денисовича, человека из народа, крестьянина. Он выживает хитростью, изворотливостью. Так возникают особые лагерные афоризмы: работа – палка о двух концах; для людей давай качество, а для начальника – показуху; надо стараться. чтобы надзиратель тебя не видел в одиночку, а только в толпе.
В текстах Собрания сохранены особенности орфографии и пунктуации, которых придерживается автор.
{…} - комментарии В. В. Радзишевского.
Почти треть тюремно-лагерного срока - с августа 1950 по февраль 1953 г. - Александр Исаевич Солженицын отсидел в Экибастузском особом лагере на севере Казахстана. Там, на общих работах, и мелькнул долгим зимним днём замысел рассказа об одном дне одного зэка. «Просто был такой лагерный день, тяжёлая работа, я таскал носилки с напарником и подумал, как нужно бы описать весь лагерный мир - одним днём, - рассказал автор в телеинтервью с Никитой Струве (март 1976 г.). - Конечно, можно описать вот свои десять лет лагеря, там всю историю лагерей, - а достаточно в одном дне всё собрать, как по осколочкам, достаточно описать только один день одного среднего, ничем не примечательного человека с утра и до вечера. И будет всё». Александр Солженицын. Публицистика: В 3 т. Т. 2. Ярославль, 1996. С.424. В настоящем издании т. 23.
Рассказ написан в Рязани, где А. С. поселился в июне 1957 г. и с нового учебного года стал учителем физики и астрономии в средней школе № 2. Начат 18 мая 1959 г., закончен 30 июня. Работа заняла меньше полутора месяцев. «Это всегда получается так, если пишешь из густой жизни, быт которой ты чрезмерно знаешь, и не то что не надо там догадываться до чего-то, что-то пытаться понять, а только отбиваешься от лишнего материала, только-только чтобы лишнее не лезло, а вот вместить самое необходимое», - говорил автор в радиоинтервью для Би-би-си (8 июня 1982 г.), которое вёл Барри Холланд.Там же. Т 3. 1997. С. 21. В настоящем издании т. 24.
Сочиняя в лагере, А. С., чтобы сохранить сочинённое в тайне и с ним самого себя, заучивал наизусть сначала одни стихи, а под конец срока диалоги в прозе и даже сплошную прозу. В ссылке, а затем и реабилитированным он мог работать, не уничтожая отрывок за отрывком, но должен был таиться по-прежнему, чтобы избежать нового ареста. После перепечатки на машинке рукопись сжигалась. Сожжена и рукопись лагерного рассказа. А поскольку машинопись нужно было прятать, текст печатался на обеих сторонах листа, без полей и без пробелов между строчками.
Только через два с лишним года, после внезапной яростной атаки на Сталина, предпринятой его преемником Н. С. Хрущёвым на XXII съезде партии (17–31 октября 1961 г.), А. С. рискнул предложить рассказ в печать. «Пещерная машинопись» (из осторожности - без имени автора) 10 ноября 1961 г. была передана Р. Д. Орловой, женой тюремного друга А. С. - Льва Копелева, в отдел прозы журнала «Новый мир» Анне Самойловне Берзер. Машинистки переписали оригинал, у зашедшего в редакцию Льва Копелева Анна Самойловна спросила, как назвать автора, и Копелев предложил псевдоним по месту его жительства - А. Рязанский.
8 декабря 1961 г., едва главный редактор «Нового мира» Александр Трифонович Твардовский после месячного отсутствия появился в редакции, А. С. Берзер попросила его прочитать две непростых для прохождения рукописи. Одна не нуждалась в особой рекомендации хотя бы по наслышанности об авторе: это была повесть Лидии Чуковской «Софья Петровна». О другой же Анна Самойловна сказала: «Лагерь глазами мужика, очень народная вещь». Её-то Твардовский и взял с собой до утра. В ночь с 8 на 9 декабря он читает и перечитывает рассказ. Утром по цепочке до-званивается до того же Копелева, расспрашивает об авторе, узнаёт его адрес и через день телеграммой вызывает в Москву. 11 декабря, в день своего 43-летия, А. С. получил эту телеграмму: «Прошу возможно срочно приехать редакцию нового мира зпт расходы будут оплачены = Твардовский». Наталья Решетовская. Александр Солженицын и читающая Россия. М., 1990. С.53. А Копелев уже 9 декабря телеграфировал в Рязань: «Александр Трифонович восхищён статьёй» (так бывшие зэки договорились между собой шифровать небезопасный рассказ). Для себя же Твардовский записал в рабочей тетради 12 декабря: «Сильнейшее впечатление последних дней - рукопись А. Рязанского (Солонжицына), с которым встречусь сегодня». Александр Твардовский . Рабочие тетради 60-х годов // Знамя. 2000. № 6. С. 171. Настоящую фамилию автора Твардовский записал с голоса.
12 декабря Твардовский принял А. С., созвав для знакомства и беседы с ним всю головку редакции. «Предупредил меня Твардовский, - замечает А. С., - что напечатания твёрдо не обещает (Господи, да я рад был, что в ЧКГБ не передали!), и срока не укажет, но не пожалеет усилий». А. Солженицын. Бодался телёнок с дубом: Очерки литературной жизни. М., 1996. С. 28. В настоящем издании т. 28. Тут же главный редактор распорядился заключить с автором договор, как отмечает А. С… «по высшей принятой у них ставке (один аванс - моя двухлетняя зарплата)». Преподаванием А. С. зарабатывал тогда «шестьдесят рублей в месяц».Там же. С. 29.
Первоначальные названия рассказа - «Щ-854», «Один день одного зэка». Окончательное заглавие сочинено в редакции «Нового мира» в первый приезд автора по настоянию Твардовского «переброской предположений через стол с участием Копелева».Там же. С. 28.
По всем правилам советских аппаратных игр Твардовский стал исподволь готовить многоходовую комбинацию, чтобы в конце концов заручиться поддержкой главного аппаратчика страны Хрущёва - единственного человека, который мог разрешить публикацию лагерного рассказа. По просьбе Твардовского для передачи наверх письменные отзывы об «Иване Денисовиче» написали К. И. Чуковский (его заметка называлась «Литературное чудо»), С. Я. Маршак, К. Г. Паустовский, К. М. Симонов… Сам Твардовский составил краткое предисловие к повести и письмо на имя Первого секретаря ЦК КПСС, Председателя Совета Министров СССР Н. С. Хрущёва. 6 августа 1962 г. после девятимесячной редакционной страды рукопись «Одного дня Ивана Денисовича» с письмом Твардовского была отправлена помощнику Хрущёва - В. С. Лебедеву, согласившемуся, выждав благоприятный момент, познакомить патрона с необычным сочинением.
Твардовский писал:
«Дорогой Никита Сергеевич!
Я не счёл бы возможным посягать на Ваше время по частному литературному делу, если бы не этот поистине исключительный случай.
Речь идёт о поразительно талантливой повести А. Солженицына „Один день Ивана Денисовича“. Имя этого автора до сих пор никому не было известно, но завтра может стать одним из замечательных имён нашей литературы.
Это не только моё глубокое убеждение. К единодушной высокой оценке этой редкой литературной находки моими соредакторами по журналу „Новый мир“, в том числе К. Фединым, присоединяются и голоса других видных писателей и критиков, имевших возможность ознакомиться с ней в рукописи.
Но в силу необычности жизненного материала, освещаемого в повести, я испытываю настоятельную потребность в Вашем совете и одобрении.
Одним словом, дорогой Никита Сергеевич, если Вы найдёте возможность уделить внимание этой рукописи, я буду счастлив, как если бы речь шла о моём собственном произведении» .Континент. М.; Париж, 1993. № 75. С. 162.
Параллельно с продвижением рассказа через верховные лабиринты в журнале шла рутинная работа с автором над рукописью. 23 июля состоялось обсуждение рассказа на редколлегии. Член редколлегии, вскорости ближайший сотрудник Твардовского Владимир Лакшин записал в дневнике:
«Солженицына я вижу впервые. Это человек лет сорока, некрасивый, в летнем костюме - холщовых брюках и рубашке с расстёгнутым воротом. Внешность простоватая, глаза посажены глубоко. На лбу шрам. Спокоен, сдержан, но не смущён. Говорит хорошо, складно, внятно, с исключительным чувством достоинства. Смеётся открыто, показывая два ряда крупных зубов.
Твардовский предложил ему - в максимально деликатной форме, ненавязчиво - подумать о замечаниях Лебедева и Черноуцана (сотрудник ЦК КПСС, которому Твардовский давал рукопись Солженицына. - В. Р.). Скажем, прибавить праведного возмущения кавторангу, снять оттенок сочувствия бандеровцам, дать кого-то из лагерного начальства (надзирателя хотя бы) в более примирённых, сдержанных тонах, не все же там были негодяи.
Дементьев (заместитель главного редактора „Нового мира“. - В. Р.) говорил о том же резче, прямолинейнее. Яро вступился за Эйзенштейна, его „Броненосец "Потёмкин"“. Говорил, что даже с художественной точки зрения его не удовлетворяют страницы разговора с баптистом. Впрочем, не художество его смущает, а держат те же опасения. Дементьев сказал также (я на это возражал), что автору важно подумать, как примут его повесть бывшие заключённые, оставшиеся и после лагеря стойкими коммунистами.
Это задело Солженицына. Он ответил, что о такой специальной категории читателей не думал и думать не хочет. „Есть книга, и есть я. Может быть, я и думаю о читателе, но это читатель вообще, а не разные категории… Потом, все эти люди не были на общих работах. Они, согласно своей квалификации или бывшему положению, устраивались обычно в комендатуре, на хлеборезке и т. п. А понять положение Ивана Денисовича можно, только работая на общих работах, то есть зная это изнутри. Если бы я даже был в том же лагере, но наблюдал это со стороны, я бы этого не написал. Не написал бы, не понял и того, какое спасение труд…“
Зашёл спор о том месте повести, где автор прямо говорит о положении кавторанга, что он - тонко чувствующий, мыслящий человек - должен превратиться в тупое животное. И тут Солженицын не уступал: „Это же самое главное. Тот, кто не отупеет в лагере, не огрубит свои чувства - погибает. Я сам только тем и спасся. Мне страшно сейчас смотреть на фотографию, каким я оттуда вышел: тогда я был старше, чем теперь, лет на пятнадцать, и я был туп, неповоротлив, мысль работала неуклюже. И только потому спасся. Если бы, как интеллигент, внутренне метался, нервничал, переживал всё, что случилось, - наверняка бы погиб“.
В ходе разговора Твардовский неосторожно упомянул о красном карандаше, который в последнюю минуту может то либо другое вычеркнуть из повести. Солженицын встревожился и попросил объяснить, что это значит. Может ли редакция или цензура убрать что-то, не показав ему текста? „Мне цельность этой вещи дороже её напечатания“, - сказал он.
Солженицын тщательно записал все замечания и предложения. Сказал, что делит их на три разряда: те, с которыми он может согласиться, даже считает, что они идут на пользу; те, о которых он будет думать, трудные для него; и наконец, невозможные - те, с которыми он не хочет видеть вещь напечатанной.
Твардовский предлагал свои поправки робко, почти смущённо, а когда Солженицын брал слово, смотрел на него с любовью и тут же соглашался, если возражения автора были основательны». Владимир Лакшин. «Новый мир» во времена Хрущёва: Дневник и попутное. 1953–1964. М., 1991. С. 66–67.
Об этом же обсуждении написал и А. С..:
«Главное, чего требовал Лебедев, - убрать все те места, в которых кавторанг представлялся фигурой комической (по мерке Ивана Денисовича), как и был он задуман, и подчеркнуть партийность кавторанга (надо же иметь „положительного героя“!). Это казалось мне наименьшей из жертв. Убрал я комическое, осталось как будто „героическое“, но „недостаточно раскрытое“, как находили потом критики. Немного вздут оказывался теперь протест кавторанга на разводе (замысел был - что протест смешон), однако картины лагеря это, пожалуй, не нарушало. Потом надо было реже употреблять к конвойным слово „попки“, снизил я с семи до трёх; пореже - „гад“ и „гады“ о начальстве (было у меня густовато); и чтоб хоть не автор, но кавторанг осудил бы бандеровцев (придал я такую фразу кавторангу, однако в отдельном издании потом выкинул: кавторангу она была естественна, но их-то слишком густо поносили и без того). Ещё - присочинить зэкам какую-нибудь надежду на свободу (но этого я сделать не мог). И, самое смешное для меня, ненавистника Сталина, - хоть один раз требовалось назвать Сталина как виновника бедствий. (И действительно - он ни разу никем не был в рассказе упомянут! Это не случайно, конечно, у меня вышло: мне виделся советский режим, а не Сталин один.) Я сделал эту уступку: помянул „батьку усатого“ один раз…». Бодался телёнок с дубом. С. 41.
15 сентября Лебедев по телефону передал Твардовскому, что «Солженицын („Один день“) одобрен Н[икитой] С[ергееви]чем» А. Твардовский. Рабочие тетради 60-х годов // Знамя. 2000. № 7. С. 129. и что в ближайшие дни шеф пригласит его для разговора. Однако и сам Хрущёв счёл нужным заручиться поддержкой партийной верхушки. Решение о публикации «Одного дня Ивана Денисовича» принято 12 октября 1962 г. на заседании Президиума ЦК КПСС под давлением Хрущёва. И только 20 октября он принял Твардовского, чтобы сообщить о благоприятном результате его хлопот. О самом рассказе Хрущёв заметил: «Да, материал необычный, но, я скажу, и стиль, и язык необычный - не вдруг пошло. Что ж, я считаю, вещь сильная, очень. И она не вызывает, несмотря на такой материал, чувства тяжёлого, хотя там много горечи».Там же. С. 135.
Прочитав «Один день Ивана Денисовича» ещё до публикации, в машинописи, Анна Ахматова, описавшая в «Реквиеме» горе «стомильонного народа» по сю сторону тюремных затворов, с нажимом выговорила: «Эту повесть о-бя-зан прочи-тать и выучить наизусть - каждый гражданин изо всех двухсот миллионов граждан Советского Союза». Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой: В 3 т. М., 1997. Т. 2. С. 512.
Рассказ, для весомости названный редакцией в подзаголовке повестью, опубликован в журнале «Новый мир» (1962. № 11. С. 8 - 74; подписан в печать 3 ноября; сигнальный экземпляр доставлен главному редактору вечером 15 ноября; по свидетельству Владимира Лакшина, рассылка начата 17 ноября; вечером 19 ноября около 2 000 экз. завезены в Кремль для участников пленума ЦК) с заметкой А. Твардовского «Вместо предисловия». Тираж 96 900 экз. (по разрешению ЦК КПСС 25 000 были отпечатаны дополнительно). Переиздан в «Роман-газете» (М.: ГИХЛ, 1963. № 1/277. 47 с. 700 000 экз.) и книгой (М.: Советский писатель, 1963. 144 с. 100 000 экз.). 11 июня 1963 г. Владимир Лакшин записал: «Солженицын подарил мне выпущенный „Советским писателем“ на скорую руку „Один день…“. Издание действительно позорное: мрачная, бесцветная обложка, серая бумага. Александр Исаевич шутит: „Выпустили в издании ГУЛАГа“.» В. Лакшин. «Новый мир» во времена Хрущёва. С. 133.
«Для того чтобы её (повесть. - В. Р.) напечатать в Советском Союзе, нужно было стечение невероятных обстоятельств и исключительных личностей, - отметил А. С. в радиоинтервью к 20-летию выхода „Одного дня Ивана Денисовича“ для Би-би-си (8 июня 1982 г.). - Совершенно ясно: если бы не было Твардовского как главного редактора журнала - нет, повесть эта не была бы напечатана. Но я добавлю. И если бы не было Хрущёва в тот момент - тоже не была бы напечатана. Больше: если бы Хрущёв именно в этот момент не атаковал Сталина ещё один раз - тоже бы не была напечатана. Напечатание моей повести в Советском Союзе, в 62-м году, подобно явлению против физических законов, как если б, например, предметы стали сами подниматься от земли кверху или холодные камни стали бы сами нагреваться, накаляться до огня. Это невозможно, это совершенно невозможно. Система была так устроена, и за 45 лет она не выпустила ничего - и вдруг вот такой прорыв. Да, и Твардовский, и Хрущёв, и момент - все должны были собраться вместе. Конечно, я мог потом отослать за границу и напечатать, но теперь, по реакции западных социалистов, видно: если б её напечатали на Западе, да эти самые социалисты говорили бы: всё ложь, ничего этого не было, и никаких лагерей не было, и никаких уничтожений не было, ничего не было. Только потому у всех отнялись языки, что это напечатано с разрешения ЦК в Москве, вот это потрясло».Публицистика. Т. 3. С. 24–25.
«Не случись это (подача рукописи в „Новый мир“ и публикация на родине. - В. Р.) - случилось бы другое, и худшее, - записал А. С. пятнадцатью годами ранее, - я послал бы фотоплёнку с лагерными вещами - за границу, под псевдонимом Степан Хлынов, как она уже и была заготовлена. Я не знал, что в самом удачном варианте, если на Западе это будет и опубликовано и замечено, - не могло бы произойти и сотой доли того влияния».Бодался телёнок с дубом. С. 21–22.
На журнальную публикацию «Одного дня Ивана Денисовича» тотчас с восторгом откликнулась центральная пресса: Константин Симонов. О прошлом во имя будущего («Известия», 17 ноября); Григорий Бакланов. Чтоб это никогда не повторилось («Литературная газета», 22 ноября); В. Ермилов. Во имя правды, во имя жизни («Правда», 23 ноября); Ал. Дымшиц. Жив человек («Литература и жизнь», 28 ноября) и др. Однако и неприятие рассказа сразу же было публично обозначено, в частности в аллегорическом стихотворении Николая Грибачёва «Метеорит» («Известия», 30 ноября).
Характерна запись в дневнике К. И. Чуковского (24 ноября 1962 г.): «Сейчас вышел на улицу платить (колоссальные) деньги за дачу - и встретил Катаева. Он возмущён повестью „Один день“, которая напечатана в „Новом Мире“. К моему изумлению, он сказал: повесть фальшивая: в ней не показан протест. - Какой протест? - Протест крестьянина, сидящего в лагере. - Но ведь в этом же вся правда повести: палачи создали такие условия, что люди утратили малейшее понятие справедливости и под угрозой смерти не смеют и думать о том, что на свете есть совесть, честь, человечность. Человек соглашается считать себя шпионом, чтобы следователи не били его. В этом вся суть замечательной повести - а Катаев говорит: как он смел не протестовать хотя бы под одеялом. А много ли протестовал сам Катаев во время сталинского режима? Он слагал рабьи гимны, как и все». К. Чуковский. Дневник. 1930–1969. М., 1994. С. 329.
Тогда же, в ноябре 1962 г. (после 23-го), под свежим впечатлением от «Одного дня Ивана Денисовича» Варлам Шаламов писал автору:
«Я две ночи не спал - читал повесть, перечитывал, вспоминал…
Повесть - как стихи - в ней всё совершенно, всё целесообразно. Каждая строка, каждая сцена, каждая характеристика настолько лаконична, умна, тонка и глубока, что я думаю, что „Новый мир“ с самого начала своего существования ничего столь цельного, столь сильного не печатал. И столь нужного - ибо без честного решения этих самых вопросов ни литература, ни общественная жизнь не могут идти вперёд - всё, что идёт с недомолвками, в обход, в обман - приносило, приносит и принесёт только вред. <…>
Повесть эта очень умна, очень талантлива. Это - лагерь с точки зрения лагерного „работяги“ - который знает мастерство, умеет „заработать“, работяги, не Цезаря Марковича и не кавторанга. Это - не „доплывающий“ интеллигент, а испытанный великой пробой крестьянин, выдержавший эту пробу и рассказывающий теперь с юмором о прошлом.
В повести всё достоверно. Это лагерь „лёгкий“, не совсем настоящий. Настоящий лагерь в повести тоже показан и показан очень хорошо: этот страшный лагерь - Ижма Шухова - пробивается в повести, как белый пар сквозь щели холодного барака. Это тот лагерь, где работяг на лесоповале держали днём и ночью, где Шухов потерял зубы от цинги, где блатари отнимали пищу, где были вши, голод, где по всякой причине заводили дело. Скажи, что спички на воле подорожали, и заводят дело. Где на конце добавляли срока, пока не выдадут „весом“, „сухим пайком“ в семь граммов. Где было в тысячу раз страшнее, чем на каторге, где „номера не весят“. На каторге, в Особлаге, который много слабее настоящего лагеря. В обслуге здесь в[ольно]/н[аёмные] надзиратели (надзиратель на Ижме - бог, а не такое голодное создание, у которого моет пол на вахте Шухов). <…> В каторжном лагере, где сидит Шухов, у него есть ложка, ложка для настоящего лагеря - лишний инструмент. И суп, и каша такой консистенции, что можно выпить через борт, около санчасти ходит кот - невероятно для настоящего лагеря - кота давно бы съели. Это грозное, страшное былое Вам удалось показать, и показать очень сильно, сквозь эти вспышки памяти Шухова, воспоминания об Ижме. Школа Ижмы - это и есть та школа, где и выучился Шухов, случайно оставшийся в живых. Всё это в повести кричит полным голосом, для моего уха, по крайней мере. Есть ещё одно огромнейшее достоинство - это глубоко и очень тонко показанная крестьянская психология Шухова. Столь тонкая высокохудожественная работа мне ещё не встречалась, признаться, давно. Крестьянин, который сказывается во всём - и в интересе к „красилям“, и в любознательности, и природном цепком уме, и умении выжить, наблюдательности, осторожности, осмотрительности, чуть скептическом отношении к разнообразным Цезарям Марковичам, да и всевозможной власти, которую приходится уважать, умная независимость, умное покорство судьбе и умение приспособиться к обстоятельствам, и недоверие - всё это черты народа, людей деревни. Шухов гордится собой, что он - крестьянин, что он выжил, сумел выжить и умеет и поднести сухие валенки богатому бригаднику, и умеет „заработать“. <…>
Великолепно показано то смещение масштабов, которое есть у всякого старого арестанта, есть и у Шухова. Это смещение масштабов касается не только пищи (ощущение), когда глотает кружок колбасы - высшее блаженство, а и более глубоких вещей: и с Кильдигсом ему было интереснее говорить, чем с женой и т. д. Это - глубоко верно. Это - одна из важнейших лагерных проблем. Поэтому для возвращения нужен „амортизатор“ не менее двух-трёх лет. Очень тонко и мягко о посылке, которую всё-таки ждёшь, хотя и написал, чтоб не посылали. Выживу - так выживу, а нет - не спасёшь и посылками. Так и я писал, так и я думал перед списком посылок.
Вообще детали, подробности быта, поведение всех героев очень точны и очень новы, обжигающе новы. Стоит вспомнить только невыжатую тряпку, которую бросает Шухов за печку после мытья полов. Таких подробностей в повести - сотни - других, не новых, не точных, вовсе нет.
Вам удалось найти исключительно сильную форму. Дело в том, что лагерный быт, лагерный язык, лагерные мысли не мыслимы без матерщины, без ругани самым последним словом. В других случаях это может быть преувеличением, но в лагерном языке - это характерная черта быта, без которой решать этот вопрос успешно (а тем более образцово) нельзя. Вы его решили. Все эти „фуяслице“, „…яди“, всё это уместно, точно и - необходимо. Понятно, что и всякие „падлы“ занимают полноправное место и без них не обойтись. Эти „паскуды“, между прочим, тоже от блатарей, от Ижмы, от общего лагеря.
Необычайно правдивой фигурой в повести, авторской удачей, не уступающей главному герою, я считаю Алёшку, сектанта, и вот почему. За двадцать лет, что я провёл в лагерях и около них, я пришёл к твёрдому выводу - сумма многолетних, многочисленных наблюдений, - что если в лагере и были люди, которые несмотря на все ужасы, голод, побои и холод, непосильную работу сохранили и сохраняли неизменно человеческие черты - это сектанты и вообще религиозники, включая и православных попов. Конечно, были отдельные хорошие люди и из других „групп населения“, но это были только одиночки, да и, пожалуй, до случая, пока не было слишком тяжело. Сектанты же всегда оставались людьми.
В Вашем лагере хорошие люди - эстонцы. Правда, они ещё горя не видели - у них есть табак, еда. Голодать всей Прибалтике приходилось больше, чем русским - там всё народ крупный, рослый, а паёк ведь одинаковый, хотя лошадям дают паёк в зависимости от веса. „Доходили“ всегда и везде латыши, литовцы, эстонцы раньше из-за рослости своей, да ещё потому, что деревенский быт Прибалтики немного другой, чем наш. Разрыв между лагерным бытом больше. Были такие философы, которые смеялись над этим, дескать, не выдерживает Прибалтика против русского человека - эта мерзость встречается всегда.
Очень хорош бригадир, очень верен. <…> Таких бригадиров, как изображённый Вами, очень много, и вылеплен он очень хорошо. Опять же, в каждой детали, в каждой подробности его поведения. И исповедь его превосходна. Она и логична. Такие люди, отвечая на какой-то внутренний зов, неожиданно выговариваются сразу. И то, что он помогает тем немногим людям, кто ему помог, и то, что радуется смерти врагов - всё верно. <…>
Тонко и верно показано увлечение работой Шухова и других бригадников, когда они кладут стену. Бригадиру и помбригадиру размяться - в охотку. Для них это ничего не стоит. Но и остальные увлекаются в горячей работе - всегда увлекаются. Это верно. Значит, что работа ещё не выбила из них последние силы. Это увлечение работой несколько сродни тому чувству азарта, когда две голодных колонны обгоняют друг друга. Эта детскость души, сказывающаяся и в рёве оскорблений по адресу опоздавшего молдавана (чувство, которое и Шухов разделяет всецело), всё это очень точно, очень верно. Возможно, что такого рода увлечение работой и спасает людей. <…>
Повесть эта для внимательного читателя - откровение в каждой её фразе. Это первое, конечно, в нашей литературе произведение, обладающее и смелостью, и художественной правдой, и правдой пережитого, перечувствованного - первое слово о том, о чём все говорят, но ещё никто ничего не написал. <…>
Вся Ваша повесть - это та долгожданная правда, без которой не может литература наша двигаться вперёд». Варлам Шаламов. Новая книга: Воспоминания; Записные книжки; Переписка; Следственные дела. М., 2004. С. 641, 642–644, 645, 646, 647, 651.
С публикацией «Одного дня Ивана Денисовича» связано возвращение автора к работе над «Архипелагом ГУЛАГом». «Я ещё до „Ивана Денисовича“ задумал „Архипелаг“, - рассказал А. С. в телеинтервью компании CBS (17 июня 1974 г.), которое вёл Уолтер Кронкайт, - я чувствовал, что нужна такая систематическая вещь, общий план всего того, что было, и во времени, как это произошло. Но моего личного опыта и опыта моих товарищей, сколько я ни расспрашивал о лагерях, все судьбы, все эпизоды, все истории, - было мало для такой вещи. А когда напечатался „Иван Денисович“, то со всей России как взорвались письма ко мне, и в письмах люди писали, что́ они пережили, что́ у кого было. Или настаивали встретиться со мной и рассказать, и я стал встречаться. Все просили меня, автора первой лагерной повести, писать ещё, ещё, описать весь этот лагерный мир. Они не знали моего замысла и не знали, сколько у меня уже написано, но несли и несли мне недостающий материал».Публицистика. Т. 2. С. 98. «И так я собрал неописуемый материал, который в Советском Союзе и собрать нельзя, - только благодаря „Ивану Денисовичу“, - подытожил А. С. в радиоинтервью для Би-би-си 8 июня 1982 г. - Так что он стал как пьедесталом для „Архипелага ГУЛАГа“».Там же. Т. 3. С. 28.
В декабре 1963 г. «Один день Ивана Денисовича» был выдвинут на Ленинскую премию редколлегией «Нового мира» и Центральным государственным архивом литературы и искусства. По сообщению «Правды» (19 февраля 1964 г.), отобран «для дальнейшего обсуждения». Затем включён в список для тайного голосования. Премию не получил. Лауреатами в области литературы, журналистики и публицистики стали Олесь Гончар за роман «Тронка» и Василий Песков за книгу «Шаги по росе» («Правда», 22 апреля 1964 г.). «Уже тогда, в апреле 1964, в Москве поговаривали, что эта история с голосованием была „репетицией путча“ против Никиты: удастся или не удастся аппарату отвести книгу, одобренную Самим? За 40 лет на это никогда не смелели. Но вот осмелели - и удалось. Это обнадёживало их, что и Сам-то не крепок».Бодался телёнок с дубом. С. 92–93.
Со второй половины 60-х «Один день Ивана Денисовича» изымался из обращения в СССР вместе с другими публикациями А. С. Окончательный запрет на них введён распоряжением Главного управления по охране государственных тайн в печати, согласованным с ЦК КПСС, от 28 января 1974 г. В специально посвящённом А. С. приказе Главлита № 10 от 14 февраля 1974 г. перечислены подлежащие изъятию из библиотек общественного пользования номера журнала «Новый мир» с произведениями писателя (№ 11, 1962; № 1, 7, 1963; № 1, 1966) и отдельные издания «Одного дня Ивана Денисовича», включая перевод на эстонский язык и книгу «для слепых». Приказ снабжён примечанием: «Изъятию подлежат также иностранные издания (в том числе газеты и журналы) с произведениями указанного автора». Арлен Блюм. Запрещённые книги русских писателей и литературоведов. 1917–1991: Индекс советской цензуры с комментариями. СПб., 2003. С. 168. Запрет снят запиской Идеологического отдела ЦК КПСС от 31 декабря 1988 г.
С 1990 г. «Один день Ивана Денисовича» снова издаётся на родине.
В 1971 г. по «Одному дню Ивана Денисовича» снят англо-норвежский фильм (режиссёр Каспер Вреде, в роли Шухова Том Кортни). Впервые А. С. смог посмотреть его только в 1974 г. Выступая по французскому телевидению (9 марта 1976 г.), на вопрос ведущего об этом фильме ответил:
«Я должен сказать, что режиссёры и актёры этого фильма подошли очень честно к задаче, и с большим проникновением, они ведь сами не испытывали этого, не пережили, но смогли угадать это щемящее настроение и смогли передать этот замедленный темп, который наполняет жизнь такого заключённого 10 лет, иногда 25, если, как часто бывает, он не умрёт раньше. Ну, совсем небольшие упрёки можно сделать оформлению, это большей частью там, где западное воображение просто уже не может представить деталей такой жизни. Например, для нашего глаза, для моего или если бы мои друзья могли это видеть, бывшие зэки (увидят ли они когда-нибудь этот фильм?), - для нашего глаза телогрейки слишком чистые, не рваные; потом, почти все актёры, в общем, плотные мужчины, а ведь там в лагере люди на самой грани смерти, у них вваленные щёки, сил уже нет. По фильму, в бараке так тепло, что вот сидит там латыш с голыми ногами, руками, - это невозможно, замёрзнешь. Ну, это мелкие замечания, а в общем я, надо сказать, удивляюсь, как авторы фильма могли так понять и искренней душой попробовали передать западному зрителю наши страдания».Публицистика. Т. 2. С. 383–384.
День, описанный в рассказе, приходится на январь 1951 г.
ноябрь 1962
Дорогой Александр Исаевич!
Я две ночи не спал - читал повесть , перечитывал, вспоминал...
Повесть - как стихи - в ней все совершенно, все целесообразно. Каждая строка, каждая сцена, каждая характеристика настолько лаконична, умна, тонка и глубока, что я думаю, что «Новый мир» с самого начала своего существования ничего столь цельного, столь сильного не печатал. И столь нужного - ибо без честного решения этих самых вопросов ни литература, ни общественная жизнь не могут идти вперед - все, что идет с недомолвками, в обход, в обман- приносило, приносит и принесет только вред.
Позвольте поздравить Вас, себя, тысячи оставшихся в живых и сотни тысяч умерших (если не миллионы), ведь они живут тоже с этой поистине удивительной повестью.
Повесть очень хороша. Мне случалось слышать отзывы о ней - ее ведь ждала вся Москва. Даже позавчера, когда я взял одиннадцатый номер «Нового мира» и вышел с ним на площадь Пушкинскую, три или четыре человека за 20-30 минут спросили: «Это одиннадцатый номер?» - «Да, одиннадцатый». - «Это где повесть о лагерях?» - «Да, да!» - «А где Вы взяли, где купили?»
Я получил несколько писем (я это говорил Вам в «Новом мире»), где очень-очень эту повесть хвалили. Но только прочтя ее сам, я вижу, что похвалы преуменьшены неизмеримо. Дело, очевидно, в том, что материал этот такого рода, что люди, не знающие лагеря (счастливые люди, ибо лагерь - школа отрицательная - даже часа не надо быть человеку в лагере, минуты его не видеть), не смогут оценить эту повесть во всей ее глубине, тонкости, верности. Это и в рецензиях видно, и в симоновской, и в баклановской, и в ермиловской. Но о рецензиях я писать Вам не буду.
Повесть эта очень умна, очень талантлива. Это - лагерь с точки зрения лагерного «работяги» - который знает мастерство, умеет «заработать», работяги, не Цезаря Марковича и не кавторанга. Это - не «доплывающий» интеллигент, а испытанный великой пробой крестьянин, выдержавший эту пробу и рассказывающий теперь с юмором о прошлом
В повести все достоверно. Это лагерь «легкий», не совсем настоящий. Настоящий лагерь в повести тоже показан и показан очень хорошо: этот страшный лагерь - Ижма Шухова - пробивается в повести, как белый пар сквозь щели холодного барака. Это тот лагерь, где работяг на лесоповале держали днем и ночью, где Шухов потерял зубы от цинги, где блатари отнимали пищу, где были вши, голод, где по всякой причине заводили дело. Скажи, что спички на воле подорожали, и заводят дело. Где на конце добавляли срока, пока не выдадут «весом», «сухим пайком» в семь граммов. Где было в тысячу раз страшнее, чем на каторге, где «номера не весят». На каторге, в Особлаге, который много слабее настоящего лагеря. В обслуге здесь в/н надзиратели (надзиратель на Ижме - бог, а не такое голодное создание, у которого моет пол на вахте Шухов). В Ижме... Где царят блатари и блатная мораль определяет поведение и заключенных, и начальства, особенно воспитанного на романах Шейнина и погодинских «Аристократах». В каторжном лагере, где сидит Шухов, у него есть ложка, ложка для настоящего лагеря - лишний инструмент. И суп, и каша такой консистенции, что можно выпить через борт, около санчасти ходит кот - невероятно для настоящего лагеря - кота давно бы съели. Это грозное, страшное былое Вам удалось показать, и показать очень сильно, сквозь эти вспышки памяти Шухова, воспоминания об Ижме. Школа Ижмы - это и есть та школа, где и выучился Шухов, случайно оставшийся в живых. Все это в повести кричит полным голосом, для моего уха, по крайней мере. Есть еще одно огромнейшее достоинство - это глубоко и очень тонко показанная крестьянская психология Шухова. Столь тонкая высокохудожественная работа мне еще не встречалась, признаться, давно. Крестьянин, который сказывается во всем - и в интересе к «красилям» , и в любознательности, и природном цепком уме, и умении выжить, наблюдательности, осторожности, осмотрительности, чуть скептическом отношении к разнообразным Цезарям Марковичам, да и всевозможной власти, которую приходится уважать, умная независимость, умное покорство судьбе и умение приспособиться к обстоятельствам, и недоверие - все это черты народа, людей деревни. Шухов гордится собой, что он - крестьянин, что он выжил, сумел выжить и умеет и поднести сухие валенки богатому бригаднику, и умеет «заработать». Я не буду перечислять всех художественных подробностей, свидетельствующих об этом. Вы их знаете сами.
Великолепно показано то смещение масштабов, которое есть у всякого старого арестанта, есть и у Шухова. Это смещение масштабов касается не только пищи (ощущение), когда глотает кружок колбасы - высшее блаженство, а и более глубоких вещей: и с Кильгасом ему было интереснее говорить, чем с женой и т. д. Это - глубоко верно. Это - одна из важнейших лагерных проблем. Поэтому для возвращения нужен «амортизатор» не менее двух-трех лет. Очень тонко и мягко о посылке, которую все-таки ждешь, хотя и написал, чтоб не посылали. Выживу - так выживу, а нет - не спасешь и посылками. Так и я писал, так и я думал перед списком посылок.
Вообще детали, подробности быта, поведение всех героев очень точны и очень новы, обжигающе новы. Стоит вспомнить только невыжатую тряпку, которую бросает Шухов за печку после мытья полов. Таких подробностей в повести - сотни - других не новых, не точных вовсе нет.
Вам удалось найти исключительно сильную форму. Дело в том, что лагерный быт, лагерный язык, лагерные мысли не мыслимы без матерщины, без ругани самым последним словом. В других случаях это может быть преувеличением, но в лагерном языке - это характерная черта быта, без которой решать этот вопрос успешно (а тем более образцово) нельзя. Вы его решили. Все эти «фуяслице», «...яди», все это уместно, точно и - необходимо.
Понятно, что и всякие «падлы» занимают полноправное место и без них не обойтись. Эти «паскуды», между прочим, тоже от блатарей, от Ижмы, от общего лагеря.
Необычайно правдивой фигурой в повести, авторской удачей, не уступающей главному герою, я считаю Алешку, сектанта, и вот почему. За двадцать лет, что я провел в лагерях и около них, я пришел к твердому выводу - сумма многолетних, многочисленных наблюдений - что если в лагере и были люди, которые несмотря на все ужасы, голод, побои и холод, непосильную работу сохранили и сохраняли неизменно человеческие черты - это сектанты и вообще религиозники, включая и православных попов. Конечно, были отдельные хорошие люди и из других «групп населения», но это были только одиночки, да и, пожалуй, до случая, пока не было слишком тяжело. Сектанты же всегда остались людьми.
В Вашем лагере хорошие люди - эстонцы. Правда, они еще горя не видели - у них есть табак, еда. Голодать всей Прибалтике приходилось больше, чем русским - там все народ крупный, рослый, а паек ведь одинаковый, хотя лошадям дают паек в зависимости от веса. «Доходили» всегда и везде латыши, литовцы, эстонцы раньше из-за рослости своей, да еще потому, что деревенский быт Прибалтики немного другой, чем наш. Разрыв между лагерным бытом больше. Были такие философы, которые смеялись над этим, дескать, не выдерживает Прибалтика против русского человека - эта мерзость встречается всегда.
Очень хорош бригадир, очень верен. Художественно этот портрет безупречен, хотя я не могу представить себе, как бы я стал бригадиром (мне это предлагали когда-то неоднократно), ибо хуже того, что приказывать другим работать, хуже такой должности, в моем понимании, в лагере нет. Заставлять работать арестантов - не только голодных, бессильных стариков, инвалидов, а всяких - ибо для того, чтобы дойти при побоях, четырнадцатичасовом рабочем дне, многочасовой выстойке, голоде, пятидесяти-шестидесятиградусном морозе, надо очень немного, всего три недели, как я подсчитал, чтобы вполне здоровый, физически сильный человек превратился в инвалида, в «фитиля», надо три недели в умелых руках. Как же тут быть бригадиром? Я видел десятки примеров, когда при работе со слабым напарником сильный просто молчал и работал, готовый перенести все, что придется. Но не ругать товарища. Сесть из-за товарища в карцер, даже получить срок, даже умереть. Одного нельзя - приказывать товарищу работать. Вот потому-то я не стал бригадиром. Лучше, думаю, умру. Я мисок не лизал за десять лет своих общих работ, но не считаю, что это занятие позорное, это можно делать. А то, что делает кавторанг - нельзя. А вот потому-то я не стал бригадиром и десять лет на Колыме провел от забоя до больницы и обратно, принял срок десятилетний. Ни в какой конторе мне работать не разрешали, и я не работал там ни одного дня. Четыре года нам не давали ни газет, ни книг. После многих лет первой попалась книжка Эренбурга «Падение Парижа». Я полистал, полистал, оторвал листок на цигарку и закурил.
Но это - личное мнение мое. Таких бригадиров, как изображенный Вами, очень много, и вылеплен он очень хорошо. Опять же, в каждой детали, в каждой подробности его поведения. И исповедь его превосходна. Она и логична. Такие люди, отвечая на какой-то внутренний зов, неожиданно выговариваются сразу. И то, что он помогает тем немногим людям, кто ему помог, и то, что радуется смерти врагов - все верно. Ни Шухов, ни бригадир не захотели понять высшей лагерной мудрости: никогда не приказывай ничего своему товарищу, особенно - работать. Может, он болен, голоден, во много раз слабее тебя. Вот это умение поверить товарищу и есть самая высшая доблесть арестанта. В ссоре кавторанга с Фетюковым мои симпатии всецело на стороне Фетюкова. Кавторанг - это будущий шакал. Но об этом - после.
В начале Вашей повести сказано: закон - тайга, люди и здесь живут, гибнет тот, кто миски лижет, кто в санчасть ходит и кто ходит к «куму». В сущности об этом - и написана вся повесть. Но это - бригадирская мораль. Опытный бригадир Куземин не сказал Шухову одной важной лагерной поговорки (бригадир и не мог ее сказать), что в лагере убивает большая пайка, а не маленькая. Работаешь ты в забое - получаешь килограмм хлеба, лучшее питание, ларек и т. д. И умираешь. Работаешь дневальным, сапожником и получаешь пятьсот граммов, и живешь двадцать лет, не хуже Веры Фигнер и Николая Морозова держишься. Эту поговорку Шухов должен был узнать на Ижме и понять, что работать надо так - тяжелую работу плохо, а легкую, посильную- хорошо. Конечно, когда ты «доплыл» и о качестве легкой работы не может быть речи, но закон верен, спасителен.
Каким-то концом это новая для Вашего героя философия опирается и на работу санчасти. Ибо, конечно, на Ижме только врачи оказывали помощь, только врачи и спасали. И хотя поборников трудовой терапии и там было немало, и стихи заказывали врачи, и взятки брали - но только они могли <спасти> и спасали людей.
Можно ли допустить, чтобы твоя воля была использована для подавления воли других людей, для медленного (или быстрого) их убийства. Самое худшее, что есть в лагере - это приказывать другим работать. Бригадир - это страшная фигура в лагерях. Мне много раз предлагали бригадиром. Но я решил, что умру, но бригадиром не стану.
Конечно, такие бригадиры любят Шуховых. Бригадир не бьет кавторанга только до той поры, пока тот не ослабел. Вообще это наблюдение, что в лагерях бьют лишь людей ослабевших, очень верно, и в повести показано хорошо.
Тонко и верно показано увлечение работой Шухова и других бригадников, когда они кладут стену. Бригадиру и помбригадиру размяться - в охотку. Для них это ничего не стоит. Но и остальные увлекаются в горячей работе - всегда увлекаются. Это верно. Значит, что работа еще не выбила из них последние силы. Это увлечение работой несколько сродни тому чувству азарта, когда две голодных колонны обгоняют друг друга. Эта детскость души, сказывающаяся и в реве оскорблений по адресу опоздавшего молдавана (чувство, которое и Шухов разделяет всецело), все это очень точно, очень верно. Возможно, что такого рода увлечение работой и спасает людей. Надо только помнить, что в бригадах лагерных всегда бывают новички и старые арестанты - не хранители законов, а просто более опытные. Тяжелый труд делают новички - Алешка, кавторанг. Они один за другим умирают, меняются, а бригадиры живут. Это ведь и есть главная причина, почему люди идут работать в бригадиры и отбывают несколько сроков.
В настоящем лагере на Ижме утреннего супа хватало на час работы на морозе, а остальное время каждый работал лишь столько, чтобы согреться. И после обеда также хватало баланды только на час.
Теперь о кавторанге. Здесь есть немного «клюквы». К счастью, очень немного. В первой сцене - у вахты. «Вы не имеете права» и т. д. Тут некоторый сдвиг во времени. Кавторанг - фигура тридцать восьмого года. Вот тогда чуть не каждый так кричал. Все, так кричавшие, были расстреляны. Никакого «кондея» за такие слова не полагалось в 1938 году. В 1951 году кавторанг так кричать не мог, каким бы новичком он ни был. С 1937 года в течение четырнадцати лет на его глазах идут расстрелы, репрессии, аресты, берут его товарищей, и они исчезают навсегда. А кавторанг не дает себе труда даже об этом подумать. Он ездит по дорогам и видит повсюду караульные лагерные вышки. И не дает себе труда об этом подумать. Наконец он прошел следствие, ведь в лагерь-то попал он после следствия, а не до. И все-таки ни о чем не подумал. Он мог этого не видеть при двух условиях: или кавторанг четырнадцать лет пробыл в дальнем плавании, где-нибудь на подводной лодке, четырнадцать лет не поднимаясь на поверхность. Или четырнадцать лет сдавал в солдаты бездумно, а когда взяли самого, стало нехорошо. Не думает кавторанг и о бендеровцах, с которыми сидеть не хочет (а со шпионами? с изменниками родины? с власовцами? с Шуховым? с бригадиром?). Ведь эти бендеровцы - такие же бендеровцы, как кавторанг шпион. Его ведь не кубок английский угробил, а просто сдали по разверстке, по следовательским контрольным спискам. Вот единственная фальшь Вашей повести. Не характер (такие есть правдолюбцы, что вечно спорят, были, есть и будут). Но типичной такая фигура могла быть только в 1937 году (или в 1938 - для лагерей). Здесь кавторанг может быть истолкован как будущий Фетюков. Первые побои - и нет кавторанга. Кавторангу - две дороги: или в могилу, или лизать миски, как Фетюков, бывший кавторанг, сидящий уже восемь лет.
В тридцать восьмом году убивали людей в забоях, в бараках. Нормированный рабочий день был четырнадцать часов, сутками держали на работе, и какой работе. Ведь лесоповал, бревнотаска Ижмы - такая работа - это мечта всех горнорабочих Колымы. Для помощи в уничтожении пятьдесят восьмой статьи были привлечены уголовники - рецидивисты, блатари, которых называли «друзьями народа», в отличие от врагов, которых засылали на Колыму безногих, слепых, стариков - без всяких медицинских барьеров, лишь бы были «спецуказания» Москвы. На градусники в 1938 году глядели, когда он достигал 56 градусов, в 1939-1947 - 52°, а после 1947 года - 46°. Все эти мои замечания, ясное дело, не умаляют ни художественной правды Вашей повести, ни той действительности, которая стоит за ними. Просто у меня другие оценки. Главное для меня в том, что лагерь 1938 года есть вершина всего страшного, отвратительного, растлевающего. Все остальные и военные годы, и послевоенные - страшно, но не могут идти ни в какое сравнение с 1938 годом.
Вернемся к повести. Повесть эта для внимательного читателя - откровение в каждой ее фразе. Это первое, конечно, в нашей литературе произведение, обладающее и смелостью, и художественной правдой, и правдой пережитого, перечувствованного - первое слово о том, о чем все говорят, но еще никто ничего не написал. Лжи за время с XX съезда было уже немало. Вроде омерзительного «Самородка» Шелеста или фальшивой и недостойной Некрасова повести «Кира Георгиевна». Очень хорошо, что в лагере нет патриотических разговоров о войне, что Вы избежали этой фальши. Война полностью говорит там трагическим голосом искалеченных судеб, преступных ошибок. Еще одно. Мне кажется, что понять лагерь без роли блатарей в нем нельзя. Именно блатной мир, его правила, этика и эстетика вносят растление в души всех людей лагеря - и заключенных, и начальников, и зрителей. Почти вся психология рабочей каторги внутренней ее жизни определялась, в конечном счете, блатарями. Вся ложь, которая введена в нашу литературу в течение многих лет «Аристократами» Погодина и продукцией Льва Шейнина - неизмерима. Романтизация уголовщины нанесла великий вред, спасая блатных, выдавая их за внушающих доверие романтиков, тогда как блатари - не люди.
В Вашей повести блатной мир только просачивается в щели рассказа. И это хорошо, и это верно.
Вот разрушение этой многолетней легенды о блатарях-романтиках - одна из очередных задач нашей художественной литературы.
Блатарей в Вашем лагере нет!
Ваш лагерь без вшей! Служба охраны не отвечает за план, не выбивает его прикладами. Кот!
Махорку меряют стаканом! Не таскают к следователю.
Не посылают после работы за пять километров в лес за дровами.
Хлеб оставляют в матрасе. В матрасе! Да еще набитом! Да еще и подушка есть! Работают в тепле.
Хлеб оставляют дома! Ложками едят! Где этот чудный лагерь? Хоть бы с годок там посидеть в свое время.
Сразу видно, что руки у Шухова не отморожены, когда он сует пальцы в холодную воду. Двадцать пять лет прошло, а я совать руки в ледяную воду не могу.
В забойной бригаде золотого сезона 1938 года к концу сезона, к осени оставались только бригадир и дневальный, а все остальные за это время ушли или «под сопку» или в больницу, или в другие еще работающие на подсобных работах бригады. Или расстреляны: по спискам, которые читались каждый день на утреннем разводе до глубокой зимы 1938 года - списки тех, кто расстрелян позавчера, три дня назад. А в бригаду приходили новички, чтобы в свою очередь умереть или заболеть, или встать под пули, или издохнуть от побоев бригадира, конвоира, нарядчика, надзирателя, парикмахера и дневального. Так было со всеми забойными бригадами у нас.
Ну, хватит. Поехал я в сторону, не удержался. Пересчет бесконечный - все это верно, точно, знакомо очень хорошо. Пятерки эти запомнятся навек. Горбушки, серединки не упущены. Мера рукой пайки и затаенная надежда, что украли мало - верна, точна. Кстати, во время войны, когда шел белый американский хлеб, с подмесом кукурузы, ни один хлеборез не резал загодя, трехсотка за ночь теряла до пятидесяти граммов. Был приказ выдавать бригаде хлеб весом не резаный, а потом стали резать перед самым разводом.
Именно КЭ-460. Все в лагере говорят «кэ», а не «ка». Кстати, почему «зэк», а не «зэка». Ведь это так пишется: з/к и склоняется з/к, зэки, зэкою. Невыжатая тряпка, которую Шухов бросает на вахте за печку, стоит целого романа, а таких мест сотни.
Обеднен язык, обеднено мышление, смещены все масштабы дум.
Произведение чрезвычайно экономно, напряжено, как пружина, как стихи.
И еще один вопрос, очень важный, решен Шуховым очень верно: кто находится на дне? Да те же, что и наверху. Ничем не хуже, а даже, пожалуй, получше, покрепче!
Очень правильно подписал Шухов на следствии протокол допроса. И хотя я за свои два следствия не подписал ни одного протокола, обличающего меня, и никаких признаний не давал - толк был один и тот же. Дали срок и так. При том на следствии меня не били. А если бы били (как со второй половины 1937 года и позднее) - не знаю, что бы я сделал и как бы себя вел.
Отличен конец. Этот кружок колбасы, завершающий счастливый день. Очень хорошо печенье, которое не жадный Шухов отдает Алешке. Мы - заработаем. Он - удачлив. На!..
Стукач Пантелеев показан очень хорошо. «А проводят по санчасти!» Вот что такое стукач, вовсе не понял бедняга Вознесенский, который так хочет шагать в ногу с веком. В его «Треугольной груше» есть стихи о стукачах, американских стукачах ни много ни мало. Я сначала не понял ничего, потом разобрался: Вознесенский называет стукачами штатных агентов наблюдения, «филеров», так их зовут в воспоминаниях.
Художественная ткань так тонка, что различаешь латыша от эстонца. Эстонцы и Кильгас - разные люди, хоть и в одной бригаде. Очень хорошо. Мрачность Кильгаса, тянущегося больше к русскому человеку, чем к соседям прибалтийцам, - очень верна.
Великолепно насчет лишней пищи, которую ел Шухов на воле и которая была, оказывается, вовсе не нужна. Эта мысль приходит в голову каждому арестанту. И выражено это блестяще.
Сенька Клевшин и вообще люди из немецких лагерей, которых обязательно сажали после - их было много. Характер очень правдив, очень важен.
Волнения о «зажиленных» воскресеньях очень верны (в 1938 году на Колыме не было отдыха в забое. Первый выходной получил я 18 декабря 1938 года. Весь лагерь угнали в лес за дровами на целый день). И что радуются всякому отдыху, не думая, что все равно начальство вычтет. Это потому, что арестант не планирует жизнь дальше сегодняшнего вечера. Дай сегодня, а что там будет завтра - посмотрим.
О двух потах в горячей работе - очень хорошо.
О сифилисе от бычков. Никто в лагере не заразился таким путем. Умирали в лагере не от этого.
Бранящиеся старики - парашники, валенок, летящий в столб. Ноги Шухова в одном рукаве телогрейки - все это великолепно.
Большой разницы в вылизывании мисок и в отирании дна коркой хлеба нет. Разница только подчеркивает, что там, где живет Шухов, еще нет голода, еще можно жить.
Шепот! «Продстол передернули» и «у кого-то вечером отрежут».
Взятки - очень все верно.
Валенки! У нас валенок не было. Были бурки из старой ветоши - брюк и телогреек десятого срока. Первые валенки я надел уже став фельдшером, через десять лет лагерной жизни. А бурки носил не в сушилку, а на починку. На дне, на подошве наращивают заплаты.
Термометр! Все это прекрасно!
В повести очень выражена и проклятая лагерная черта: стремление иметь помощников, «шестерок». Работу по уборке в конце концов делают те же работяги после тяжелой работы в забое подчас до утра. Обслуга человека - над человеком. Это ведь и не только для лагеря характерно.
В Вашей повести очень не хватает начальника (большого начальника, вплоть до начальника приисковых управлений), торгующего среди заключенных махоркой через дневального-заключенного по пять рублей папироса. Не стакан, не пачка, а папироса. Пачка махорки у такого начальника стоила от ста до пятисот рублей.
Дверь притягивай!
Описание завтрака, супчика, опытного, ястребиного арестантского глаза - все это верно, важно. Только рыбу едят с костями - это закон. Этот черпак, который дороже всей жизни прошлой, настоящей и будущей - все это выстрадано, пережито и выражено энергично и точно.
Горячая баланда! Десять минут жизни заключенного за едой. Хлеб едят отдельно, чтобы продлить удовольствие еды. Это - всеобщий гипнотический закон.
В 1945 году приехали репатрианты сменить нас на прииск Северного управления на Колыме. Удивлялись: «Почему ваши в столовой съедают суп и кашу, а хлеб берут с собой. Не лучше ли...» Я отвечал: «Не пройдет и двух недель, как вы это поймете и станете делать точно так же». Так и случилось.
Полежать в больнице, даже умереть на чистой постели, а не в бараке, не в забое, под сапогами бригадиров, конвоиров и нарядчиков - мечта всякого заключенного. Вся сцена в санчасти очень хороша. Конечно, санчасть видела более страшные вещи (например, стук о железный таз ногтей с отмороженных пальцев работяг, которые срывает врач щипцами и бросает в таз) и т. д.
Минута перед разводом - очень хороша.
Холмик сахару. У нас сахар никогда не выдавался на руки, всегда в чаю.
Вообще, весь Шухов в каждой сцене очень хорош, очень правдив.
Цезарь Маркович - вот это и есть герой некрасовской «Киры Георгиевны». Такой Цезарь Маркович вернется на волю и скажет, что в лагере можно изучать иностранные языки и вексельное право.
«Шмон» утренний и вечерний - великолепен.
Вся Ваша повесть - это та долгожданная правда, без которой не может литература наша двигаться вперед. Все, кто умолчат об этом, исказят правду эту - подлецы.
Очень хорошо описана предзона и этот загон, где стоят бригады одна за другой. У нас такая была. А на фронтоне главных ворот (во всех отделениях лагеря по особому приказу сверху) цитата на красном сатине: «Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства!» Вот как!
Традиционное предупреждение конвоя, которое всякий заключенный выучил наизусть. Называлось (у нас): «шаг вправо - шаг влево считаю побегом, прыжок вверх агитацией!» Шутят, как видите, везде.
Письмо. Очень тонко, очень верно.
Насчет «красилей» - ярче картины не бывало.
Все в повести этой верно, все правда.
Помните, самое главное: лагерь отрицательная школа с первого до последнего дня для кого угодно. Человеку - ни начальнику, ни арестанту не надо видеть. Но уж если ты видел - надо сказать правду, как бы она ни была страшна. Шухов остался человеком не благодаря лагерю, а вопреки ему.
Я рад, что Вы знаете мои стихи. Скажите как-нибудь Твардовскому, что в его журнале лежат мои стихи более года, и я не могу добиться, чтобы их показали Твардовскому. Лежат там и рассказы, в которых я пытался показать лагерь так, как я его видел и понял.
Желаю Вам всякого счастья, успеха, творческих сил. Просто физических сил, наконец.
В 1958 году (!) в Боткинской больнице у меня заполняли историю болезни, как вели протокол допроса на следствии. И полпалаты гудело: «Не может быть, что он врет, что он такое говорит!» И врачиха сказала: «В таких случаях ведь сильно преувеличивают, не правда ли?» И похлопала меня по плечу. И меня выписали. И только вмешательство редакции заставило начальника больницы перевести меня в другое отделение, где я и получил инвалидность.
Вот поэтому-то Ваша книга и имеет важность, не сравнимую ни с чем - ни с докладами, ни с письмами.
Еще раз благодарю за повесть. Пишите, приезжайте. У меня всегда можно остановиться.
Ваш В. Шаламов.
Со своей стороны я давно решил, что всю мою оставшуюся жизнь я посвящу именно этой правде. Я написал тысячу стихотворений, сто рассказов, с трудом опубликовал за шесть лет один сборник стихов-калек, стихов-инвалидов, где каждое стихотворение урезано, изуродовано.
Слова мои в нашем разговоре о ледоколе и маятнике не были случайными словами . Сопротивление правде очень велико. А людям ведь не нужны ни ледоколы, ни маятники. Им нужна свободная вода, где не нужно никаких ледоколов.
В.Т. Шаламов - А.И. Солженицыну
Дорогой Александр Исаевич.
Все хотелось дождаться выхода седьмого номера «Нового мира» с рассказом, взглянуть на него уже другими глазами. Ведь рукопись - одно, машинописный текст - другое, журнальный текст - третье, а книга - четвертое. В переиздании «Избранных» опять текст выглядит всегда по-своему.
Восторг мой по поводу «Для пользы дела» усилился. Название рассказа уж очень точно, исчерпывающе, лучше, значительней, удачней, тоньше, важнее назвать нельзя.
Потеря в образе Хабалыгина ощутима, там зажевано важное - размышление Грачикова насчет Хабалыгина, - и очень важный абзац (он весь остался - о коммунистах, которых надо гнать из партии), но как-то повис в воздухе, он был раньше укреплен гораздо лучше. Больших потерь, по-моему, нет, да и для читателя это - не потеря. Во всяком случае, было лучше.
«Для пользы дела», как я уже Вам говорил, - очень тонкая работа, по существу, своеобразное отражение вовсе других не равнозначащих событий, авторский ответ на вопросы, которые вовсе не исчерпываются содержанием рассказа.
Главное в рассказе, это глубоко педагогическая мысль, что ложь перед молодежью трижды большее преступление, о том, что энтузиазм, конечно, будет и еще раз. Но... Все это ведь осталось, пострадал только Хабалыгин и суждение насчет «внутреннего капитализма».
Я лежал и с удовольствием вчитывался в пейзаж - в эти белые, быстро летящие облака, в собравшийся дождь, в то, что хоть немного продуло и освежило.
В первом чтении, где сочленения Кнорозова описаны очень хорошо, и левая рука, поддерживающая правую, у Федора Михеевича тоже хороша, я упустил бухгалтершу, которая закусила губу и - вышла.
Поздравляю Вас от всего сердца.
Вчера проделал опыт на том же отрезке улицы, который в ноябре я проходил с одиннадцатым номером «Нового мира», с «Одним днем Ивана Денисовича», когда меня остановили четыре человека: «Вышел журнал? Вышел? С этой повестью? Да? Где Вы взяли?» Нынче прошел тот же путь, держа в руках стеклянную банку с топленым маслом. Спросили: «Где взяли?» только два человека. Мораль: не хлебом единым жив будет человек.
Как Ваша поездка с Натальей Алексеевной на велосипедах? Дороги? Как южные планы? Жду Вас в Москве. Желаю здоровья, силы. Наталье Алексеевне лучший мой привет. Ольга Сергеевна приветствует обоих.
Ваш В. Шаламов.
В.Т. Шаламов - А.И. Солженицыну
Дорогой Александр Исаевич.
28 августа я сдал новую книжку стихов в «Советском писателе». Не то что она сдана в производство (до этого еще далеко), но рукопись включена в план (сентябрь) и прошла подбор и гребенку первого редактора, имя которого будет значиться на титуле. Еще - два чтеца кроме Главлита. Экземпляр рукописи «Шелеста листьев» (так называется книжка) я берегу для Вас и Натальи Алексеевны и передам, когда увижу Наталью Алексеевну. Многое Вы знаете, кое-что есть новое. Как и «Огниво», «Шелест листьев» больше редакторское достижение, чем авторское, но я устал сопротивляться. И это - не тот сборник, который мне хотелось бы иметь.
Я думал взять с собой в Рязань «воровской материал» , кроме чистой бумаги, как мнение Ваше? Благодарю за приглашение на дачу, я обязательно при всех обстоятельствах приеду. Сердечный мой привет Наталье Алексеевне. Ольга Сергеевна приветствует Вас обоих.
Ваш В.Шаламов.
В.Т. Шаламов - А.И. Солженицыну
Дорогой Александр Исаевич.
Наталья Алексеевна была у меня, любезный ее разговор я никогда не забуду, и мы сговорились, что я приеду не 9-го, а 11-го. Эта отсрочка вызвана желанием моим ускорить сдачу книжки. Двухлетнее движение подошло к концу (к концу ли), и книжка включена в план сентября. Раньше ее хотели включить в октябре, а я просил во второй квартал и ее передвинули на сентябрь (это было еще до получения Вашего письма). Я рассчитывал твердо сдать книжку (и сдал) в августе. Но рассчитать сроки редакционного чтения очень трудно, и получилось так, что консультант издательства (главная фигура на моем пути) возьмет книгу только 9-го числа (вместо предполагавшегося 1-го). Я просил его прочесть в один-два дня.
Так что я приеду не 9-го и не 10-го. Как мы сговорились с Натальей Алексеевной, я пришлю телеграмму. Но может быть, это будет более позднее число, чем 10-е и 11-е.
Теперь о самом сборнике. Помните, при нашей первой встрече в «Новом мире», Вы говорили, что вот теперь пора выпустить хороший сборник. Такой сборник и сейчас выпустить невозможно. Все колымские стихи сняты по требованию редактора. Все остальное, за исключением двух-трех стихотворений, получило приглажку, урезку. Редакторы-лесорубы превращают дремучую тайгу в обыкновенное редколесье, чтоб высшему (политическое, выступающее под флагом поэтического) начальству легко было превратить труды своих сотрудников в респектабельный парк. Еще одну-две статуи захотят в парк поставить. Я пишу все это Вам затем, чтобы Вы прониклись моим настроением. В «почти» входят Главлит и некоторые форс-мажоры. Но там я бессилен, а сейчас хоть и в арьергарде боя, но сражаюсь за каждую строку.
Желаю Вам и Наталье Алексеевне всего самого, самого лучшего.
Я приеду сейчас же, как определится решение, и мое присутствие не будет необходимым. Я мог бы приехать 9-го с тем, чтобы уехать 15-го. Но ведь такой визит хуже, да и неспокойным он будет. Поэтому простите меня за эту вынужденную задержку. Я уже все собрал - вещи, придумал, что взять с собой для работы.
Сердечно Ваш В.Шаламов.
Сердечный привет.
На фельдшерских курсах, где я учился, был преподаватель «внутренних болезней» Малинский. Он все нам твердил: «Самое главное в вашей будущей практике - научиться верить больному. Не будет в вас этой веры, медицинский работник из вас не выйдет».
Историю эту припоминаю я сейчас вот по какому поводу. Никто (в том числе не исключая и самых близких) не понимает, насколько тяжело (или трудно) и как именно я болен.
После вчерашней подробной и сердечной беседы с Натальей Алексеевной я все же вынужден отказаться от приглашения и к Вам не поеду. И вот почему.
Переезд в вагоне до Рязани и на телеге до Солотчи неизбежно выведет меня из строя на несколько дней, потребуется, вероятно, и присутствие врача и т.д., а лежать двое-трое суток придется.
Второе. Я уже семь лет варю себе еду сам и ни в какой столовой обедать не могу. В этой тщательности диеты - одна из моих побед, и я не могу поставить на карту все, что сберегалось в течение многих лет. Я не ем никакого мяса, никаких мясных супов, никаких консервов, ничего приготовленного из консервов, ничего жареного.
Третье, наконец - увы, холода. А поддерживать печи в избе я совершенно не способен.
Вот все мои очень человеческие доводы против поездки. Не ищите ничего другого, что бы было за этим отказом (как сделал бы Теуш или Твардовский). Мне очень хотелось поехать. Я уже собираться начал (собрал воровской материал), да и беседы с Вами мне очень интересны, - но, увы, - я не в силах ехать в дачные условия. Простите меня. Может быть, в будущем году, когда у вас будет более просторная квартира в Рязани.
Желаю Вам успеха, рабочего настроения, пишите.
Ваш В.Шаламов.
В.Т. Шаламов - А.И. Солженицыну
Дорогие Наталья Алексеевна и Александр Исаевич.
В.Т. Шаламов - А.И. Солженицыну
Дорогой Александр Исаевич.
Вы, наверное, уже вернулись в Рязань. Пусть Вас не смущают никакие газетные статьи. Комитет по Ленинским премиям не может, просто не может, не назвать Вашу повесть - «Иван Денисович» - лучшее что есть в советской литературе, в русской литературе за десятки лет.
Жму Вашу руку, верю в победу правды. Благодарю за внимательный разбор «Шелеста листьев». Конечно, названные Вами стихотворения (да еще «Ни зверя, ни птицы») - самые важные в сборнике. Что касается «неприемлемых» и чересчур свободного обращения с явлениями природы, то ведь тут дело в том, что поэзия - это всеобщий язык, и тем велика, что любое явление жизни, науки, общества может «перевести» на свое, умножая тем самым свои дороги. Тут дело не в новых «реалиях», как часто любят выражаться - а в желании и возможности освоить любой жизненный материал (кроме порнографии, что ли). Поэзия - это мир всеобщих соответствий, и именно поэтому развитие ее безгранично.
Поговорим при случае. Знаете, кто у меня был недавно? Варпаховский . Я ведь как-то говорил, что знаю его по Колыме. Мы ехали в одном этапе в 1942 году в спецзону «Джелгала» - один из сталинских Освенцимов того времени. Меня туда довезли, там и осудили через несколько месяцев. (На десять лет.) Для этого, наверное, и везли. А Варпаховского отстояли на последней ночевке этапа его колымские друзья. Сейчас он приехал ко мне за «Колымскими рассказами» - где-то услышал о них, и я ему дал читать. Я говорю:
Вы, Леонид Викторович, держали ведь в руках отличную пьесу «Свечу на ветру» Солженицына.
Я читал. Мне показалось, похоже на Леонида Андреева. Вот, где бы прочесть «Олень и Шалашовка»? У Вас нет?
Нет. А на Андреева походить плохо?
Да. Сила Солженицына в его реализме. Не правда ли?
Я, Леонид Викторович, не очень твердо вижу гранит реализма в любом искусстве. Японский график нарисовал Хиросиму - реализм или нет?
И еще у меня есть для Вас разговор, - но - для личной встречи.
Привет Наталье Алексеевне.
Ваш В. Шаламов.
Ольга Сергеевна и Сережа шлют свой привет.
В.Т. Шаламов - А.И. Солженицыну
Дорогой Александр Исаевич!
Сердечно был рад получить Ваше письмо. Провокация с трибуны по Вашему адресу - настолько типичное явление растления сталинских времен и столько вызывает в памяти подобных же преступлений безнаказанных, ненаказуемых, виденных во множестве в течение десятков лет - так живо я их вспомнил с огромной душевной тяжестью. Будем надеяться, что с этим покончат все же.
О «Свече на ветру» у меня мнение особое. Это - не неудача Ваша. «Свеча на ветру» ставит и решает те же вопросы, что и в других Ваших вещах - но в особой манере, и эта особая манера - родилась не в андреевской тени.
Рассказы мои по Москве ходят, я слышал. Дело ведь в полной невозможности работать регулярно из-за головных болей и т. д. Конечно, я не оставляю и не оставлю работы этой. Но идет она плохо, туго. Очередная задача моя описать Джелгалу, всю Колымскую спецзону (один из сталинских Освенцимов), где я был несколько месяцев и где меня судили. Я недавно столкнулся с очень интересным фактом. Я пытался оформить десятилетний подземный стаж (чтобы с инвалидной уйти на возрастную пенсию), но мне сообщили из Магадана, что в горных управлениях (по их сведениям) я проработал 6 лет и 4 месяца, поэтому просьба о выдаче справки за 10 лет отклоняется . Одновременно я узнал вот что. Оказывается, уничтожены все «дела» заключенных, все архивы лагерей, и никаких сведений о начальниках, следователях, конвоирах тех лет в Магадане найти нельзя. Нельзя найти ни одного из многих меморандумов, которыми было переполнено мое толстущее дело. Операция по уничтожению документов произошла между 1953 и 1956 годом. Официально мне дали ответ: сведений о характере Вашей работы не сохранилось. Такая же история повторена и на Воркуте, так на двух самых крупных спецлагерях Сталина.
Приезжайте, жду Вас, в квартире у нас ремонт, Ольга Сергеевна и Сережа на даче, но иногда приезжают. Я же - все время дома - могу только уйти в магазин.
Ольга Сергеевна шлет сердечный привет вам обоим.
Года два назад журнал «Знамя» предложил мне написать воспоминания «Двадцатые годы», Москва 20-х годов. Я написал пять листов за неделю. Тема - великолепна, ибо в двадцатых годах зарождение всех благодеяний и всех преступлений будущего. Но я брал чисто литературный аспект. Печатать эту вещь не стали, и рукопись лежит в журнале по сей день .
В.Т. Шаламов - А.И. Солженицыну
Дорогой Александр Исаевич.
В Вашем письме об «Анне Ивановне» есть одна фраза, одно замечание, которое я оставил на потом, чтобы подробнее Вам ответить.
Вы написали, что лучше бы у героя «Анны Ивановны» вместо тетради стихов было бы что-нибудь другое. Тетрадку сделать чем-то вроде чертежей Кибальчича было бы очень легко. Но нужно совсем не это. Мне кажется, что традиционно как раз описание героизма деятелей науки, техники и т. д. Традиционна боязнь изобразить человека искусства наиболее чутким (ведь это так и есть и иначе быть не может). Второе - я знаю несколько случаев самых тяжких наказаний за литературную деятельность в лагере. Сюжет «Анны Ивановны» подкреплен живой правдой о мертвых, убитых людях.
Не говоря уж о том, что преступление писать стихи - одно из худших лагерных преступлений. Наказаний за литературную деятельность только я знаю и видел десять, наверное, случаев, если не больше. Стало быть, жизненной правды тут нет недостатка или искажения.
Но суть вопроса гораздо шире, глубже лагерного горизонта, сюжетного хода пьесы. Дело в том, все ученые (любого масштаба) и все инженеры (любой квалификации) всегда «на подсосе», на прикорме у правительства при любой власти. Они и страдают гораздо меньше, да и духовная жизнь их идет несколько в стороне от столбовой дороги страстей. Стоит припомнить недавний ответ профессора Китайгородского на анкету «Вопросов литературы». События, во время которых бедные космонавты оказались начисто забыты, дают нам истинный масштаб литературы, жизни и науки . Как ни требует внимания инстанций мистерия «Голубой крест» - в свистопляске идеологических отраслей требовалось иное - «Голубая кровь».
Кто же истинный герой? Я считаю, что долг каждого честного читателя - героизация именно интеллигенции гуманитарной, которая всегда и везде, при всякой смене правительств принимает на себя самый тяжелый удар. Это происходило не только в самих лагерях, но во всей человеческой истории. Борьба Катона с «идеологией» из той же области.
Здесь почти нет исключений, кроме Ферми и Демидова , может быть.
Не претенциозно название? Прочтете?
Сердечный привет Наталье Алексеевне.
Ваш В. Шаламов.
В.Т. Шаламов - А.И. Солженицын
Дорогой Александр Исаевич.
Написал Вам целых два письма, но из-за их нетранспортабельности, негабаритности в чисто физическом смысле - не отправил и думаю вручить Вам лично, при встрече . Там есть мои замечания на Ваше чтение «по долгу службы».
Желаю здоровья, хорошей работы, успеха «Свече на ветру».
Сердечный привет Наталье Алексеевне.
Ваш В. Шаламов.
В.Т. Шаламов - А.И. Солженицыну
Дорогой Александр Исаевич!
Очень рад был получить Ваше письмо. Жаль только, что Вы сузили тему разговора - за бортом осталась наиболее важная часть. Но и в оставшемся «оттенки» выражены явственно и итоги обсуждения «подбивать» еще рано.
Долг писателя - героизация именно судеб интеллигентов, писателей, поэтов. Они имеют на это право несравненно большее, чем какие-либо другие «прослойки» общества. (Не следует думать, что другие прослойки этого права не имеют.) Дело в степени, в сравнении, в нравственном долге общества. Противопоставление судеб гуманитарной и технической интеллигенции тут неизбежно - слишком велика разница «ущерба». Хорошо Вам известные приключения господина Рамзина , который позволил себе принять участие в известной комедии - с орденоносным «хеппи-эндом» и ведром прописной морали, вылитой по этому поводу на головы зрителей и слушателей, - это единственный пример «ужасного», «крайнего» наказания «вольнодумного» представителя мира науки и техники. Все другие отделывались еще легче (шахтинцы и т. д.).
С поэтами и писателями был другой разговор. Мандельштам, Гумилев, Пильняк, Бабель (и сотни других, чьи имена не записаны еще на мраморную доску Союза писателей, хотя их явно больше, чем погибших в войну, и по количеству и по качеству) - были уничтожены сразу. Хотя любой прямоточный котел и любой космический корабль в миллион раз стоят меньше, чем стихи Мандельштама.
Жизнь Пушкина, Блока, Цветаевой, Лермонтова, Пастернака, Мандельштама - неизмеримо дороже людям, чем жизнь любого конструктора любого космического корабля. Поэты и писатели выстрадали всей своей трагической судьбой право на героизацию. Здесь суть вопроса - «оттенки». Именно так должен быть поставлен и решен этот вопрос. Это - нравственный долг общества и говорить, что изображение убитого художника подобно тому, как бы «художник рисовал собственное ателье». Ведь художник-то убит в своем ателье.
В вопросе об «ателье» Вы ошибаетесь, Александр Исаевич, даже если взять этот вопрос в Вашем понимании. История литературы, да и история человеческой души знает не одно «ателье» подобного рода, которое рисовал художник, «Детство и отрочество», например. Разве это не «ателье», которое описывает художник Толстой. Конечно, «ателье». В прозе таких «ателье» очень много - их воспитывающая роль неоспорима.
В поэзии примеры привести столь же легко.
«В трюмо испаряется чашка какао,
Колышется тюль - и прямой
Дорожкою в сад, в бурелом и хаос
К качелям бежит трюмо» .
«Ателье»? Ателье. Дача. И в то же время эти строки - высочайшая вершина русской поэзии XX века, века очень богатого в русской литературе, украшенного немалым количеством блестящих имен.
Это - решение вопроса в Вашем понимании «ателье». Для меня же «ателье» художника - это его душа, его личный опыт, отдача скопленного всей жизнью, и в чем это будет выражено, к чему будет привлечено внимание - не суть важно. Будет талант, будет и новизна. Будет новизна, неожиданность - будет и победа. У искусства много начал, но цели его - едины.
Недостаточно правильную позицию, мне кажется, Вы занимаете и в отношении к современным «бытописателям», вроде Шелеста и Алдан-Семенова . Тут аргумент «правды» и «неправды» недостаточен. И вот почему. Ведь Алдан-Семенов тоже может сказать, что он, Алдан-Семенов, описывает «пережитое» правдиво, а Солженицын - лжет. Алдан-Семенов скажет: кто дал Солженицыну право судить о том, что в лагере верно и что неверно, если Солженицын лагеря не знает (потому-то и потому-то), а он, Алдан-Семенов, был столько-то лет на Колыме (на Колыме!) и может представить документы, вместе со справкой о реабилитации. Ведь с представлением документов уже был казус, о котором Вы когда-то мне писали. На мой взгляд, Вам (или тем, кто представлял Ваши интересы) вовсе не нужно было представлять какие-то документы о своем заключении. Действовать так - значит вытолкать обоих авторов из литературы - пусть ведут поединок на газетных страницах. Где же истина? Где обе правды, о которых так хорошо знал XIX век России - правда-истина и правда-справедливость?
Почему Вам кажется, что лжет Алдан-Семенов или Дьяков , а не лжет Шаламов в его «Колымских рассказах»?
Сердечный привет Наталье Алексеевне.
В.Т. Шаламов - А.И. Солженицыну
Дорогой Александр Исаевич.
Недавно мне пришлось познакомиться с мемуаром «Крутой подъем» и встретиться с его автором, некой Гинзбург. Твардовского не обманывает чутье, когда он отказывается печатать это произведение, как Вы мне рассказывали. Со стороны чисто литературной - это не писательская вещь. Это - журналистская скоропись, претенциозная мазня. Чего стоят стихотворные эпиграфы к каждой главе? Материал такого рода не может иметь стихотворных эпиграфов, но вкус автора воспитан на женских альбомах провинциальных гимназий. Но дело, конечно, не в стихах и не в полной неспособности дать картину, оценить и т. д. Не в отсутствии скромности автора. Дело гораздо хуже.
Мемуар обличает фальшивого насквозь человека, беспринципного карьериста, сочинившего свои «воспоминания» с далеко идущими целями. В мемуаре прославляются убийцы, организаторы ряда провокационных, смертельных, кровавых процессов на Колыме (как доктор Кривицкий - зам. наркома, авиационной промышленности) и унижены люди, которые превосходят Гинзбург во всем - и в культуре, и в уме, и в нравственной твердости (Жилинская и др.)
Лагерь обладает страшной особенностью - жизнь на глазах сотен людей покажет все стороны характера, откроет человека до конца. О Гинзбург я получил много предупреждений, исходивших от людей, не только заслуживающих доверия, но и по своему положению самых авторитетных судей. Характеристики все отрицательные самым решительным образом (и, конечно, не вызваны какими-то преимуществами Гинзбург, как она настаивает сама). Я лично на Колыме Гинзбург встречал во время войны. Во мне было 40 килограммов веса, я не мог по достоинству оценить ее просто. Впечатление от первого и, надеюсь, единственного, свидания с этой дамой самое отрицательное. Это - втируша, оскорбляющая память людей, которые гораздо честнее Гинзбург прожили свою жизнь.
Года два назад в Солотче Вы просили меня указать на черты некоего характера, необходимого Вам для работы. Пишите этот задуманный портрет с Гинзбург - не ошибетесь. Я очень, очень жалею, что согласился на это свидание. В любой день и час готов побеседовать с Вами об этой даме подробнее.
Жму руку, привет Наталье Алексеевне.
В.Т. Шаламов - А.И. Солженицыну
Дорогой Александр Исаевич.
Рад был Вашему письму. История напечатания стихов в «Литературной газете» такова. Три года назад с приходом Наровчатова в редколлегию «Литературной газеты» я отнес туда 150 стихотворений, исключительно колымских (1937-1956) и примерно через год имел беседу с Наровчатовым - ответ, носящий характер категорического отказа напечатать что-либо колымское. «Вот если бы Вы дали что-нибудь современное - мы отвели бы Вам полполосы». Я всегда держу в памяти практику работы в журналах: где просматривается несколькими инстанциями сотня стихотворений, а потом выбираются десятки безобиднейших, случайнейших. Такой «помощью» авторам - «даем место, печатаем!» - занимаются все: «Новый мир», «Знамя», «Москва», «Семья и школа», «Сельская молодежь» - все тонкие и толстые журналы Советского Союза. Это - вреднейшая практика, никакими ссылками на вышестоящих или сбоку стоящих не оправдываемая. Это называется помогать, выбивать, хорошо относиться и т. д. К сожалению, материальные дела авторов не позволяют разорвать эти связи. Так у меня кромсали колымские стихи в «Новом мире», в «Знамени», в «Москве», в «Юности». Но с «Литературной газетой» ради первой публикации я решил поступить иначе, предвидя этот разговор.
Я не вижу возможности предложить что-либо другое. «Литературная газета» напечатала обо мне четыре статьи, где всячески хвалит именно колымские стихи. А когда дело доходит до напечатания - мне говорят: давайте какие-нибудь другие.
Можете взять свои стихи назад.
Нет, оставьте. Может быть, мы выберем что-либо.
Этот разговор был два года назад, и я не справлялся о стихах, но в пятницу, 29 июля, меня вызвали в «Литературную газету» (там работали уже другие люди), и Янская, новая заведующая отделом поэзии, сказала:
Вот посмотрите, не напечатали ли эти стихи где-нибудь, ведь прошло два года.
Я посмотрел.
Когда же вы будете давать?
Завтра или никогда.
Зачем я это все Вам пишу. Чтобы разоблачить всех «либералов», чья «помощь» - подлинная фальшь.
В. Шаламов
В. Т. Шаламов - А. И. Солженицыну
Дорогой Александр Исаевич.
Любимов и Таганка . Все это должно быть не литературой, а читаться неотрывно. Не документ, а проза, пережатая, как документ. Я много раз хотел изложить Вам суть дела и выбрал время, когда я хвалю Вас за роман, за победу в классической, канонической, а потому неизбежно консервативной форме. Опыт говорит, что наибольший читательский успех имеют банальные идеи, выраженные в самой примитивной форме. Я не имею в виду Вашего романа, но в «Раковом корпусе» такие герои и идеи есть (больной, который читает в палате «Чем люди живы»).
В этом романе очень хороши Герасимович, Адамсон, особенно Герасимович. Очень хорош Лева Рубин. Драма Рубин - Иннокентий показана очень тонко, изящно. «Улыбка Будды» - вне романа. По самому тону. За шуткой не видно пролитой крови. (В наших вопросах недопустима шутка.)
Спиридон - слаб, особенно если иметь в виду тему стукачей и сексотов. Из крестьян стукачей было особенно много. Дворник из крестьян обязательно сексот и иным быть не может. Как символический образ народа-страдальца фигура эта неподходящая. Слабее других - женские портреты. Голос автора разделен на тысячу лиц - Нержин, Сологодин, Рубин, Надя, Адамсон, Спиридон, даже Сталин в какой-то неуловимо малой части.
Об А. Жилинской пишет Е. Гинзбург в главе «Пугачевская башня», может быть, без теплоты, но и без явного намерения унизить. Видимо, на отношение В.Т. Шаламова к Е. Гинзбург повлияли скорее не личные впечатления от встречи с ней (он ее не помнит по Колыме), а рассказы его тогдашних друзей - Б.Н. Лесняка и Н.В. Савоевой, хорошо знавших Е. Гинзбург по Беличьей (колымской районной больнице), они упомянуты в «Крутом маршруте» в главе «Зека, зека и бека» не совсем благожелательно. Впоследствии, познакомившись лично с Е.С. Гинзбург, он изменил свое мнение о ней.