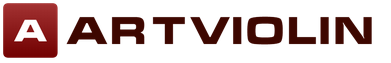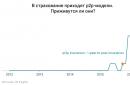Вы не знали моего прадеда?.. Жаль... Это был добрый и привлекательный человек... Ему было уже 76 лет, когда Господь отозвал его в Свои селения. Он был резчик по дереву, большой мастер; и тонкие работы удавались ему прямо удивительно: кружево, да и только, и с каким вкусом! А больше всего он радовался, когда мог подарить какую-нибудь изящнейшую вещицу значительному, талантливому человеку. Тогда он приговаривал: «Ведь этим я вошел в его жизнь, я помог ему найти в жизни хоть маленькую радость»...- и улыбался счастливой улыбкой.
А, значит, вы его все-таки встречали?.. Да, да, это был он: с длинными, белыми волосами... Высокий лоб, мечтательные, немножко отсутствующие глаза и незабываемая улыбка: будто все вокруг улыбнулось... Да, и последние годы он ходил немного сгорбившись. Вот о нем-то я и хотел вам рассказать.
Видите ли, когда я наблюдаю современную жизнь, то мне часто кажется, что люди придают чрезмерное значение всякому имуществу и богатству, как будто большое состояние равносильно большому счастью. А это совсем не верно- Кто так думает и чувствует, тот, наверное, проживет несчастливую жизнь. И этому я научился у моего покойного прадеда.
Ему всю жизнь приходилось зарабатывать себе пропитание, и это давалось ему подчас не легко; и несмотря на это, он был одним из самых счастливых людей на свете. Вы спросите, как ему это удавалось?.. А это он и называл «искусством владения» - или щедростью.
Он был седьмым в своей семье, и притом младшим; одни мальчики. Старшие братья были все черствые и жадные. На него они смотрели свысока и ничего ему не давали. Родители у него умерли рано, и он едва мог дотянуть до конца городского училища. Тогда братья заявили ему: «Изволь сам себе зарабатывать пропитание». Ссориться и пререкаться он не любил и стал учиться тому, к чему его особенно тянуло: резьбе по дереву и игре на скрипке. С резьбою у него сразу пошло; вещи его очень нравились. И он объяснял это так: «Я от души это делаю, с любовью, а люди это чувствуют; ведь они все ищут в жизни любви, прямо голодают по ней; вот им и нравится»...
Через год он не только зарабатывал себе на хлеб (жизнь-то тогда была дешева), но платил сам и за скрипичные уроки. Тогда он ушел от братьев и стал жить у бездетного дяди. Там его тетка очень любила; так и называла его - «голубчик мой». А в нем и вправду было что-то голубиное. А уж образование свое он позднее пополнял ненасытным чтением.
Бывало, только возьмет в руки смычок, так мелодия и польется. Все сидят и слушают, как очарованные, и у всех глаза влажные. И горечь жизни забудешь: будто все заботы и тягости с тебя сняли и только сердце поет. Как он играл русские народные песни, да еще в настоящих древне-народных тонах и гармониях... Он потом с Мельгуновым водился и с гуслярами все дружил... Бывало, сам стоит серьезный, благоговейный; и только глаза сияют блаженством.
Вы спрашиваете про «искусство владения»? Сейчас, сейчас расскажу... Бедности он не знал. Но и богатым никогда не был. Два раза ему сватали богатых невест. Он сам мне об этом рассказывал: «Обе были из твердого дерева и грубой резьбы. Таких нельзя любить. И никакого пения в них не было. А во владении они тоже ничего не понимали: обожали свое богатство, оно из них так и смотрело. Ведь у каждого из нас свое главное из глаз глядит, а у них глядела жадность». Позднее он женился на моей прабабушке и жил с ней душа в душу. Она была необычайной доброты, бедна, но умна и первая певунья на свадьбах; все старинные свадебные песни знала и как зальется, так все слушают и не дышат.
Когда прадед начинал, бывало, рассказывать или советы давать, я мог слушать часами, неотрывно. Потом я стал даже кое-что записывать для памяти. Вот и про владение.
«Слушай, малыш, - говорит он мне раз, - есть особое искусство владеть вещами; и в нем секрет земного счастья. Тут главное в том, чтобы не зависеть от своего имущества, не присягать ему. Имущество должно служить нам и повиноваться. Оно не смеет забирать верх и господствовать над нами. Одно из двух - или ты им владеешь, или оно на тебе поедет. А оно - хи-и-трое. Только заметит, что ты ему служишь, так и начнет подминать тебя и высасывать. И тогда уж держись: проглотит тебя с душою и телом. И тогда тебе конец: оно займет твое место и станет твоим господином, а ты будешь его холопом. Оно станет главным в жизни, а ты будешь его привеском. Вот самое важное: человек должен быть свободен; да не только от гнета людей, но и от гнета имущества. Какая же это свобода: от людей независим, а имуществу своему раб? Свободный человек должен быть свободным и в богатстве. Я распоряжаюсь; мое имущество покоряется. Тогда я им действительно владею, ибо власть в моих руках. Тут нельзя бояться и трепетать. Кто боится за свое богатство, тот трепещет перед ним: как бы оно не ушло от него, как бы оно не повергло его в бедность. Тогда имущество, как ночной упырь, начнет высасывать человека, унижать его, и все-таки однажды, хотя бы в час смерти, покинет его навсегда...
Вот я вырезаю по дереву. Это удается мне потому, что я владею моим скобелем и могу делать с деревом все, что захочу. Поэтому я могу вложить в мою резьбу все мое сердце и показать людям, какая бывает на свете нежная красота и радость.
Или вот - на скрипке. Смычок и струны должны меня слушаться; они должны петь так, как у меня на душе поет. Любовь владеет мною, а я владею скрипкой; вот она и поет вам всем про радость жизни и про Божию красоту.
То же самое и с имуществом. Оно дается нам не для того, чтобы поглощать нашу любовь и истощать наше сердце. Напротив. Оно призвано служить нашему сердцу и выражать нашу любовь. Иначе оно станет бременем, идолом, каторгой. Недаром сказано в Евангелии о маммоне. Кто верует в Бога, тот не может веровать в богатство, а кто раз преклонился перед чужим или перед своим богатством, тот сам не заметит, как начнет служить дьяволу...
Дело не в том, чтобы отменить или запретить всякое имущество; это было бы глупо, противоестественно и вредно. Дело в том, чтобы, не отменяя имущество, победить его и стать свободным. Эта свобода не может прийти от других людей; ее нужно взять самому, освободить свою душу. Если мне легко думать о своем имуществе, то я свободен. Я определяю судьбу каждой своей вещи и делаю это с легкостью; а они слушаются. Мое достоинство не определяется моим имуществом; моя судьба не зависит от моего владения; я ему не цепная собака и не ночной сторож; я не побирушка, выпрашивающий копейку у каждого жизненного обстоятельства и прячущий ее потихоньку в чулок. Стыдно дрожать над своими вещами; еще стыднее завидовать более богатым. Надо жить совсем иначе: где нужно, там легко списывать со счета; где сердце заговорит - с радостью дарить; снабжать, где у другого нужда; с радостью жертвовать, не жалея; не требовать возврата, если другому невмоготу; и братски забывать о процентах. И главное, - слышишь, малыш, - никогда не трепетать за свое имущество: «Бог дал. Бог и взял, да будет благословенна воля Его». Кто трясется за свое богатство, тот унижается, теряет свое достоинство, а низкому человеку с низкими мыслями лучше вообще не иметь богатства»...
«В умных книгах пишут, - сказал он мне раз, - что имущество есть накопленный труд, а по-моему, и труд, и имущество от духа и для духа. А дух есть прежде всего - любовь. Поэтому у настоящего человека имущество есть запас сердца и орудие любви. Богатому человеку нужно много сердца; тогда можно считать, что он заслужил свое богатство. Много денег и мало сердца - значит, тяжелая судьба и дурной конец».
Бывало, поговорит так и возьмется за свою скрипку и начнет играть старинные русские песни, одну за другой: «Верный наш колодец» и «Не пой, соловушка» и еще много других, а я сижу счастливый и слушаю...
И все это он навсегда врезал мне в душу: И песни эти я и сейчас не могу слышать равнодушно. Эх, сколько свободы и доброты в русском человеке! Какая ширина, и глубина, и искренность в его песнях!
И кажется мне, что прадед мой думал и жил, как настоящий мудрец...
Предыдущая беседа Следующая беседа| Ваши отзывы |
7555
Я наблюдаю за реформами всю современную историю Украины и не видел ни одной, которая была бы нормально подготовлена
Мне часто задают вопрос, какие реформы должны быть внедрены в первую очередь? Мы настолько опоздали, что уже нет никакой очереди. Все реформы перезрели. И, слава богу, что наступил момент (связанный с нашим Майданом), когда западные эксперты хором говорят, что за эти три года все равно сделано больше, чем за 20 предыдущих лет.
Скачок изменений в стране был совершен в 1994-1999 годах. Речь идет о реформах, проведенных во времена Кучмы. Тогда мы начали строительство нашего доморощенного и весьма неумелого капитализма. Тогда были определены фундаментальные вещи и приняты соответствующие законы. Мы живем в этом мире до сих пор: у нас есть рынок недвижимости, частная собственность на землю. На тот момент это был рывок, но после него все застыло. И главное, что мы сделали за последние три года - это признали, что очень сильно отстали.
Если вернутся к первоочередности, то самые необходимые сегодня реформы для нас - это судебная, пенсионная, реформа избирательной системы и здравоохранения. Можно также упомянуть реформу фондового рынка. Все они связаны друг с другом.
Земельная реформа встретит наибольшее сопротивлениеВ этот же список входит земельная реформа. Однако она встретит наибольшее сопротивление, сравнимое лишь с антикоррупционным движением. Если борьба с коррупцией вызовет массу конфликтов, затронув наши социальные отношения (ведь вся наша жизнь пронизана коррупцией), то земельная реформа будет столь же конфликтной из-за традиционных ценностей большей части населения Украины. Многие считают, что землю продавать нельзя. Хотя при желании вы сможете, не отходя от компьютера, приобрести немножко земельки в США или любой другой стране. У нас же - нельзя. Это традиционные доиндустриальные ценности, с которыми очень трудно бороться. А наша оппозиция с наслаждением использует доиндустриальные ценности ради снижения рейтингов тех, кто пытается что-то поменять. Но без торговли землей нельзя говорить о современном рыночном хозяйстве.
Еще один камень преткновения для многих - пенсионная реформа. Она была подготовлена еще в 2008 году. Нынешняя обновленная версия менее радикальна, исправляет целый ряд методических ошибок и справедливее (например, обновляет пенсии тем, кто очень давно их получает). И в целом в ней немало новаций, норм, позволяющих балансировать затраты на пенсии с доходами Пенсионного фонда. Без этих новаций существовать дальше невозможно, хотя снова-таки назвать реформу радикальной нельзя.
С отрицательным или нулевым ростом населения нынешняя пенсионная система - когда работающие отдают часть своих доходов неработающим - обречена. Она обречена, как финансовые пирамиды. Это своеобразный МММ, только без мошенничества. Такой тип реформ рассчитан на растущее население. Поэтому мы на какое-то время, на пару лет, сбалансируем затраты и расходы, связанные с пенсиями. Но без конца балансировать их невозможно. Чем меньше денег, тем больше балансирование осуществляется за счет ужесточения условий получения пенсий, будь-то возраст или стаж.
Поэтому все понимают (в том числе и правительство), что неизбежна пенсионная реформа, сочетающая солидарную систему, как гарантию от нужды и нищеты, и накопительную систему, обеспечивающую достойный образ жизни. Поэтому текущую версию назвать радикальной нельзя.
И тут возникает вопрос, насколько в принципе реформы подготовлены. Я наблюдаю за реформами всю современную историю Украины и не видел ни одной, которая была бы нормально подготовлена. Может быть, я ошибаюсь только в отношении денежной реформы. Остальные не были подготовлены и все время исправлялись уже на ходу. И всегда находились люди, которые зарабатывали на всех реформах.
Этот круг нам придется пройти и сейчас, потому что в государстве нет стратегических структур и навыков стратегического планирования. Если взглянуть на нашу государственную систему, то мы не увидим структуры, занимающиеся стратегией.
При этом, несмотря ни на что, мы не должны прекращать изменения, которые уже перезрели.
– Сегодня много говорят, что из-за перехода на новые коммуникативные технологии пропасть между родителями и подростками расширилась и углубилась, правда ли, что она непреодолима?
– По-моему, разрыв между родителями и детьми был всегда, и всегда родители жаловались на это молодое поколение, которое не уважает старших, – мы же все знаем великую цитату о молодых, не почитающих авторитетов, которой несколько тысяч лет. Мне кажется, сегодня никаких особых новостей нет. Более того – именно сейчас появляются родители, которые очень дорожат добрыми отношениями со своими детьми. Летом я занималась с подростками, мы обсуждали современную подростковую литературу, и кто-то из моей группы сказал: «Я читаю книжки, там у всех такие конфликты, такие проблемы, мне даже стыдно, что у меня все хорошо: любящие и понимающие родители, отличные учителя, и всего этого ужаса нет, мне неловко за свое благополучие».
У современных детей появились родители, которые заботятся не только о том, чтобы дать им все самое лучшее и обеспечить хорошее образование (хотя это никуда не делось), но они, кроме того, поняли, что главное, что они могут дать ребенку, – это ощущение внутреннего солнышка в душе, чувство, что он кому-то нужен, что его любят, что он имеет право быть на белом свете. А это именно то, что обычно пропадает из родительско-детских отношений во время подросткового кризиса – ребенку кажется, что на свете нет ни одного человека, который бы о нем заботился, думал, которому была бы небезразлична его судьба.
– Почему произошла такая перемена?
Я думаю, случилась смена родительской парадигмы – она ведь регулярно меняется. Мое поколение растили в понимании того, что мы несем моральную ответственность, обязаны отдавать какой-то долг – родителям, стране, миру. В 90-е годы родители считали, что их задача – обеспечить детям все самое лучшее и непременно запихнуть их в социальный лифт, который уходит наверх, – отсюда возникла вся эта безумная родительская гонка с ранним развитием, подготовкой к школе с двух лет. А сейчас снова смещаются акценты. Люди хотят понимать, как им быть хорошими родителями, как разговаривать со своими детьми, пытаются решать проблемы более грамотно.
Это не значит, что все родители как один стали добрыми и понимающими. Но мне кажется, что сейчас постепенно становится все больше мам и пап, которые озабочены тем, чтобы детям дома было хорошо, чтобы дом был для них местом силы, а не местом, где их бесконечно жучат, воспитывают, ругают. Может быть, свою роль сыграло распространение педагогической литературы, родительские интернет-порталы и сообщества. Интернет здесь играет положительную роль. Но, с другой стороны, он все-таки невротизирует родителей, которые получают слишком много непроверенной и противоречивой информации, и возлагают на себя неудобоносимые бремена родительских обязанностей и унывают от того, что все идет не так, как положено в идеальной семье.
Раньше – бесконечно болтали по телефону
– Оказывает ли интернет разрушительное влияние на детей? И разве он не разобщает?
– А родители разве не в интернете? Интернет – это техническое средство, как машина – средство передвижения. Машина может ездить, может давить. Так же и интернет. У него самого по себе нет ни души, ни воли, ни злонамеренности. Но, тем не менее, интернет – это средство, подразумевающее виртуализацию общения. Основное детское общение переехало в интернет, и нас, родителей, это пугает. Но с другой стороны, если бы у меня в детстве был интернет…
У меня были очень сложные отношения с одноклассниками, и мы очень во многом с ними расходились. И у меня было ощущение, что я существую не в своей среде, что я в ней чужая, а может быть, просто дефективная. И только когда я поступила в университет, я поняла, что такие люди, как я, бывают, и их много. Я была счастлива, что нашла себе подобных. Но до этого они не находились. А интернет значительно облегчает поиск себе подобных. Правда, одновременно ты находишь массу ненужного, вредного и глупого.
– И подростки точно так же запирались у себя в комнате с магнитофоном…
– Или бесконечно болтали по телефону, и у него их было не отнять. Я это еще застала со старшим ребенком, когда девочка висит на телефоне часами, ведет с подружками бессмысленные разговоры. Все эти «ха-ха», «хи-хи» бесконечно бесили родителей, пробиться к телефону было невозможно. Родители нынешних тридцатилетних это наверняка хорошо помнят. У младшего все это общение уже было перенесено во «ВКонтакте».
– То есть всегда были какие-то средства отчуждения детей от родителей?
– Конечно. Но раньше общались либо по телефону, либо вживую. И правила общения были совсем другие. Скажем, когда мы жили в университетских общежитиях и телефонов ни у кого не было, только автомат на первом этаже, считалось вполне приличным зайти по делу, если в окне горит свет. Даже если уже 11 вечера.
А сейчас все чаще говорят о том, что даже телефонный звонок, если есть другие средства связи – мессенджер, почта – уже воспринимается как вторжение в твое личное пространство.
Этот пузырь личного пространства у нас, благодаря развитию технологий, стал гораздо больше.

Cделать жизнь выносимой
– Может, когда вы говорите о современных родителях, вы судите по своему кругу, который читает книги, водит детей на резонансные выставки, и так далее?
– Конечно, я говорю о том, что я вижу вокруг себя. Конечно, если бы я жила в маленьком поселке и работала в обычной поселковой школе, я бы видела другой фрагмент реальности. Общая картина и складывается из наших частных наблюдений. Но и вокруг себя я наблюдаю разное. С одной стороны, родители действительно стараются повернуться лицом к детям. А с другой – я часто вижу, что родители не в состоянии управлять своими чувствами, легко теряют контроль над собой, не выносят разочарования – и все это обрушивается потоками на их детей. Но при этом я вижу, что у таких родителей появляется запрос на семинары по управлению гневом – и они тоже начинают появляться.
То есть люди уже осознают, что проблема есть. Они еще не научились ее решать, но они ищут решения. Разумеется, есть и те, кто считает, что орать на детей можно и нужно. Они продолжают проповедовать кнут и говорят о необходимости физических наказаний. По счастью, когда мы становимся взрослыми, мы уже можем сами выбирать свою среду и формировать свое окружение. Выбирать работу, приход, круг друзей – и реальный, и виртуальный. Словом, находиться среди людей, которые нам симпатичны и ценности которых мы разделяем. Это несколько ограничивает кругозор, конечно, зато позволяет обустроить свой уголок реальности так, чтобы жизнь была выносима.
– Но вы не можете выбирать детей в классе, в котором преподаете, и их родителей, вы волей-неволей сосуществуете с теми, кто к вам пришел.
Но у меня есть выбор – в какую школу идти работать. В любой школе есть определенная система ценностей, которыми вся школьная жизнь пронизана сверху донизу. Люди, которым в этой системе ценностей нехорошо, в этой конкретной школе не удерживаются, а другие к ней, наоборот, тянутся. Я в молодости работала в очень хорошей школе. И когда переехала в Москву – не пошла работать в любую школу – в любой после хорошей уже не смогла бы. Я часто слышу, что выбрала себе санаторно-курортный режим и хороших детей. Но хорошей школу делают не дети, а коллеги. Я могу работать не во всяком педколлективе: я хорошо понимаю, что, по всей вероятности, у меня впереди не полжизни, а меньше, а жизни активной – еще меньше, зачем же ее тратить на совмещение неприятного с бесполезным? И это не о детях – это о педагогическом коллективе и его ценностях.
«А за что тебя уважать?»
– Родители, о которых вы сказали – с травмами, гневом и криками – их стало больше или нет?
– Не знаю. Мне кажется, почти у каждого из нас в душе какая-то своя печаль, поскреби – и обнаружится детская травма, незаживающие раны. У каждого свои триггеры, от которых моментально срывает крышу. А дети мастерски умеют выводить из себя, это каждый родитель знает. Современным родителям трудно еще и потому, что отчасти поменялась парадигма отношений взрослых и детей, которая в нашем детстве была построена по принципу типа «я – начальник, ты – дурак: я командую, ты подчиняешься; я – все, ты – никто» (мама, я это не про тебя!). Я в детстве часто слышала: «А за что тебя уважать?». А моей однокласснице сказали однажды: «Мала ты еще – свое мнение иметь».
– А сейчас можно такое от учителя услышать?
– Можно, конечно. Учителя старой закалки никуда не делись. Но сейчас прекрасно отлажена система родительских жалоб в инстанции. И эта учительская грубость потихоньку перестает восприниматься как норма. Родительская грубость тоже отчасти перестает восприниматься как норма. Но дома-то это происходит за закрытыми дверями, а учительская грубость публична, и поэтому она постепенно делается достоянием общества. Мы регулярно читаем в прессе об учителях, которые то закатали жвачку ребенку в волосы, то кому-то скотчем рот заклеили, – и общество понимает, что это дикость и жесткое отношение к ребенку. Мы понимаем, что если учитель целый урок орет на детей вместо того, чтобы заниматься с ними делом – то или у него нервный срыв и ему надо на больничный и подлечиться, или он просто профнепригоден – но это никак не норма. А в моем детстве это было в порядке вещей.
Но новая парадигма, при которой авторитет зарабатывается не давлением сверху вниз, не жесткостью, а чем-то другим – профессионализмом, например, человеческими качествами, – еще не наработана. Учителям старой закалки тяжело работать в ситуации, когда их уже не уважают просто за то, что они взрослые и учителя.
Но одновременно с этим появляется понимание того, что тебя – и взрослого, и ребенка – обязаны уважать за то, что ты человек. Дети, правда, уже хорошо понимают, что их надо по умолчанию уважать, но еще не понимают, что это двусторонний процесс, что они тоже должны уважать взрослых на тех же основаниях. Это даже смешно: ситуация перевернулась, как песочные часы, и взрослые получили возможность почувствовать то, что когда-то чувствовали дети.
– У нас в школе была конфликтная комиссия по поводу отношений между двумя учениками, и завуч говорила о детях: «Они не просто ставят нас на равных с собой – они ставят нас ниже себя! Они могут сказать учителю: «А кто ты такой, чтобы я тебя слушал?»
– Это высвечивает еще одну проблему – отсутствия общественных договоренностей в области образования и отсутствия договоренностей между участниками образовательного процесса в самой школе. То есть между педагогами, родителями и ученикам. Те договоренности, которые раньше работали по умолчанию: «ты ребенок – ты никто, уважать тебя не за что, тебя привели в школу – сиди и учись, молчи и делай, что взрослые скажут», – теперь спотыкаются о вопрос ребенка: «А зачем мне все это надо? Я личность».
А ответа наша система образования пока не придумала. Общеизвестно, что можно привести лошадь к реке, но нельзя заставить пить. Школа уже заставить ребенка не может. Она возлагает эту функцию на родителей, но у родителей тоже не выходит заставлять. И все растерянно ищут новых путей: если нельзя заставить, то что можно? Как сделать так, чтобы ребенок учился? Дети – равноправные участники учебного процесса, такие же, как родители и школа. В некоторых странах (и в некоторых школах, я видела это в одной московской школе) они тоже подписывают договор, что берут на себя определенные обязанности: учиться, уважать чужое достоинство, соблюдать правила. Это постепенно начинает проникать в школьную практику: взрослые уже догадываются, что ребенок – субъект образовательного процесса, а не объект.
– Проблема в том, что даже если ребенок подпишет эти правила и потом их нарушит, он прекрасно знает, что ему ничего за это не будет, потому что школа не имеет права его исключить – его учитель даже за дверь не может выгнать по правилам безопасности.
– Это еще один нерешенный вопрос: наказывать – нехорошо и неэффективно. А если не наказывать – тогда что? Если воспитывать не страхом наказания – то как?
Мы потихоньку двигаемся от авторитарной парадигмы к относительно гуманистической, но в массовых школах обычно существует какой-то гибрид. Так же, как в мире есть демократические страны, есть тоталитарные, а есть ни то ни се, так и школах внутреннее устройство бывает разным.
И большинство школ страны, мне кажется, находятся в таком же состоянии, как и вся страна: конституция есть, законы есть, называется все демократия, но на практике все равно немножко диктатура.
Школа понимает, что по старым правилам жить нельзя – то есть она, может, и хотела бы, но с нынешними детьми это не работает, а что с ними работает, школа еще не знает. И, наверно, это самый главный вопрос сегодняшней школы или сегодняшней педагогики: а как с ними по-другому? Для родителей есть какие-то ответы, основанные, например, на теории привязанности. Но ведь и в школе работает то же самое, что и дома: хорошие отношения с детьми, их включенность их в какую-то сознательную умную взрослую жизнь, в которой интересные, занятые своим делом взрослые создают свой привлекательный мир, в котором им хочется жить и существовать, из которого не хочется убежать, зажмурившись, сказав: «Что, это и есть взрослая жизнь? Да я туда не хочу, я хочу вечно быть маленьким ребенком, лежать на диване, играть, и чтобы меня кормили». Это зависит от школы – создает она такой климат внутри себя или не создает.

Найти мастера Йоду
Я видела очень разные школы. Если их сравнивать с государствами – бывают школы, где царит диктатура. Там могут быть очень жесткие внутренние правила, очень высокие требования. Они могут давать хорошее предметное образование – но ты там не человек, а обучающийся, который должен показывать хорошие результаты. А за твои проступки твое личное дело будут разбирать на общешкольном собрании или педсовете, такая модель советской «проработки».
Другая модель – то, что я наблюдала в одной знакомой мне школе, где вообще никто никому не нужен: учителя делают вид, что учат, дети делают вид, что учатся, родители делают вид, что интересуются успехами своих детей.
Школа вечно валит на родителей какие-то свои недоработки: «Вы не умеете их воспитывать», родители валят на школу: «Вы не умеете их учить». Все друг другом недовольны, но при этом дети получают свои тройки и держатся в рамках умеренного, не совершают каких-то грубых выходок, потому что зачем им наживать себе колотье в боку. Все это работает на подношениях, бесконечных сборах денег – то на жалюзи, то горячий стол учителям в день экзамена, то на день рождения директору… Эту модель школы многие помнят по девяностым годам.
А может быть и школа, где, наоборот, всем чего-то надо, где дети с утра до вечера заняты массой интересных дел, в которых взрослые им помогают. Такие школы реально существуют, слава богу, пока еще не все додавили. И там дети не очень-то сидят в соцсетях, потому что им просто некогда – соцсети для них выполняют, скорее, функцию телефона, мессенджера, способа самоорганизации.
– Как быть с детьми, на которых таких школ не хватает? Мы-то с вами знаем, что их можно пересчитать по пальцам.
– Дети должны быть заняты каким-то делом, которое им интересно. И у них должен быть взрослый, даже, может, не родитель, а наставник. Мастер Йода, если хотите. И этого значимого взрослого надо для ребенка искать. Это вовсе не обязательно доктор наук или учитель года – это может быть дядя Вася в гараже, с которым интересно разбираться в машине и копаться в моторе, а заодно поговорить за жизнь. Один значимый взрослый. Это может быть дедушка или крестная, ради любви к которым ты не полезешь в форточку кого-то грабить. Это может быть учитель или школьный психолог, который тебя принимает, который не делает тебе постоянно замечаний, с кем ты можешь разговаривать о том, что тебе важно.
Еще очень важно, чтобы дети были включены в какую-то осмысленную социальную активность. Когда дети реально заняты делом и видят, что от них что-то зависит, что они могут сделать для общества что-то, что изменит его к лучшему, это становится для них очень мощным социализирующим фактором. У них у всех в принципе есть такой порыв. Когда они обнаруживают для себя взрослый мир со всем его неблагополучием и безобразиями, у них естественно, возникает состояние бунта: я не хочу в этот мир, здесь все плохо, все не так, как мне нравится. И если этот бунт направить в нормальное русло, показать, что они реально могут что-то сделать, чтобы в этом мире стало лучше, тогда и они себя лучше чувствуют, и им меньше хочется пойти, убить себя об стену или ловить каких-нибудь китов во «ВКонтактике».
– Даже если они просто понимают, что от них что-то зависит, что кто-то ждет их помощи, что они нужны…
– И что они реально могут ее оказать, что есть кто-то, кто их любит, кому они нужны. Любовь – это очень мощный привязывающий к жизни фактор. Любовь, которая держит тебя, и любовь, которой держишься ты. Тут изобретать ничего не надо, и наше время в этом смысле ничем не хуже и не лучше любого другого.
“Заберите меня из мира – у него пятая “двойка”
– Как быть с подростками – что будет с отношениями, если ежедневно происходят мелкие разборки, появились острые углы, которых не было раньше?
– На родителей подростков ложится невыносимая нагрузка, потому что в нашей системе они отвечают за учебу ребенка, они должны помогать ему справляться с поступлением, потому что схема этого поступления может быть для ребенка очень сложной, и от них требуется максимум самообладания, чтобы и самим не тревожиться, и ребенку помогать, служить для него источником поддержки, а не дополнительного беспокойства.
Главная задача родителя в наше время – самому оставаться умным, взрослым, спокойным, эмоционально стабильным, уравновешенным. То есть быть не еще одним маленьким, нервным и растерянным ребенком, как и он, и не ждать от него эмоциональной поддержки, не тащить все время это одеяло заботы на себя, а наоборот иметь возможность иногда укутывать ребенка этим одеялом.
Особенность нашего времени – высокая эмоциональная и учебная нагрузка на детей, особенно на стадии перехода от школы во взрослую жизнь.
Ребенку тяжелее, чем взрослому, потому что он менее гибок, у него меньше опыта, меньше навыков решения проблем.
Он еще не знает, что «и это тоже пройдет», не понимает, что завтра будет другой день, что жизнь не кончается с двойкой на ЕГЭ. Но родители бывают совершенно не способны ему помочь: они сами могут быть настолько эмоционально нестабильны, что кто бы им самим помог, кто бы их пожалел. Я бы сказала, что главная задача родителя подросткового возраста – это забота о своем душевном благополучии.
– Я правильно понимаю, что родителям крайне важно повзрослеть в этот период?
– Да, к тому времени, когда начинает взрослеть твой ребенок, хорошо бы, чтобы ты сам уже вырос, научился стоять на двух ногах, умел понять, не втянут ли ты в созависимые отношения, чтобы ты сам отвечал за свое эмоциональное состояние, а не возлагал ответственность за него на другого. Чтобы неудачи ребенка не деморализовали маму настолько, чтобы она писала в соцсетях: «Заберите меня из этого мира – у него пятая двойка за контрольную по математике». Чтобы она была в состоянии помочь и ему и себе в этой ситуации и не развалиться от этого. Надо искать какие-то техники самопомощи, способы минимизировать этот стресс в ежедневных отношениях. Научиться вместо того, чтобы каждый раз при любом взаимодействии втыкать в ребенка гвоздь: «опять ты, такой-сякой, делаешь то-то и то-то», – научиться говорить это как-то иначе. Ну вот хоть попытаться я-сообщениями разговаривать, как у Гиппенрейтер.
– «Мне не нравится, когда дети так себя ведут. Мне бы хотелось, чтобы…» Мне это напоминает диалоги в сумасшедшем доме.
– Когда я прихожу домой, например, усталая и вижу, что у меня там…
– …гора посуды, расшвырянные вещи и несделанные уроки…
– …то я вполне могу созвать детей, и сказать: «Дорогие дети, мне сегодня до семи утра надо написать статью. При этом я вижу перед собой двух взрослых детей, которые ничем не заняты, двух невыгулянных собак, гору посуды и грязь на полу в прихожей. Не кажется ли вам, что это несправедливо?»

– То есть не обвинять, исключить по возможности «а ты!..», «опять ты!…», «сколько раз тебе…», не орать, а брать логикой?
– Да. Я говорю: «Я наблюдаю проблему. Я испытываю по этому поводу такие-то чувства». Можно даже и покричать, если вы испытываете чувства такой интенсивности, что хочется кричать: «А-а-а! Какой ужас! Здесь все загажено, здесь кругом безобразие! Мне ужасно! Я хотела лечь поспать, а теперь приходится это все выгребать, вывозить и выводить!». Это все хорошо описано в нескольких книжках – например, в «Языке жизни» Маршалла Розенберга, где он пишет о теории ненасильственного общения.
В вашей ситуации вы говорите о том, что видите, что по этому поводу чувствуете и чего бы вам хотелось: «Дорогое дитя, я вижу, что ты еще читаешь и не собрана. Нам через две минуты выходить. Меня от этого уже трясет: если мы выйдем поздно, я всюду опоздаю. Что делать?» Это работает, потому что мы не набрасываемся на ребенка с воплем «ты плохой», и ребенок не отвечает нам воплем «сам ты плохой», а вынужден включиться в решение вопроса. Если в этом потренироваться – может быть и не придется всякий раз по поводу бумажки на полу исполнять арию пиковой дамы, достаточно будет сказать: «Я вижу бумажку на полу». А дитя уже поймет и скажет: «Да-да-да». А может быть, и не скажет, конечно, дети разные.
Иной подросток взрывается от любого прикосновения, и жизнь с ним – как у сапера: чуть ошибешься – взрыв.
Это очень трудно: здесь родитель не имеет права взрываться, а для него самого это эмоциональное напряжение оказывается абсолютно невыносимым. В таких случаях бывает нужна помощь специалиста, который поможет родителю разобраться с его внутренней болью, которая не дает ему вынести эту нагрузку. Львиная доля проблем в подростковом возрасте – это проблема неспособности регулировать свои эмоции и с одной, и с другой стороны. С другой стороны, это естественно: подростку положено быть невыносимым и отдаляться от родителей.
Ребенка бы съели – а начальника терпим
– Одни психологи говорят: «Не надо держать в себе раздражение, не надо это подавлять, ребенку полезно видеть, что мама – тоже живой человек», другие говорят, что ни в коем случае нельзя кричать на ребенка и транслировать ему свою повышенную тревожность. Что делать?
– Можно кричать не «аааа, ну что ты за дрянь такая!», а – «А-а-а-а! как мне плохо!». Можно?
– Контролируемый крик – разве не утопия? В тот момент, когда ты начинаешь кричать, ты перестаешь себя контролировать.
– Ну, мы же обычно удерживаемся от крика, когда нас начальник бесит, например? Ребенка бы давно уже съели со всей одеждой – а начальника терпим. А наорать на ребенка – чувствуем себя в полном праве.
Потом, наверное, надо себя понимать и видеть, когда ты уже закипаешь. И не доводить до точки невозврата.
Вовремя убегать, закрываться на кухне. Если орать уже не начал – ну не надо включать типичную блатную истерику: «Что ты сказал? Что ты сказал, а? Что ты сейчас сказал, мерзавец?» – когда ты сам себя подзаводишь, а потом уже заводишься и орешь. Пока ты в состоянии еще что-то контролировать, – можно пытаться кричать, что мне – мне плохо, мне ужасно, меня сейчас разорвет на сто кусков, я больше не могу этого выносить.
Про себя кричать, а не про то, что ребенок тебя загоняет в гроб, хоть бы его уже вообще не было. Нельзя транслировать «я хочу, чтобы тебе было больно» и «я хочу, чтобы тебя не было».
Но мамам очень трудно тоже, их иногда потому и несет. Бывает, что и ребенок сложный, и помощь ему нужна – а послушаешь маму и понимаешь, что ребенок еще ничего, а вот маме уже срочно-срочно нужна помощь, иначе она погубит и себя, и ребенка.
Надо научиться искать помощь себе. Взрослому, особенно если он родитель подростка, чрезвычайно важно обрести к этому периоду эмоциональную стабильность – это даже, наверное, важнее, чем обрести большую зарплату и начальственное положение.

База, как у робота-пылесоса
– То есть, транслировать таким образом ребенку ощущение какой-то безопасности: все хорошо, я рядом, я люблю, я пытаюсь тебя понять, я себя контролирую.
– Безопасности, устойчивости мира и того, что даже, когда ты его отпускаешь, ты тоже от этого не разрушишься, что он не разрушает тебя каждым своим поступком. Что у него еще есть эта самая база, как у робота-пылесоса: он поездит-поездит где-то, а потом всегда возвращается на базу для подпитки. Ребенок должен понимать, что база есть и что она не разряжена. А ребенку очень нужна подзарядка, во всех смыслах.
Когда он возвращается из школы – он приходит после полноценного рабочего дня. У него разряжены батарейки. Ему надо, как в русских сказках, чтобы его сначала накормили, напоили, в баньке попарили, а потом уже расспрашивали. Что делают родители? «Почему у тебя тройка по математике в электронном журнале? Что было сегодня в школе? Почему ты мне ничего не рассказываешь?» Пустите пылесос на базу, дайте ему сначала зарядиться, свалиться в угол с книжкой, отсидеться, помолчать, успокоиться. Не надо сразу на него кидаться: «Сделай уроки. Что было? А почему то и се? Почему мне твоя учительница опять звонит?» Это базовые вещи даже не из психологии, а из физиологии. Когда у меня, например, шесть уроков в день, я не могу даже сразу пойти в машину и поехать домой – я сижу на кафедре и молчу.
– Кстати говоря, многие взрослые так семье и говорят: когда я прихожу с работы, пожалуйста, полчаса меня не трогайте, мне надо прийти в себя, а потом я готов общаться. Но чтобы говорили, что нужно такое для ребенка, я слышу в первый раз.
– А он что, другое существо, что ли? У него тоже есть эта потребность, ему тоже нужна норка, в которую хочется спрятаться, завернуться в что-нибудь, съежиться, чтобы в ней было безопасно и тебя из нее не выковыривали какое-то время…
– …пылесосить, делать уроки и отчитываться за тройку в электронном журнале.
– Да-да. Дом ему нужен еще и для этого. И если дома есть родители, которые с ним могут делиться и еще какой-то своей энергией, своей любовью к жизни, если дома у него хорошо, у него запасы будут пополнены, он не будет уходить в какие-то виртуальные миры и искать там приключений.
Ксения Кнорре Дмитриева
В студии «Эха» в рамках программы «Дневник отличницы» побывал Александр Марков, историк и философ культуры, доктор филологических наук, заместитель декана факультета истории искусств РГГУ. Он приехал в Пермь по приглашению Музея современного искусства с циклом лекций, посвященных языку изобразительного искусства, его непереводимости и тому, как его следует понимать. Лекции шли на протяжении двух дней.
Ведущий эфира: Юлия Балабанова
Я поприсутствовала на ваших лекциях, в том числе у меня очень много возникло вопросов применительно к нашему современному образованию. Я бы назвала его коммуникативным разрывом между современными школьниками, даже современными семьями, и школьными традициями, которые придерживаются педагоги. Мне кажется, педагоги, с одной стороны, живут в современном медиапространстве, а с другой стороны, вынуждены преподавать в рамках классической традиции, которая, как я поняла из вашей лекции, идет еще из античности, когда любое произведение искусства перекладывается языком вербальным и только так легитимизируется. Существует ли этот коммуникационный разрыв в современной школе? И в чем он проявляется?
В российских школах он гораздо больше, чем в европейских странах. Я смотрел европейские программы по истории искусства, равно как и европейские программы по литературе. Видно, что там разрыв между традицией и модерном, искусством XVIII-XIX века и искусством XX века гораздо меньше. В рамках одной учебной программы рассматриваются в сравнительном аспекте искусства разных эпох, включая современное. Более того, в современной массовой культуре, например, фильмах Голливуда и других студий, где упоминаются произведения искусства, всегда в одном ряду может оказаться произведение классического искусства и современная инсталляция, что невозможно представить в российском кинематографе, где это совершенно разные культурные коды.
Получается парадоксальная ситуация – искусство модерна уже стало дизайном, школа может быть оформлена в супрематическом стиле, между тем супрематизм не является частью школьной программы, даже несмотря на канонизацию близкого к этим кругам Маяковского в рамках курса истории литературы.
Я объясняю эту ситуацию несколькими причинами. Во-первых, искусство как социальный институт, а не как творчество, появилось в России достаточно поздно. Когда Карл Брюллов, заметим, итальянский обрусевший художник, создал «Последний день Помпеи», все восхищались этим именно как началом русского искусства. И был последний день Помпеи для русской кисти первым днем. Получается, что в пушкинскую эпоху и даже позднее, до великих реформ Александра II были споры о том, существует ли русское искусство, русская литература как таковые.
Потом во время националистического подъема во всей Европе, который затронул и Россию, существование русского искусства было признано, но достаточно парадоксальным образом - в качестве канонизированных образцов русского искусства использовались как раз образцы наиболее космополитического на тот момент искусства. Например, Шишкин или Айвазовский, которые как раз наиболее следуют космополитическому языку, воспринимаются как что-то национальное.
Такое же стремление к канонизации именно локального создания национального канона привело к тому, что целый ряд художников стал пониматься в школьной интерпретации упрощенно. Скажем, для любого школьника сегодня Илья Ефимович Репин остается автором нескольких картин, социально ангажированных, причем парадоксальность этих картин обычно не привлекает внимания ни учителей, ни школьников. Но при этом не учитывается самое главное – своеобразная протеичность Репина, возможность его перевоплощаться в различный стиль.
Национальное стало ассоциироваться с социально ангажированным либо с определенной поэзией локальной природы. Все, что не вписывается в этот канон, рассматривается как маргинальное либо нуждающееся в специальном рассмотрении.
- Протеичность?
Способность к перевоплощению. Так Пушкин и пушкинская эпоха использовали это слово, я позволил себе тоже это сделать. Возможность Репина становиться художником любого стиля, воспроизводить символистский стиль на высоком уровне совершенно игнорируется. Национальное стало ассоциироваться с социально ангажированным либо с определенной поэзией локальной, северорусской или центральнорусской природы. Все, что не вписывается в этот канон, рассматривается как маргинальное либо нуждающееся в специальном рассмотрении, не может быть канонизировано в школе. Невозможно в школе представить даже мир искусников или позднего Репина.
Так это же все равно наши художники, получается. У нас были свои модернисты, футуристы. Почему российская школа так невосприимчива к наследию XX века?
Прежде всего, потому, что к ХХ веку оказалась невосприимчива наша теоретическая мысль. Традиция возникла очень поздно, была канонизирована и абсолютизирована, сама российская теория не соответствует тому, что происходило в ХХ веке в теории западной. За теми яркими, гениальными, но тем более показательными исключениями, как Михаил Михайлович Бахтин или российский формализм и структурализм. Конечно, в чем-то они вошли в школьную программу, но не образовали до сих пор единого языка. Даже если школьник в хорошей школе и умеет анализировать поэзию по Лотману, это не значит, что он сможет применить тот же лотмановский метод к анализу истории искусства, хотя сам Лотман уделял немалое внимание семиотическому анализу искусства.
Человек, который хорошо пишет сочинения, с трудом пишет курсовую работу в вузе, чего нельзя представить ни в США, ни в Европе. У нас сильный разрыв между нормой школьного сочинения и курсовой работы, где совершенно разные языки.
- Правильно ли я понимаю, что в современной российской школе XXI века преподавание ведется по неким гимназическим канонам XIX века?
Не просто гимназический канон, потому что он имел в виду одну важную вещь, которая была утрачена в советской школе - возможность создавать произведения. Когда гимназист изучал литературу, в это входило умение написать стих нужным размером, сочинение как произведение искусства, правильное изложение, создавать мемуары, писать письма... Гимназия, как подразумевалось, передает не просто теоретические, а практические знания литературы.
Советское время из-за господства цензуры и самоцензуры эти практические навыки были во многом утрачены или сохранены в крайне ослабленном и идеологизированном виде. Поэтому школьник вроде бы умеет писать сочинения, но при этом не умеет писать дальше. Человек, который хорошо пишет сочинения, например, с трудом пишет курсовую работу в вузе, чего нельзя представить ни в США, ни в Европе, где сочинения являются одной из ступенек к писанию в вузе. Кто хорошо пишет сочинения в школе, тот хорошо пишет курсовые и эссе в вузе, а потом речи в качестве политика, общественного деятеля и так далее. У нас же существует сильный разрыв между нормой школьного сочинения и курсовой работы, где совершенно разные языки, принципы построения текста.
Раз уже мы заговорили о сочинении, сейчас активно обсуждается возвращение такого института, и есть позиция, что как раз в советской школе это было одно из самых сильных мест. И утрата культуры написания сочинения – один из самых главных провалов в нашей современной школе. Как вы к этому относитесь?
Я знакомился с некоторыми материалами рабочей группы как раз занятой возвращением сочинений, стараюсь следить за тем, как обсуждается этот вопрос. За тем, что делают Сергей Волков, Игорь Неморенко, нынешний ректор московского педагогического университета и другие деятели нашего образования, занятые возвращением сочинения. Многое в том, что они делают, мне симпатично, потому что они понимают сочинение, прежде всего, как обосновывающее эссе. Они исходят из того, что сочинение – это, прежде всего, рациональное обоснование определенного тезиса, что оно не может быть воспроизведением слов учителя или учебника, невозможно создать канон сочинения.
Что касается ностальгии по советской школе, для меня это всегда немного сложный и парадоксальный вопрос. Действительно ли советская школа учила мыслить? Как вы знаете, основной аргумент противников ЕГЭ был такой, что раньше на уроке учили мыслить, теперь - просто отвечать на вопросы ЕГЭ. Но насколько советская школа учила мыслить? Само это представление для меня связано не с советской школой как институтом, а с целым рядом реформ, которые проводились внутри советской школы, в том числе консервативных, возвращавших отчасти ситуацию к гимназии, и под «мыслить» здесь имеется в виду именно отход от профессионального принципа.
Советская школа вначале была задумана как трудовая, профессиональная школа, обеспечивающая прежде всего создание профессионалов для нового государства, людей грамотных, способных быстро усваивать профессиональные навыки, стать инженерами, врачами и так далее. Потом, уже в хрущевское-брежневское время, чувствовался некоторый избыток профессионалов, были идеи гуманитаризации школы, создания школы, которая воспитывает личность, просвещает человека. Именно по этому идеалу, скорее, ностальгируют, причем идеал проецируется на профессионализм, который понимается уже в другом смысле. Имеется в виду, что школа создавала норму. Многие родители переживают, что современная школа не создает норму, в отличие от старой, которая изготавливала из людей профессионалов, была фабричная, индустриальная. Это очень интересная тоска в постиндустриальном мире по индустриальной цивилизации.
Мне очень понравилась мысль, прозвучавшая на вашей лекции о языке изобразительного искусства, что школа наследует античные традиции, когда слово занимает главенствующую позицию. По сути, все школьное преподавание сводится к истолкованию текстов, художественных произведений, живописи, музыки и так далее. Помню, я пыталась на каникулах заранее прочитать все по списку литературы, потому что мне претило изучать Достоевского в изложении учителя. Каким образом вы видите эту проблему? Существует ли она? Школьное образование как бесконечное истолкование реальности?
Истолкование, как оно понималось в античной риторике и как понимается в современной школе – это не столько теоретическая, сколько практическая дисциплина, которая и созидает государственных деятелей, юристов, всех тех, кто принимает участие в деятельной или общественной жизни. Именно так понимали задачи истолкования во времена Аристотеля и Цицерона, во времена национальных государств XIX века. Тот, кто умеет интерпретировать, владеет теми ключами, которые позволяют определенным образом представить реальность и место человека в реальности. Интересно при этом некоторое сужение, которое произошло в советской школе, когда говорят о правильности подхода, говорят о грамотности. В качестве хвалебного эпитета у нас используется эпитет «грамотный», а не эпитет «логически мыслящий». Во власть надо пускать грамотных, а не безграмотных.
С точки зрения античности, грамотность – это, прежде всего, критическая способность, умение оценивать произведение, разобраться. Тогда как грамотность школьная подразумевает изучение определенной нормы как на текстах, бесспорно обладающих художественной ценностью, так и на текстах, написанных канцеляритом.
- Соответствующих некой норме.
Да, но главное, что при этом утрачивается одно из главных свойств античной грамотности. С точки зрения античности грамотность – это, прежде всего, критическая способность, умение оценивать произведение, разобраться, хорошо построено оно или нет. Тогда как грамотность школьная подразумевает изучение определенной нормы как на текстах, бесспорно обладающих художественной ценностью, так и на текстах, написанных канцеляритом, но которые тоже при этом строятся как грамотные. Конечно, я не отношусь к тем, кто видит в ЕГЭ мировое зло. Но то, что тексты для изложения часто давались написанные на канцелярите – это отрицательная сторона той формы ЕГЭ, которая существует в настоящий момент.
- Вкус как таковой в школе, получается, не воспитывается.
В советской школе воспитание вкуса не происходило, и это видно в сравнении с европейским опытом, где воспитание вкуса вкладывается не только в занятия по гуманитарным, но и в занятия по естественным наукам. Например, экологическая тематика во многом связана с воспитанием вкуса. Допустим, внимание к явлениям природы с точки зрения экологической, внимание к языку с точки зрения истории языка, внимание к традициям с точки зрения личной, семейной памяти – все это способствует формированию вкуса. Советская школа именно строилась на том, что значительная часть явлений принципиально отрывается от контекста. Например, советская дружба народов никак не связана с индивидуальной памятью. Дружба 15 республик никак не связана с той реальной исторической памятью, которая была у тех народов, которые вошли в состав СССР.
Вы как человек, работающий в высшей школе, встречающий как минимум абитуриентов и студентов, вчерашних выпускников, что можете сказать по поводу того, насколько современная российская школа оторвалась от советской? В чем есть различия?
Прежде всего, выпускники современных школ мыслят гораздо более самостоятельно. Я постоянно наблюдал в советское время, которого застал самый край, насколько люди пытаются говорить в тех же школьных сочинениях штампами, которые явно им не принадлежат. Это превращается в лукавую игру. Современные школьники все-таки высказывают напрямую то, что думают. Особенно парадоксом советской школы было то, что требовалось нормирующие тексты писать о произведениях, которые в XIX веке создавались не как классика, а как провокационные, социально ангажированные. Ясно, что «Преступление и наказание» и даже «Война и мир» создавались не как классика, а как актуальная повестка, как то, что прямо сейчас должно провоцировать нашу мысль, дискуссию. И когда пытаются использовать классические штампы по отношению к Достоевскому и Толстому, которые были не классические... Конечно, это создавало полную несамостоятельность суждений.
Смотря что мы считаем сочинением. Если нужно произведение под философское эссе, тогда его материалом может быть что угодно, начиная от Гомера и кончая современной литературой. Парадокс в том, что многие учителя современную литературу и поэзию не знают. Я постоянно сталкиваюсь с тем, что современные учителя не имеют представления о современной поэзии и говорят, что она недостаточно трогательна для них. Хотя я сразу же указываю на «Тетрадь Вероники» Геннадия Айги, стихи Леонида Аранзона как пример совершенно проницательной, тонкой, проникновенной лирики, которая стоит на высоте европейского модернизма.
Еще один аспект – мы начали говорить о том, что любое явление легитимизируется, когда оно описано классическими штампами. Возможна ли непосредственность в школе, взаимодействие в обход классической традиции?
В классической культуре непосредственность не только была, но и больше всего ценилась. Другое дело, что если в нашей культуре, близкой к современности, культуре предмодернистской, романтической под непосредственностью имеется в виду нарушение правил, там непосредственность, скорее, отождествлялась с наглядностью. Создание наглядности было идеалом риторики – представить предмет так, как он присутствует. Это было задачей не только эстетической, но и целостностной. Казалось, что именно так показанный предмет стоит перед нашими глазами – это и есть та особенная искренность в понимании предмета, умение увидеть предмет как он есть. В культуре романтической искренность скорее связывается с ломкой штампов и попыткой отстоять свое «Я» от штампов. Романтическая культура, конечно, связана с развитием, если говорить социологически, представления о частной собственности, о том, что обладание собственностью уникально, всякие права на собственность не могут быть до конца прописаны. Они отчасти определяются и традицией, и нравом, а не только писаным законом, что в такой-то стране они одни, а в другой другие. И бунт романтизма против писаных правил и канонов полностью соответствует становлению романтических представлений о собственности.
Если говорить о клиповом мышлении современных школьников, то, скорее, здесь можно видеть не столько смешение и винегрет из знаний и впечатлений, сколько желание разыгрывать. Я наблюдаю современных детей и вижу, что для них просмотр клипов – возможность для импровизации.
Это далекий экскурс, мне это надо немножко переварить. Попробую оперировать более простыми категориями. Для современной российской школы очевиден приоритет слова над визуальностью? Мы все равно взаимодействуем на уровне текстов, а у поколения школьников клиповое мышление, они воспринимают действительность гораздо более непосредственно. Это то, о чем вы говорите - нет перемычки. Они гораздо более искренны и свободны в проявлении своих мыслей, чувств, идей.
Да, но клиповое мышление не означает обязательной искренности. Она может быть и в словесном, и в клиповом мышлении, и не живет в конкретном воплощении. Если говорить о клиповом мышлении современных школьников, то, к сожалению, скорее здесь можно видеть не столько смешение и винегрет из знаний, впечатлений и прочего, сколько желание разыгрывать. Я наблюдаю современных детей и вижу, что для них просмотр клипов – возможность для импровизации. Они смотрят тот или иной музыкальный клип или фильм и с куклами импровизируют то же самое. Для них клип – это не винегрет, не ералаш из друг с другом не связанных видений, а набор цветных ниток, из которых можно сделать свой узор.
Такой конструктор. Можем ли мы говорить об умирании словесной культуры в современной молодежной среде? Потеря интереса к тексту как таковому.
Думаю, конечно, гораздо большая агония словесной культуры была в постреволюционный период. Тексты Андрея Платонова и многие другие памятники того времени свидетельствуют о том, что новое слово воспринимается как чужое, принадлежащее власти, канцеляриту, умершему и отжившему сословному обществу, заведомо устаревшее слово или заведомо принадлежащее тому проекту, в котором человек себя не находит. Если говорить сейчас, то я сталкиваюсь с тем, что при ослаблении интереса к пространным обсуждениям я постоянно сталкиваюсь с тем, что часто слова воспринимаются как искренние, даже слова довольно сложные, что школьники гораздо больше способны работать с абстрактными понятиями, чем школьники позднесоветского времени. Это парадоксально, но это так. По видимости, это связано с развитием информационных технологий.
- С нашей глобализацией?
Да, к тому, что они представляют, что в качестве коммуникативных слов могут выступать самые абстрактные понятия. Поэтому допустим, такой хит современной детской культуры, как «Смешарики», где герои употребляют большое количество абстрактных понятий, очень показателен.
Вы проводили параллели, сравнивали современные российскую и европейскую школу. Как вы считаете, в каком направлении нашей следовало бы двигаться для того, чтобы стать равной своему времени?
Я думаю, что в современной российской школе необходимы настоящие основы таких наук, как политика, право, экономика. То обществознание, которое существует в современной российской школе, оперирует устаревшими понятиями об обществе, часто условными, перевранными на не очень продуманном языке. В результате школьники запоминают про «семья – ячейка общества», «социальная структура» и так далее, при этом не зная, какой смысл в это надо вкладывать. Я бы сказал, что нужна линейка таких учебников, пусть даже небольших, рассчитанных не на полгода, а на меньший срок, где бы объяснялись основы экономики, права, государства и так далее. Но без тех штампов, которые есть в современной школе.
- Интересно, где бы взять такие учебники?
Европейцам проще, у них существует непрерывная традиция экономической, политической и прочей рефлексии. То, что обязательно, допустим, политика неотделима от теоретического понимания. У нас же получается, что политик может заниматься своим делом, совершенно не имея политического языка. Политика очень часто у нас понимается как борьба за власть, хотя природа политики совершенно другая.
- В отношении предметов, связанных с искусством и культурой, какие бы вы предложили реформаторские шаги?
Я думаю, что курс МХК надо сохранить, но, конечно, обогатить. Необходимо знание современных искусств. И изучение кино должно проводиться не только в рамках проектов «100 фильмов», которые будут когда-то отсмотрены, а просмотры и интерпретации фильма как произведения искусства. Сравнение театральной постановки и кинопостановки, сравнение фильма и книги. Все то, что школьники делают на практике, они должны попытаться облечь в слова сочинения. И это, на мой взгляд, навык социализации, а не только навык изложения, умение понимать, что важного искусство сообщает для моего социального существования здесь и сейчас.
Нужно продумать систему уроков, которые бы давали в школах профессиональные искусствоведы. Конечно, школьников можно привести в музей, где сотрудники им все расскажут и покажут. Но я думаю, этого недостаточно.
Для этого нужно, чтобы как минимум педагоги могли объяснить, что же искусство означает важного. Как у нас обстоит дело с подготовкой кадров, которые бы соответствовали современным требованиям к преподавателям той же МХК?
Вся проблема в том, что на западе это обычно делают люди с университетским образованием. У нас система педагогических вузов… Она имеет свои преимущества, и действительно для некоторых школьных дисциплин разработана очень хорошая методика преподавания. Но к МХК, которая появилась уже в постперестроечное время, увы, это не относится.
То есть надо сначала на уровне высшей школы готовить педагогов или как? Или просто профессорам приходить в школы, а школам объединяться в некие сетевые сообщества?
Нужно продумать систему уроков, которые бы давали в школах профессиональные искусствоведы. Конечно, школьников можно привести в музей, где сотрудники им все расскажут и покажут. Но я думаю, этого недостаточно. Кроме того, искусствоведение могут в школе преподавать не хуже люди с хорошим гуманитарным образованием, скажем, если это хороший историк с университетским образованием, то он может объяснять и историю искусства, как это появилось, для чего, зачем, что это значило для людей того времени. Или филолог. Но человек с университетским образованием, который дает универсальную перспективу, думаю, может объяснять искусство школьникам даже лучше, чем человек с искусствоведческим образованием, но не имеющий достаточно широкой исторической перспективы, умеющий интерпретировать сюжет, стиль или технику, но не исторический контекст.
Какую роль должны играть вещи в жизни человека? Над этим вопросом предлагает задуматься И.А. Ильин.
Рассуждая над данной проблемой, автор отмечает, что люди " придают чрезмерное значение всякому имуществу и богатству", надеясь обрести счастье. И.А. Ильин уверен, что все, кто так думает, проживут несчастливую жизнь. Чтобы привлечь внимание читателей, автор рассказывает о пожилом человеке, который был не богат, рано покинул родной дом, " образование пополнял ненасытным чтением". Больше всего он радовался, когда дарил изящнейшую вещицу талантливому человеку.("Ведь я помог ему найти в жизни маленькую радость"). Автор обращает внимание на то, как прожить жизнь: "где нужно, там легко списывать со счета, где сердце заговорит, с радостью отдавать, не требовать возврата, если у другого нужда".
Так, писатель заставляет задуматься каждого над смыслом жизни.
Над этой проблемой рассуждали многие писатели. Вспомним рассказ И.А. Бунина "Господин из Сан-Франциско". Герой произведения потратил все свои силы на то, чтобы стать богатым. Но когда миллионное состояние было накоплено, то получилось, что жизни уже практически и не осталось.
Господин внезапно умер в самом начале кругосветного путешествия, не оставив никакой памяти о себе, никто не может вспомнить даже его имени.
Такая же бессмысленная жизнь и у героя рассказа А.П. Чехова "Крыжовник". Самой заветной его мечтой было приобретение усадьбы с садом, в которой он мог бы выращивать крыжовник. Цель захватывает героя целиком, он наконец ее достигает. Но на пути к своему счастью он теряет человеческий облик: располнел, обрюзг. Зацикленность только на материальных ценностях губит человека, приводит к духовной деградации.
В заключение хочу отметить, что смысл жизни человека не должен зависеть от материальных вещей, иначе можно прожить жизнь, даже не почувствовав и не ощутив ее.
Эффективная подготовка к ЕГЭ (все предметы) - начать подготовку
Обновлено: 2017-07-03
Внимание!
Спасибо за внимание.
Если Вы заметили ошибку или опечатку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
.
Тем самым окажете неоценимую пользу проекту и другим читателям.
Полезный материал по теме